Создателями цивилизационного подхода были: Создателями цивилизационного подхода были — Универ soloBY
Цивилизационный подход: интерпретация или дезинформация?
Цивилизационный подход: интерпретация или дезинформация?
На вопрос о сути цивилизационного подхода каждый второй школьный учитель и каждый третий обыватель, знакомый с этим подходом, отзовется о нем крайне негативно. Среди характеристик наверняка будут присутствовать отсутствие точного определения термина «цивилизация», не разработанность представлений о внутренней структуре и этапах развития этого исторического феномена, «заумность» и насыщенность терминологией, не ясной никому кроме адептов этого учения… Не в последнюю очередь будет обращено внимание на крайнюю идеологическую предвзятость многих современных адептов цивилизационного подхода, в полном противоречии с неотделимым от понятия «цивилизации» идеалом многополярного мира выступающих с позиций либерального глобализма. Современные «последователи» цивилизационного подхода умудряются причислять себя к таковым, отвергая основные положения наследия его основателей.
Между тем, если обратиться к трудам основателей цивилизационного подхода — К.Н. Леонтьева, Н.Я. Данилевского, О.А. Шпенглера и А.Д. Тойнби без какой бы то ни было идеологической предвзятости, то мы найдем в них и определение понятия «цивилизации», и четкое представление о том, из чего она состоит, как развивается, поймем, чем, на их взгляд, ценен многоукладный мир, состоящий из цивилизаций, разнящихся своей инаковостью. При определенной склонности, например, Шпенглера к сложному смыслообразованию, мы не найдем ни в его трудах, ни в трудах других основателей цивилизационного подхода никакой особой «заумности», или, по крайней мере, чего-то такого, в чем нельзя было бы разобраться при некотором усилии.
Возникает вопрос, откуда же возникло такое несоответствие между трудами основателей цивилизационного подхода и современным представлением о них? Это является следствием интерпретаций трудов Леонтьева, Данилевского, Шпенглера и Тойнби современными исследователями, которые имеют как объективные, так и субъективные причины. Если к последним относится неуемное стремление попасть в модный «mainstream», и даже исповедуя цивилизационный подход, доказать свою принадлежность к «единому цивилизованному человечеству», то объективной причиной подобного положения вещей является определенный системный кризис самой методологии научного знания.
Ныне трактовка понятия «цивилизационный подход» (и, соответственно, подбор трудов по нему) весьма широка: в современной историографии в представителей цивилизационного подхода вдруг «превратились» хорошо знакомые авторы (В. О. Ключевский, Е. Л. Чаадаев и Н. Г. Чернышевский), доселе не относимые к данному направлению, и напротив, те, кто действительно относится к этому направлению (как, например, Н. Я. Данилевский), зачастую не соотносятся с понятием «цивилизационный подход».
О. Ключевский, Е. Л. Чаадаев и Н. Г. Чернышевский), доселе не относимые к данному направлению, и напротив, те, кто действительно относится к этому направлению (как, например, Н. Я. Данилевский), зачастую не соотносятся с понятием «цивилизационный подход».
Дело здесь в том, что многие исследователи просто не задаются вопросом — по каким признакам можно включать (или не включать) того или иного автора в состав той или иной научной школы, и, закономерным образом, создают совершенно искусственные классификации, основанные на одном-двух малозначительных, лежащих на поверхности, признаках. Два почти хрестоматийных примера это так называемые «циклизм» (исследователи буквально «заставляют» представителей самых разных цивилизаций, традиций и взглядов быть «предшественниками» и «родоначальниками» цивилизационного подхода на основании такого тривиального признака, как упоминание о некой системе исторического развития, напоминающей схему «рождение — расцвет — распад») и «органицизм» (представление об исторической реальности, которое подразумевает весьма широкий спектр исследовательских методов — от простого уподобления цивилизации и организма, до пантеистического представления о цивилизации как живом организме), представители которых чуть ли не априори позиционируются в качестве цивилизационщиков.
Характернейшей особенностью современных работ, претендующих на представление цивилизационного подхода, либо рассматривающих актуальные для него исторические феномены, можно назвать лингвистический парадокс: происходит соположение не только наследий разных мыслителей, но и самих исторических явлений не на основе совокупности их признаков (форма + содержание и т.д.), а на основе синонимичности терминов, не взирая на антонимичность конкретного термина и вкладываемого в него смысла… Так, один автор объединяет либерально-прогресистский взгляд на историю с цивилизационным подходом на основании такого тривиального факта, что представители обоих направлений употребляют термин «цивилизация» (хотя и вкладывают в него совершенно разный смысл!), а другой принимает за концепцию «Третьего Рима» взгляды лишь тех исследователей, которые либо пользовались очень важным для цивилизационного подхода словосочетанием (или раздельным употреблением в одном смысловом контексте) «Третий Рим», либо обращали внимание не только на преемство России по отношению к Византии, но и на ее преемство по отношению к Риму.
Вслед за игнорированием необходимости рассмотрения самого вопроса о признаках, которые позволяют включать мыслителей в школы, а исторические факты в явления и явления в закономерности, налицо раздробленность восприятия наследия тех мыслителей, на которых уже пал выбор (и самого предмета их исследования). И здесь речь идет не столько о том, что восприятие целокупного научного достоинства Леонтьева или Шпенглера представляется возможным лишь в ходе употребления междисциплинарного метода (необходимо использование, как минимум, данных истории, религиоведения, искусствоведения и философии), сколько о том, что абсолютизация какой-либо одной стороны цивилизационной жизни (чаще всего государственной: политической, социальной, экономической) — это общее место в историографии.
Раздробление предмета исследования происходит не только при выборе специальности исследования, но и при выборе хронологических рамок: для восприятия цивилизационного подхода необходим уход от описания эволюционности взглядов рассматриваемых авторов, и их рассмотрение в оформленном, законченном виде (скажем, для Леонтьева это 1871–1891 гг.). Действительно, на уровне исследования взглядов одного только представителя цивилизационного подхода рассмотрение его взглядов вне их эволюции, «в застывшем виде», можно назвать «неисторичным», но при постановке на порядок более широкой цели изыскания (такой как характеристика фундаментальных положений цивилизационного подхода), исследователь, по необходимости, должен абстрагироваться от вопроса эволюции их воззрений.
Таким образом, в современной историографии значительная часть составляющих мировоззрения Леонтьева, Данилевского, Шпенглера и Тойнби, в той или иной мере, освещена историками, богословами, философами, культурологами, социологами, литературоведами, религиоведами, политологами, публицистами. Однако, если смотреть не по отдельным направлениям (значительные достижения в леонтеоведении и историографии Данилевского, интересные явления в шпенглероведении и отечественной тойнбиане), а на цивилизационный подход как целостное явление, то ситуация представляется совсем по-иному и весьма печально.
Можно говорить о том, что в нынешней России не только отсутствует сколь ни будь консолидированное научное направление, которое может именоваться «цивилизационным подходом» (как представляли его себе Леонтьев, Данилевский, Шпенглер и Тойнби), — но зачастую нет и четкого представления о сущности идей основателей этого подхода. Их наследие весьма часто противопоставляется — в основном по «партийному», «идейному», а то и «классовому» признаку.
Поэтому, при всей многочисленности монографий, диссертаций и статей, посвященных цивилизациям, выделяется гораздо меньшее число работ, действительно продолжающих традицию цивилизационного подхода. Остается весьма актуальной проблема выявления основных проблем в восприятии цивилизационного подхода современной наукой и российским обществом и нахождения путей для решения этих проблем, — с целью снятия с данной темы налета предвзятости, и включения подлинного наследия основателей данного подхода в научный оборот и общественное мировосприятие.
© Все права защищены http://www.portal-slovo.ru
Тестовые задания
по дисциплине «Отечественная история».
I.Вводная тема
1. Исторический источник это:
А) произведение созданное человеком, продукт культуры
Б) реконструкция прошлого исследователями
В) сохранившийся документ о событиях прошлого
Г) летописные свидетельства о событиях прошлого
2. Установите
хронологическую последовательность
основных видов исторических источников:
Установите
хронологическую последовательность
основных видов исторических источников:
А) письменные
Б) вещественные
В) изобразительные
Г) технотронные
3. Установите последовательность деятельности видных дореволюционных историков:
А) В. Ключевский
Б) С. Соловьев
В) М. Карамзин
Г) В. Татищев
4. Первая попытка создать обобщающий труд по истории принадлежала современнику Петра I:
А) В. Ключевскому
Б) В. Татищеву
В) М. Ломоносову
Г) Н. Карамзину
5. Учебный процесс в Высшей школе России представляет изучение студентами дисциплин следующих направлений _____________________________.
6. Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания называется:
А) методологией
Б) субъективизмом
В) историографией
Г) рационализмом
7.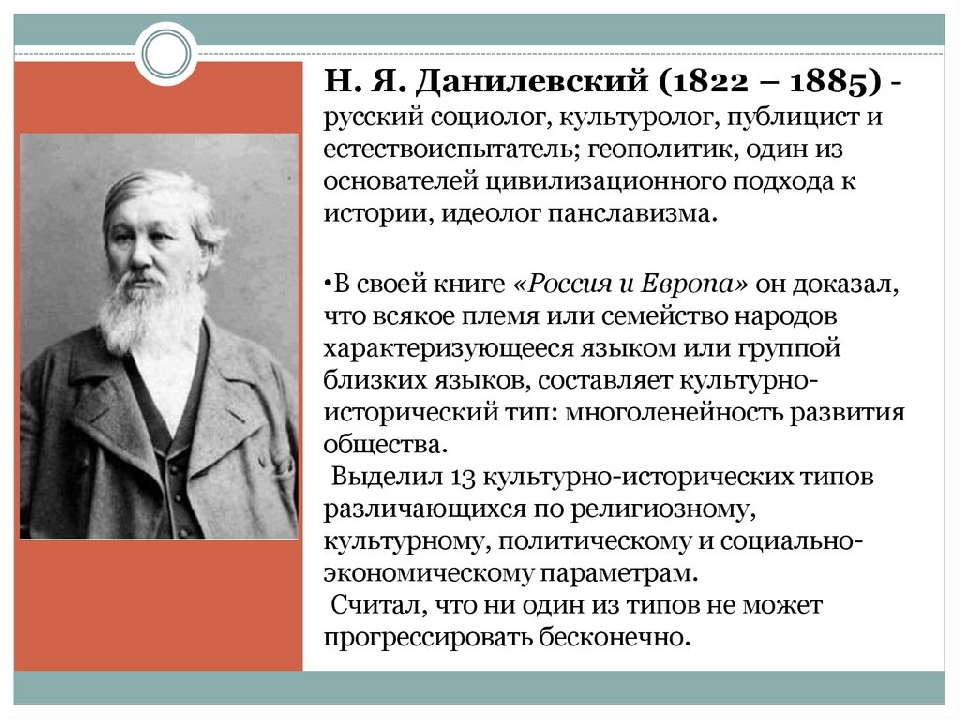 Впервые вопрос
о происхождении государства у русских
был поставлен:
Впервые вопрос
о происхождении государства у русских
был поставлен:
А) летописцем Нестором
Б) немецкими учеными Г. Миллером и Г. Байером
В) М. Ломоносовым
Г) древнегреческим историком Геродотом
8. Первая «берестяная грамота» была найдена в : А) Киеве Б) Новгороде В) Москве Г) Твери
9. Установите соответствие между названиями теорий развития исторического процесса и их содержанием:
1. формационный | А) развитие человечества определяется уровнем производительных сил и производственных отношений |
2. цивилизационный | Б) классовая борьба – движущая сила развития общества |
3. | В) особенности развития общества определяются своеобразным единством сторон его жизни |
Г) проблематикой исторических исследований является человек в его естественном окружении | |
Д) прогресс человечества определяет технологическое развитие | |
Е) предметом изучения истории является движение человека к Богу |
10.Установите соответствие историков и проблем их исследования:
1. А. Янин | А) древнерусское государство IX-XI вв. |
2. В. Кобрин | Б) монголо–татарское иго |
3. | В) период феодализма в России |
4. А. Зимин | Г) происхождение русского государства |
5. Г. Миллер, Г. Байер |
11. Установите соответствие видов источников, характерных для определенных периодов истории России:
1. XI–XVII вв. | А) берестяные грамоты |
2. конец XVII-XVIII вв | Б) летописи |
В) хронографы | |
Г) мемуары | |
Д) художественная литература | |
Е) научные сочинения | |
Ж) периодическая печать |
12. Великий русский
ученый XVIII века, противник норманской теории:
Великий русский
ученый XVIII века, противник норманской теории:
А) М. Ломоносов
Б) С. Соловьев
В) Н. Карамзин
Г) Т. Грановский
13. Укажите соответствие между историком и его трудом:
1) Н. Карамзин
2) В. Ключевский
3) М. Покровский
А) « Курс русской истории»
Б) «История Государства Российского»
В) «История науки и борьбы классов»
14. Создателем формационного подхода был:
А) К. Маркс
Б) А. Тойнби
В) П. Сорокин
Г) Г. Байер
15. Создателями цивилизационного подхода были:
А) К. Маркс, Ф. Энгельс
Б) А. Тойнби, Н. Данилевский
В) Г. Байер, Г. Миллер
Г) В. Кобрин, А.
Зимин
Кобрин, А.
Зимин
16. Марксистский подход в истории человеческого общества определяет ________ общественно-экономических формаций:
А) 5
Б) 4
В) 3
Г) 2
17. Подход, в соответствии с которым исторический процесс представляется как последовательная смена в истории человечества общественно-экономических формаций получил название:
А) рациональный
Б) марксистский
В) цивилизационный
Г) теологический
18. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее определением:
1) социальная память
2) прогностическая
3) воспитательная
А) способ идентификации и организации общества и личности
Б) формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств
В) предвидение будущего
19. Установите
соответствие между функцией исторического
знания и ее определением:
Установите
соответствие между функцией исторического
знания и ее определением:
1) познавательная
2) прогностическая
3) воспитательная
А) формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств
Б) выявление закономерностей исторического развития
В) предвидение будущего
20. Установите соответствие между методом исторического познания и его определением:
1) сравнительный
2) типологический
3) проблемно-хронологический
А) классификация исторических знаний, событий, объектов
Б) изучение последовательности исторических событий во времени
В) сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени
21. Познавательная функция исторического познания заключается в:
А) выработке научно обоснованного политического курса
Б) формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств
В) выявление закономерностей исторического развития
Г) идентификации и ориентации общества, личности
22. Ретроспективный
метод изучения истории заключается в:
Ретроспективный
метод изучения истории заключается в:
А) описании исторических событий и явлений
Б) классификации исторических явлений, событий, фактов
В) последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события
Г) сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени
23. Наукой которая не относится к вспомогательным историческим дисциплинам является:
А) нумизматика
Б) социология
В) топонимика
Г) археология
24. Проблемно-хронологический метод изучения истории заключается в:
А) изучение последовательности исторических событий во времени
Б) описании исторических событий и явлений
В) классификации исторических явлений, событий, фактов
Г) выявление закономерностей исторического развития
II. Древнерусское государство.
Древнерусское государство.
1. Прочтите отрывок из документа и укажите имя князя, о котором идет речь.
«В этом году сказала дружина князю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы — наги; пойди, князь, с нами за данью, тогда и ты добудешь и мы». И послушал их <……….>, пошел к древлянам за данью… Древляне же, услышав, кто <………..> идет опять, так подумали со своим князем Малом: «Если повалится волк к овцам, то унесет все стадо».
А) Олег
Б) Святослав
В) Игорь
Г) Владимир
Слово о «голом (или не вполне голом) короле»
Цивилизационный подход рассматривается критически с точки зрения как научной методологии, так и его социальной значимости. Автор показывает, что этот подход не только не отвечает научным требованиям и страдает очевидной декларативностью, но и несет обществу сомнительные «знания», подпитывающие расистские настроения.
Цивилизационный подход появился в советской науке на исходе брежневской эпохи и был выражением недовольства медиевистов и востоковедов ортодоксальным советским марксизмом, который к тому времени давно уже растерял весь свой революционный заряд и превратился в по-чиновничьи скучную охранительную идеологию (Новикова 1992). Мне кажется, что неудовольствие историков вызывал не формационный подход сам по себе, а жесткие рамки, которые задавали советская цензура и самоцензура, делавшие определенные темы запретными и не подлежащими научной разработке. Ведь вовсе не формационный подход мешал исследовать роль религии и религиозного мировоззрения в истории, и не он ставил препоны на пути изучения консервативных идеологий. Советские философы и историки хорошо знали марксистское положение об обратном влиянии надстройки на базис, но заниматься серьезным исследованием этого интригующего явления мешал чиновничий страх перед «подрывом устоев», под которыми понималось учение о первичности экономического базиса. А между тем разочарование в ортодоксальном марксизме и нарастание консервативной атмосферы в 1970-х годах привели к тому, что немалая часть интеллектуальной элиты занялась поиском «духовности», и это привело к своеобразному «религиозному ренессансу», ответ на который последовал незамедлительно в виде нового «завинчивания гаек». Таков был общественный фон, который сделал соблазнительной идею человеческих общностей, основанных на религиозном фундаменте. Поэтому популярность цивилизационного подхода оказались далеко не случайной. Однако стимулы к этому следовало бы искать не столько в научной мысли, сколько в серьезных социальных и идеологических сдвигах, происходивших в позднем советском обществе.
А между тем разочарование в ортодоксальном марксизме и нарастание консервативной атмосферы в 1970-х годах привели к тому, что немалая часть интеллектуальной элиты занялась поиском «духовности», и это привело к своеобразному «религиозному ренессансу», ответ на который последовал незамедлительно в виде нового «завинчивания гаек». Таков был общественный фон, который сделал соблазнительной идею человеческих общностей, основанных на религиозном фундаменте. Поэтому популярность цивилизационного подхода оказались далеко не случайной. Однако стимулы к этому следовало бы искать не столько в научной мысли, сколько в серьезных социальных и идеологических сдвигах, происходивших в позднем советском обществе.
Примечательно, что на рост консерватизма во властной сфере советские интеллектуалы ответили отнюдь не ростом революционности, а столь же решительным сдвигом в сторону консервативных идеологий. Ведь, как совершенно справедливо отмечает Л. Б. Алаев (2008), цивилизационный подход возник не на пустом месте, и у него были отечественные предшественники, представленные Н. Я. Данилевским и евразийцами 1920-х годов (ср.: Шнирельман 1996а). Для всех них было характерно откровенное антизападничество, а их научные построения имели отчетливую вненаучную подоплеку – стремление спасти и сохранить империю. Конечно, среди имен отцов-основателей встречались и западные (О. Шпенглер, А. Тойнби и др.), однако обращение специалистов прежде всего к отечественным авторам мне представляется весьма знаменательным. Это тоже немало говорит об идейной атмосфере эпохи «развитого социализма» с ее увлечением «самобытностью» и любовью к «отеческим гробам». Все это следует иметь в виду, ибо корни цивилизационного подхода во многом и определили траекторию его развития, и сегодня уже можно оценить итоги его интенсивного развития в течение последних двух-трех десятилетий.
Я. Данилевским и евразийцами 1920-х годов (ср.: Шнирельман 1996а). Для всех них было характерно откровенное антизападничество, а их научные построения имели отчетливую вненаучную подоплеку – стремление спасти и сохранить империю. Конечно, среди имен отцов-основателей встречались и западные (О. Шпенглер, А. Тойнби и др.), однако обращение специалистов прежде всего к отечественным авторам мне представляется весьма знаменательным. Это тоже немало говорит об идейной атмосфере эпохи «развитого социализма» с ее увлечением «самобытностью» и любовью к «отеческим гробам». Все это следует иметь в виду, ибо корни цивилизационного подхода во многом и определили траекторию его развития, и сегодня уже можно оценить итоги его интенсивного развития в течение последних двух-трех десятилетий.
Дискуссия о цивилизационном подходе давно назрела. Алаев со свойственными ему прямотой, убедительностью и мастерством выразил то, что уже давно пора было сказать. Цивилизационный подход оказался научно несостоятельным и морально ущербным. Иными словами, в очередной раз «король оказался голым».
Иными словами, в очередной раз «король оказался голым».
Трудно добавить что-либо к тому, что так блестяще изложил Алаев. Трудно, но можно. Для меня дискуссия о цивилизационном подходе распадается на две части. Первое – это его научная оценка, и здесь речь должна идти о методологии, на которую справедливо указал автор. Но есть и другое – социально-политический контекст цивилизационного дискурса, причины его востребованности обществом и политиками.
По поводу методологии добавлю лишь, что формационный и цивилизационный подходы в теоретическом плане нисколько не противоречат друг другу, ибо делают акценты на разных сторонах человеческого существования: первый – на экономике, а второй – на культуре, понимая ее в самом широком плане. Однако культура – понятие расплывчатое, и сегодня существует несколько сотен ее определений. Кроме того, культура легко сегментируется. Поэтому если мы кладем в основание человеческой общности культуру, то величина и очертания такой общности будут впрямую зависеть от того, как именно мы определяем культуру и какое ее конкретное проявление имеем в виду. Отсюда вытекает возможность очень разных представлений о цивилизациях, об их числе и границах. Ведь в основании цивилизации вовсе не обязательно должна лежать религия – это может быть и определенная система мировоззрения в целом (тогда и конфуцианство сгодится), и священный язык, и система письменности, и определенные моральные стандарты, и своеобразные хозяйственные системы, и прочее. В результате сегодня поклонники цивилизационного подхода с энтузиазмом занимаются «открытием», или, правильнее, конструированием самых разных цивилизаций. Только на территории России они находят множество разнообразных цивилизаций: «кавказскую», «северокавказскую», «тюркскую», «тюркско-татарскую», «мусульманскую», «арктическую», «кочевую», «адыгскую», «дагестанскую», «болгаро-чувашскую», «цивилизацию народа саха» и т. д. И это не говоря уже о «российской (русской)» или «славяно-русской» цивилизации, занимающей то же пространство (Шнирельман 2007а). В итоге «борьба цивилизаций» у нас уже происходит, но, к счастью, пока только на бумаге и символическими средствами.
Отсюда вытекает возможность очень разных представлений о цивилизациях, об их числе и границах. Ведь в основании цивилизации вовсе не обязательно должна лежать религия – это может быть и определенная система мировоззрения в целом (тогда и конфуцианство сгодится), и священный язык, и система письменности, и определенные моральные стандарты, и своеобразные хозяйственные системы, и прочее. В результате сегодня поклонники цивилизационного подхода с энтузиазмом занимаются «открытием», или, правильнее, конструированием самых разных цивилизаций. Только на территории России они находят множество разнообразных цивилизаций: «кавказскую», «северокавказскую», «тюркскую», «тюркско-татарскую», «мусульманскую», «арктическую», «кочевую», «адыгскую», «дагестанскую», «болгаро-чувашскую», «цивилизацию народа саха» и т. д. И это не говоря уже о «российской (русской)» или «славяно-русской» цивилизации, занимающей то же пространство (Шнирельман 2007а). В итоге «борьба цивилизаций» у нас уже происходит, но, к счастью, пока только на бумаге и символическими средствами.
Все это оказывается возможным, в частности, из-за отсутствия строгого определения понятия «цивилизация» и критериев ее обнаружения. Ведь не только культура в целом, но и религия подвержена сегментации и распадению на локальные варианты. И это ставит перед сторонниками цивилизационного подхода серьезные проблемы. Так, многие кладут в основу цивилизации религию. При этом, нарушая всякую логику, они противопоставляют «европейскую цивилизацию» «православной», понимая под последней Россию. В то же время они выделяют «исламскую цивилизацию» как единую. Но ведь логика требует противопоставления друг другу только родовых или только видовых понятий. Поэтому «исламской цивилизации» следовало бы противопоставлять «христианскую», включая и Россию (если отождествлять последнюю с православием, что тоже неочевидно). Но тому, кто выделяет особым образом «православную цивилизацию», следовало бы делить и исламский мир на «суннитскую» и «шиитскую» цивилизации. Мало того, пришлось бы говорить о «католической» и «протестантской» цивилизациях. Но в таком случае, например, Германия и Ирак оказались бы искусственно разрезанными двумя «цивилизациями». В то же время в «православную цивилизацию» следовало бы включить Сербию, Болгарию, Румынию, Грецию, Грузию, чего сторонники цивилизационного подхода почему-то не делают. Совершенно очевидно, что под «православной цивилизацией» им хочется видеть только Россию[1].
Но в таком случае, например, Германия и Ирак оказались бы искусственно разрезанными двумя «цивилизациями». В то же время в «православную цивилизацию» следовало бы включить Сербию, Болгарию, Румынию, Грецию, Грузию, чего сторонники цивилизационного подхода почему-то не делают. Совершенно очевидно, что под «православной цивилизацией» им хочется видеть только Россию[1].
Но и это плохо работает. Ведь сразу же возникают вопросы: а как быть с многочисленными мусульманскими анклавами, веками существовавшими в составе России? Как быть с буддизмом? Как быть с иудеями, по численности населения шедшими в XIX веке сразу же вслед за славянскими народами и, таким образом, являвшимися самой крупной неславянской общностью в рамках Российской империи? (Неслучайно, будучи серьезными конкурентами, они вызывали такую ненависть у черносотенцев.) Известный учебник «Введение в православную культуру» заодно с церковными иерархами жестко отождествляет русскую культуру с православием. Но как в таком случае быть с колоссальным влиянием европейской (неправославной!) словесности, архитектуры и учености на русскую культуру XVIII–XIX веков? И что делать с культурой Серебряного века, опиравшейся на оккультизм, теософию, ариософию и даже раннее неоязычество? Если же говорить о современности, то как быть с неоязычниками, которые считают себя «истинно русскими», но отнюдь не желают ассоциироваться с православием? Кстати, по социологическим данным, в 1990-х годах немало русских приняли протестантизм. Как это соответствует «православной цивилизации»? И что такое «православие» для тех русских, кто себя с ним ассоциирует? Ведь далеко не все они регулярно посещают церковь. А из тех, кто это делает (таковых не более 5–6 % из тех, кто называют себя православными), многие ли знают Священное Писание? Совершенно очевидно, что для достаточно многочисленной категории русского населения «православие» – это не более чем идентичность. И, следовательно, о религии как таковой здесь говорить не приходится[2].
Как это соответствует «православной цивилизации»? И что такое «православие» для тех русских, кто себя с ним ассоциирует? Ведь далеко не все они регулярно посещают церковь. А из тех, кто это делает (таковых не более 5–6 % из тех, кто называют себя православными), многие ли знают Священное Писание? Совершенно очевидно, что для достаточно многочисленной категории русского населения «православие» – это не более чем идентичность. И, следовательно, о религии как таковой здесь говорить не приходится[2].
Националист создает себе идеальную картину культурного и религиозного единства, будто бы имманентно присущего народу (этносу). Но в реальности все оказывается не совсем так или совсем не так. Например, какая религия лежит в основе «японской цивилизации», если, как шутят сами японцы, они рождаются по-синтоистски, вступают в брак по-христиански, а умирают по-буддистски? У абхазов почти на равных выступают ислам, христианство и язычество. А если внимательно приглядеться к сложной картине религиозности у различных современных народов, то мы увидим, что идеал моноконфессиональности встречается в современном мире не так уж часто. Гораздо чаще определенная религия служит лишь символом идентичности. Например, русский может соглашаться с тем, что русская идентичность тесно связана с православием, но это не помешает ему самому быть, скажем, баптистом. То же самое можно сейчас обнаружить, например, у грузин. Следовательно, живую реальность следует четко отличать от ее образа, складывающегося в головах людей (см. подробнее: Шнирельман 2005а).
Гораздо чаще определенная религия служит лишь символом идентичности. Например, русский может соглашаться с тем, что русская идентичность тесно связана с православием, но это не помешает ему самому быть, скажем, баптистом. То же самое можно сейчас обнаружить, например, у грузин. Следовательно, живую реальность следует четко отличать от ее образа, складывающегося в головах людей (см. подробнее: Шнирельман 2005а).
Не лучше обстоит дело и с другими критериями. Может быть, критерием цивилизации являются единый кодифицированный священный язык (метаязык) или единая система письменности? Трудно не согласиться с тем, что все это создает основы для социально-культурной общности. В эпоху эллинизма в Восточном Средиземноморье господствовал греческий язык, а к востоку оттуда – арамейский (кстати, почему-то никто не говорит об «арамейской цивилизации», хотя для ее реконструкции имеется не меньше оснований, чем для «эллинистической»). Соответственно там были популярны и две разные системы письменности. Но что это означало фактически, кто ими реально пользовался? Знать, торговцы и священнослужители, т. е. меньшая часть населения. Простой же люд говорил на своих местных языках, некоторым из которых удалось пережить и древнегреческий, и арамейский. А что происходило со средневековой латынью? Она тоже была атрибутом лишь образованных слоев, составлявших меньшинство населения. То же самое столетиями было характерно и для арабской вязи. Рассуждая логически, в этом случае следовало бы включать в «цивилизацию» только высшие слои населения, исключая малограмотное или неграмотное большинство. Кстати, на заре Нового времени именно так в некоторых странах и определялась «нация». Например, в Польше в XVII–XVIII веках в нее включалась только шляхта.
Но что это означало фактически, кто ими реально пользовался? Знать, торговцы и священнослужители, т. е. меньшая часть населения. Простой же люд говорил на своих местных языках, некоторым из которых удалось пережить и древнегреческий, и арамейский. А что происходило со средневековой латынью? Она тоже была атрибутом лишь образованных слоев, составлявших меньшинство населения. То же самое столетиями было характерно и для арабской вязи. Рассуждая логически, в этом случае следовало бы включать в «цивилизацию» только высшие слои населения, исключая малограмотное или неграмотное большинство. Кстати, на заре Нового времени именно так в некоторых странах и определялась «нация». Например, в Польше в XVII–XVIII веках в нее включалась только шляхта.
Если брать письменность в качестве критерия цивилизации, то следовало бы говорить о единой «восточно-азиатской цивилизации», включающей Китай и Японию вместе. Но ведь этого не делают! И правильно, ибо при единой системе иероглифов, имеющих единое значение, произносятся они японцами и китайцами по-разному в соответствии с нормами их собственных языков. Поэтому, например, китайцу не требуется дополнительных знаний для чтения японской газеты, но по-японски он так и не заговорит.
Поэтому, например, китайцу не требуется дополнительных знаний для чтения японской газеты, но по-японски он так и не заговорит.
Арабская вязь широко используется в исламском мире, но там она тоже приспособлена к нормам местных языков, подобно кириллице, положенной в основу письменностей многих неславянских народов России. Однако делает ли это исламский мир (от Филиппин и Индонезии до Нигерии) единым – большой вопрос (скажем, помогало ли это Ирану и Ираку строить мирные добрососедские отношения?). Поэтому некоторые авторы выделяют не «исламскую», а «арабо-мусульманскую» цивилизацию. Но тогда они сталкиваются с проблемой: что делать с Ираном, Пакистаном, той же Индонезией и другими неарабскими исламскими странами?
Мало того, попытки жестко связать цивилизацию с письменностью наталкиваются на нередкие факты смены письменности. Если в Турции при Ататюрке на смену арабской графике пришла латинская, означает ли это, что Турция сменила свой цивилизационный вектор? А как в этих терминах понимать советскую динамику, где в 1920-х годах были введены письменности на основе латиницы, а в 1937–1938 годах их сменила кириллица? Вряд ли следует думать, что во всех этих случаях «цивилизационный вектор» резко менялся. Если он и менялся, то лишь в головах организаторов таких кампаний. Сомнительно, чтобы это отражалось на образе жизни основной массы населения.
Если он и менялся, то лишь в головах организаторов таких кампаний. Сомнительно, чтобы это отражалось на образе жизни основной массы населения.
Можно ли выделять цивилизации по социально-экономичес-кому укладу и делить их на западную и восточную? Да, в XIX веке, когда история (в том числе экономический уклад) восточных стран была плохо известна, К. Маркс отнес весь Восток к «азиатскому способу производства». Но в настоящее время историки знают, что различные страны Востока имели свою динамику развития, не позволяющую включать их оптом в единую категорию. Это тем более непозволительно делать ныне, зная о том экономическом буме, который недавно пережили, скажем, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Таиланд. Очень динамично в последние десятилетия развиваются Китай и Индия. Что уж говорить о Японии, занявшей по жизненному уровню одно из первых мест в мире. Все это показывает, что страны Востока отнюдь не обречены на застой, как это нам доказывают иные сторонники цивилизационного подхода.
До сих пор речь шла в основном о синхронном срезе. Еще сложнее ситуация оказывается, если ее рассматривать в диахронии. Например, о какой «индийской цивилизации» может идти речь, если в Южной Азии столетиями господствовал ислам, а индуизм как единая система окончательно сложился едва ли не в XIX веке?[3] Большой интерес в этом отношении могла бы представлять Япония, которая до эпохи Мейцзи испытывала значительные влияния со стороны Китая, а затем переориентировалась на Европу и США (не меняя при этом ни религии, ни системы письма). Буддизм родился в Индии, но укрепился вовсе не там, а в Восточной Азии. Христианство родилось на Ближнем Востоке, но расцвело в Европе. Не умножая такие примеры, можно утверждать, что детальный исторический анализ не оставляет камня на камне от представления о каких-то необычайно устойчивых цивилизациях, будто бы столетиями, а то и тысячелетиями хранивших верность своим нетленным ценностям (Шнирельман 2005а).
Все это, казалось бы, должно быть достаточно очевидно тому, кто обладает вузовским гуманитарным образованием. Почему же цивилизационный подход обрел такую беспрецедентную популярность в постсоветской России, причем не только у широкой публики, но и в определенных научных кругах? Здесь сказался второй из упомянутых выше факторов – социально-политический контекст цивилизационного дискурса. Цивилизационный подход оказался необычайно удобной формой преодоления кризиса идентичности, охватившего массы населения после распада Советского Союза. Марксизм был дискредитирован неспособностью советских чиновников выполнить свои обещания и кардинально улучшить условия жизни населения. Кроме того, рост этнонациональных движений, возникновение серьезных этнических конфликтов и войн и, наконец, распад СССР по республиканским границам создали у бывших советских граждан представление о том, что вовсе не экономический, а этнокультурный фактор является движущей силой истории. В общественном сознании произошел резкий сдвиг к культуроцентризму, поддержанный рядом специалистов, которые объявили о том, что настало «время культуры» (Неретина, Огурцов 2000).
Почему же цивилизационный подход обрел такую беспрецедентную популярность в постсоветской России, причем не только у широкой публики, но и в определенных научных кругах? Здесь сказался второй из упомянутых выше факторов – социально-политический контекст цивилизационного дискурса. Цивилизационный подход оказался необычайно удобной формой преодоления кризиса идентичности, охватившего массы населения после распада Советского Союза. Марксизм был дискредитирован неспособностью советских чиновников выполнить свои обещания и кардинально улучшить условия жизни населения. Кроме того, рост этнонациональных движений, возникновение серьезных этнических конфликтов и войн и, наконец, распад СССР по республиканским границам создали у бывших советских граждан представление о том, что вовсе не экономический, а этнокультурный фактор является движущей силой истории. В общественном сознании произошел резкий сдвиг к культуроцентризму, поддержанный рядом специалистов, которые объявили о том, что настало «время культуры» (Неретина, Огурцов 2000).
Однако в наибольшей мере на общественные настроения повлиял один автор, которого можно было бы назвать посредником между двумя названными сферами – научной и общественно-политической. Таким автором стал создатель «теории этногенеза» Л. Н. Гумилев[4]. С одной стороны, его теория претендовала на то, чтобы стать новым словом в науке, и оперировала научной терминологией, но с другой – страдала повышенной эмоциональностью, иррационализмом и ксенофобией. Ей был присущ и популизм, позволивший ей быстро завоевать расположение «читающей публики», среди которой оказалось немало чиновников, представителей силовых структур и, что особенно печально, деятелей системы образования. И хотя концепция Гумилева оставалась слабо обоснованной и, по сути, представляла псевдонаучную конструкцию, основанную на подходах, давно отвергнутых современной наукой, она давала общественности искомую простоту «объективной научной истины». Привыкшее мыслить в позитивистских терминах общество находило в ней новую универсальную мировоззренческую отмычку, помогавшую обнаруживать тайные пружины текущих и прошлых событий. Но если прежде такой отмычкой служило учение о классовой борьбе, то теперь оно сменилось учением о борьбе этнической (или расовой).
Но если прежде такой отмычкой служило учение о классовой борьбе, то теперь оно сменилось учением о борьбе этнической (или расовой).
Чтобы осознать совершившийся на наших глазах поворот в умах, необходимо вернуться к вопросу о культуре. Культура в рассматриваемом здесь контексте воспринимается исключительно как закрытая, непроницаемая, самодостаточная, оригинальная, имеющая глубокие корни и четкие границы «самобытная культура», иными словами, как «целостная система». При этом предполагается, что ее носители обладают своим особым «национальным характером» или особой «ментальностью». Такое представление сложилось на заре социокультурной антропологии, когда его полностью или частично разделяли те, кого сегодня по праву считают создателями и классиками этой науки (Ф. Боас, Б. Малиновский и др.). В этой парадигме зарубежные антропологи работали на протяжении значительной части прошлого века.
Однако в те годы, когда советские люди вдохновлялись идеями перестройки, а советские историки открывали для себя цивилизационный подход, в западной антропологии произошла подлинная научная революция. И сегодня западные специалисты полагают, что культура имеет открытый дискурсивный характер и отличается гибридностью и отсутствием сколько-нибудь строгих границ. Системность культуры оказывается под вопросом, или, во всяком случае, она нисколько не мешает оживленным межкультурным контактам и взаимовлияниям. Этот новый подход был выработан в обстановке глобализации и в условиях массовых трансконтинентальных миграций, еще раз показавших высокую активность людей и их необычайную способность к адаптации. Кстати, как правильно замечает Алаев, ускоренное развитие Западной Европы имело одной из своих причин ее открытость веяниям извне и умение искусно использовать полученную новую информацию и технологию. Об этом свидетельствует огромная масса фактов (Nederveen Pie-terse 1994).
И сегодня западные специалисты полагают, что культура имеет открытый дискурсивный характер и отличается гибридностью и отсутствием сколько-нибудь строгих границ. Системность культуры оказывается под вопросом, или, во всяком случае, она нисколько не мешает оживленным межкультурным контактам и взаимовлияниям. Этот новый подход был выработан в обстановке глобализации и в условиях массовых трансконтинентальных миграций, еще раз показавших высокую активность людей и их необычайную способность к адаптации. Кстати, как правильно замечает Алаев, ускоренное развитие Западной Европы имело одной из своих причин ее открытость веяниям извне и умение искусно использовать полученную новую информацию и технологию. Об этом свидетельствует огромная масса фактов (Nederveen Pie-terse 1994).
Напротив, вера в закрытый характер этнической или национальной культуры, в неподдающиеся времени «цивилизационные ценности» полностью исключает осознание реальной культурной гибридности, бикультурализма и аморфности культурных границ, не говоря уже о дискурсивном характере культуры. С этой точки зрения культуры представляются непроницаемыми целостностями, которые могут только взаимодействовать и сталкиваться, но неспособны смешиваться и преобразовываться в ходе взаимовлияний. Следовательно, не может происходить и ассимиляции или интеграции иммигрантов, а их прибытие трактуется исключительно как начало «замещения» местного населения «чужаками». В свою очередь такое видение реальности заставляет стремиться к «культурной чистоте» и ориентирует на «экологию культуры». Все это присутствовало в теории Гумилева, а также, что немаловажно, было присуще взглядам европейских неофашистов (Coogan 1999) и сегодня вдохновляет их наследников – новых «правых» (Шнирельман 2005б; Gingrich, Banks 2006). И вовсе не случайно в своем анализе цивилизационного подхода Алаев вспомнил о фундаменталистах. Действительно, анализируя ксенофобию, направленную в современной Европе против иммигрантов-гастарбайтеров, некоторые авторы усматривают ее основания в «культурном фундаментализме» (Stolcke 1995).
С этой точки зрения культуры представляются непроницаемыми целостностями, которые могут только взаимодействовать и сталкиваться, но неспособны смешиваться и преобразовываться в ходе взаимовлияний. Следовательно, не может происходить и ассимиляции или интеграции иммигрантов, а их прибытие трактуется исключительно как начало «замещения» местного населения «чужаками». В свою очередь такое видение реальности заставляет стремиться к «культурной чистоте» и ориентирует на «экологию культуры». Все это присутствовало в теории Гумилева, а также, что немаловажно, было присуще взглядам европейских неофашистов (Coogan 1999) и сегодня вдохновляет их наследников – новых «правых» (Шнирельман 2005б; Gingrich, Banks 2006). И вовсе не случайно в своем анализе цивилизационного подхода Алаев вспомнил о фундаменталистах. Действительно, анализируя ксенофобию, направленную в современной Европе против иммигрантов-гастарбайтеров, некоторые авторы усматривают ее основания в «культурном фундаментализме» (Stolcke 1995). Между тем такой ксенофобский дискурс оперирует многими из тех понятий, которые у нас составляют инструментарий цивилизационного подхода: «менталитет», «архетипы», «самобытность», «культурная дистанция», «экология культуры», «этнокультурный портрет», «несовместимость культур» и пр. (Шнирельман 2008а).
Между тем такой ксенофобский дискурс оперирует многими из тех понятий, которые у нас составляют инструментарий цивилизационного подхода: «менталитет», «архетипы», «самобытность», «культурная дистанция», «экология культуры», «этнокультурный портрет», «несовместимость культур» и пр. (Шнирельман 2008а).
Мало того, такие понятия можно встретить не только в СМИ или в работах некоторых российских ученых, но и в школьных классах и в вузовских аудиториях, куда их приносят преподаватели, либо сами увлеченные трудами Гумилева, либо обязанные следовать рекомендациям инструкторов системы образования (Он же 2002а; 2003). Все это происходит с середины 1990-х годов. Надо ли удивляться резкому росту ксенофобии в среде молодежи и всплеску активности скинхедов в 2000-х годах (Он же 2007б)?
Действительно, отдельные положения цивилизационного подхода, причем предельно упрощенные и схематизированные, встречаются в учебной литературе, сбивая с толку преподавателей и учащихся. Так, по определению некоторых авторов учебников, «цивилизация является сообществом людей с основополагающими духовными ценностями, устойчивыми чертами социально-политической организации, культуры, экономики и психологическим чувством принадлежности», а тип цивилизации трактуется ими как «тип развития определенных народов, этносов» (Аяцков и др. 1999: 18; ср.: Мартюшов, Попов 1996; Тот 1996). Нетрудно заметить, что это определение до боли напоминает то, которым десятилетиями пользовались советские этнографы для определения этноса и которое в своей основе восходит к сталинскому определению нации[5]. С этой точки зрения становится понятным тот особый акцент, который сторонники цивилизационного подхода ставят на национальном самосознании как «факторе оборонном, обеспечивающем самосохранение народа» (Радугин 1997: 20; Ионов 1995: 67). Иногда национальное самосознание, т. е. «сознание единства людей, принадлежащих к данному народу, нации», признается отличительным признаком России как цивилизации (Аяцков 1999: 24).
Такие формулировки встречаются не только в учебниках, но и в научных работах профессиональных историков. Вот, например, что пишет дагестанский историк: «Каждый из этносов отражает и объективно воспроизводит в общественном сознании, в психологии людей, в нормах поведения, обычаях, традициях – свой собственный цивилизационный уровень развития, который сложился исторически и существует реально». А «цивилизация – это конкретное историческое общество, в котором находят отражение общие и особенные закономерности исторического процесса». И из этого делается вывод о том, что локальные цивилизации – это «основные единицы истории», «главные субъекты культурно-исторических процессов» (Гасанов 2004: 288)[6]. Цивилизационный подход, изложенный таким образом, по сути, дает право каждому народу (этносу) считать себя особой цивилизацией и создает почву для бурных, хотя и достаточно бесплодных, дискуссий о том, кто достоин наименования цивилизации, а кто – нет. Фактически это возвращает нас к спору двадцатилетней давности, когда местные интеллектуальные лидеры отстаивали право своих народов на статус «нации» (Tishkov 1997: 230).
Представляется, что это – отнюдь не случайное, а сущностное сходство, убедительно показывающее, что спор о цивилизационном подходе давно уже вышел за пределы «чистой науки» и обслуживает жгучие политические интересы. Вот почему и каким образом цивилизационный подход «шире научного», как справедливо замечает Алаев. По сути, цивилизационный подход, независимо от воли или желания отстаивающих его ученых, является попыткой научного оправдания этнического национализма и грешит очевидным этноцентризмом. Речь идет о культурном фундаментализме, тесно связанном в наше время с расизмом (Шнирельман 2002б; 2007а). Ведь сегодня, когда биологический расизм оказался дискредитированным, ему на смену пришел так называемый культурный расизм, оперирующий культурологической терминологией. Его сторонники озабочены конструированием закрытых культурных общностей и их защитой от какого-либо внешнего воздействия (Шнирельман 2005в). Если биологический расизм был направлен на порабощение или полное уничтожение «других», то культурный озабочен сохранением «самобытных» культур в их исконных ареалах и в неизменном виде. Он испытывает крайнее беспокойство по поводу трансконтинентальных миграций, ведущих к «смешению» и «засорению». Общим у биологического и культурного расизма оказываются стремление к «первородной чистоте» и страхи по поводу ее размывания в ходе «смешения» с «чужаками».
Но если биологический расизм описывает это в биологических терминах, то культурный – в культурных. При этом оба они зачарованы категорией «менталитета». И хотя один выводит его из биологии, а другой – из «самобытной» культуры, в любом случае этот «менталитет» представляется необычайно устойчивой, тотальной и неотъемлемой особенностью «расы», «народа» или «цивилизации», будь то «расовый дух» или «национальный характер» (Алаев правильно усматривает в этом поиски некоего неуловимого «трансцендентного»). Примечательно, что если поначалу цивилизации выделяли по внешним «объективным» маркерам, то со временем возникла заметная тенденция наделять «цивилизацию» общим самосознанием и едиными ценностями, хотя при ближайшем рассмотрении наличие таковых оказывалось сомнительным. Работающие в этой парадигме авторы неутомимо ищут некие необычайно устойчивые установки и стереотипы поведения, укорененные в глубинах «подсознательного» или даже в инстинктах, передающиеся из поколения в поколение и якобы неподвластные эпохальным кардинальным переменам (Мчедлов 2005)[7]. Мало того, сегодня приверженцы такого представления о ментальности все чаще наделяют последнюю биологической основой, причем это даже встречается в некоторых вузовских учебниках (Чернявская 2008).
Между тем, во-первых, ни суть этого «подсознательного», ни механизмы его трансмиссии никто до сих пор так и не продемонстрировал, и любителям такого подхода остается сетовать на отсутствие любознательности у своих коллег и полагаться лишь на свою веру в этот феномен. Во-вторых, в работах различных авторов такие якобы базисные ценности и установки описываются весьма по-разному в зависимости от их собственного субъективного подхода. Наконец, в-третьих, уроком может послужить трудоемкое исследование, проведенное специалистами из Российской Академии образования, планировавшими изучить «ментальность» россиян, что для них было сродни «национальному характеру». По завершении исследования выяснилось, что социальные группы настолько различались по своим ценностным установкам, интересам и мотивациям, что ни о какой единой «ментальности» не могло быть и речи (Дубов 1997). Это подтверждается и другими социологическими исследованиями, показавшими, что к началу 2000-х годов российское общество распалось на две группы, одна из которых ориентировалась на постиндустриальные индивидуалистские ценности (25–30 %), а другая – на традиционные (35–40 %). Соответственно их жизненные установки и поведенческие нормы существенно различались (Горшков 2003; Горшков, Тихонова 2004; 2005). Энтузиастам изучения ментальности следовало бы также учесть мнение более осторожных ученых, предупреждающих против соблазна при нехватке объяснительных моделей прибегать к ссылкам на психиатрию и апеллировать к малоизученной сфере бессознательного (Вовель 1989; Фирсов 2005)[8].
Но хотя, настаивая на неких нетленных духовных ценностях, лежащих в основе «русской цивилизации», никто так и не сумел четко сформулировать суть этих ценностей и доказать их незримое присутствие на протяжении всего ее исторического развития, само понятие цивилизационных ценностей служит ядром цивилизационного подхода. В то же время содержание этих ценностей оказывается не столь уж существенным; зато предполагается, что они имманентно присущи «русскому генотипу» и существуют на интуитивном уровне (поэтому «умом Россию не понять»). В итоге эти ценности не столько анализируются, сколько постулируются[9].
В построениях многих сторонников цивилизационного подхода «ценности» имеют особую функцию, вовсе не требующую строгого определения их содержания; речь идет о том, что на исторической сцене якобы постоянно сталкиваются не столько интересы, сколько некие глубинные ценности (Нарочницкая 1997). Однако анализ разнообразных версий современного цивилизационного подхода отчетливо показывает, что их создателями движут именно конкретные интересы, стремление использовать интеллектуальный проект для организации того или иного альянса, призванного осуществить конкретные политические задачи. В этом контексте ценности выступают лишь в качестве соблазнительного символа, но не более того. Иными словами, мы имеем здесь дело с «символической политикой», о которой когда-то писал американский политолог М. Эдельман (Edelman 1967; 1971). И с этой точки зрения инструментальное значение цивилизационного подхода становится более чем прозрачным. Ведь он снабжает современных политиков особым символическим языком, позволяющим конструировать новую реальность, отвечающую их текущим интересам. Но при этом ссылки на цивилизационный подход и использование соответствующих терминов дают политикам возможность апеллировать к науке, увлекая массы своим проектом, якобы отражающим «объективную реальность». В ходе такой процедуры политическим интересам искусно придается облик «нетленных ценностей», якобы, по словам ученых (!), свойственных «цивилизации». Мало того, такого рода индоктринация масс осуществляется включением цивилизационного подхода в систему школьного и вузовского образования.
Чем же цивилизационный подход так дорог его сторонникам? Во-первых, он подпитывает тоску по былому величию, сохраняя за Россией облик великой державы если не политически, то культурно. Термин «цивилизация» придает ей особый престиж, поднимая над уровнем обычной страны[10]. Во-вторых, настаивая на особом пути России, он изымает ее из обычной универсальной эволюционной схемы, основанной на социально-экономических критериях[11]. В этом реализуются призывы к «культуроцентризму», раздававшиеся в 1990-х годах как из окружения президента России (Дмитриев 1997), так и от деятелей системы образования (Рябцев 1997). Тем самым снимается проблема сопоставимости с другими обществами, и термины «отставание» или «догоняющая модернизация» оказываются для России неприменимыми (Зюганов 1997)[12] – они свободно заменяются понятием «самобытного исторического пути». В-третьих, отказываясь от линейности исторического процесса в пользу цикличности, цивилизационный подход дарит России надежду на возрождение и новый взлет в будущем. Мало того, цивилизационный подход наделяет Россию особой «миссией» и прививает мессианское мышление (см., например: Захарова 1999).
Иными словами, цивилизационный подход, как справедливо отмечает Алаев, сознательно разрушает единство всемирной истории. Но стоит добавить, что за этим скрывается очевидный политический фактор – партикуляристские «национальные интересы» отдельных держав (или национальных элит), нуждающиеся в своей легитимации научными аргументами. Тем самым «король» оказывается не вполне голым, но его одежки существенно отличаются от тех, которые любовно выделывались для него теоретиками, выдававшими цивилизационный подход за «новый гуманистический проект».
Нетрудно заметить, что по многим параметрам цивилизационный подход укладывается в консервативный идеологический проект, и вовсе не случайно один из самых известных его сторонников американский политолог С. Хантингтон был тесно связан с консервативной корпорацией «Олин». Столь же неслучайно расцвет цивилизационного подхода в России пришелся на период доминирования здесь неоконсервативных идеологий.
Анализ цивилизационного подхода в такой перспективе показывает, как ученые сознательно или неосознанно становятся заложниками привходящих политических соображений. И в этом контексте интерес вызывает не столько компетентность отдельных специалистов, сколько их общественно-политическое лицо. При таком подходе мнение «академических ученых» оказывается интересным вовсе не своей обоснованностью с точки зрения научной методологии, а выраженной в нем гражданской позицией, и результат научной экспертизы теряет свою самостоятельность, становясь производным от социально-политического контекста, в котором трудится ученый. Одновременно «исследование», проводимое такими «экспертами», теряет свой привычный академический вид, ибо его облик определяется не столько научными, сколько привходящими вненаучными соображениями.
Итак, ситуация с цивилизационным подходом обнаруживает еще одну проблему, которая у нас редко становится предметом обсуждения. Ведь возникает закономерный вопрос о том, где кончается «исследование» и начинается «конструирование». Речь идет о том, что результат «исследования», поданный как фиксация и описание «цивилизации» с якобы имманентно присущими ей веками свойствами в виде «объективной реальности», фактически путем классификации и объективизации ее отдельных компонентов создает новые реалии, которые со временем с помощью современных технологий (СМИ, школа, кино и художественные произведения, музеи и пр.) навязываются обществу и входят в общественную практику. Это создает особую оптику, сквозь которую данное общество смотрит на мир и с помощью которой пытается его осознать и определить в нем место для себя. Надо ли говорить, какое огромное социальное значение все это имеет? Но если это так, то резко меняется роль ученого: из описателя и аналитика он превращается в активного участника социальных и политических процессов. А это в свою очередь ставит вопрос о социальной ответственности ученых и о научной этике[13].
Следовательно, высказывая новую идею или гипотезу, ученому сегодня приходится думать не только о ее обоснованности, но и о том, как она будет воспринята и понята обществом, как ее могут использовать политики и какое влияние на общество все это окажет. Конечно, ученый не в состоянии держать под контролем то, как, кем и в каком контексте будут использоваться добытые или созданные им новые знания. Но ответственного ученого это должно интересовать, и он по крайней мере должен стремиться отслеживать этот процесс. Кроме того, ему надлежит избегать широкого тиражирования от лица науки скороспелых и непроверенных гипотез, концепций и суждений, особенно если они могут затрагивать судьбы людей. Если же он знакомит общество со своей идеей, он должен излагать ее так, чтобы избегать недомолвок и двусмысленностей и стремиться придать ей такую форму, в которой ее было бы трудно использовать радикалам и расистам. Наконец, если его идеи используются для неблаговидных целей, долг ученого состоит в том, чтобы так или иначе на это отреагировать и выразить свое несогласие (Шнирельман 2008б). Иными словами, сегодня ответственность гуманитариев перед обществом оказывается не меньшей, чем ответственность физиков, создавших ядерное оружие, или медиков, орудующих скальпелем.
Литература
Алаев, Л. Б. 2008. Смутная теория и спорная практика: о новейших цивилизационных подходах к Востоку и к России. Историческая психология и социология истории 2: 87–112.
Аяцков, Д. Ф. и др. 1999. История России: проблемы цивилизационного развития: учеб. пособие. Саратов: СГСЭУ.
Балибар, Э., Валлерстайн, И. 2003. Раса, нация, класс: двусмысленные идентичности. М.: Логос-Альтера.
Барг, М. А.
1990. О категории «цивилизация». Новая и новейшая история 5: 25–40.
1993. Цивилизационный подход к истории: дань конъюнктурщине или требование науки? В: Барг, М. А. (ред.), Цивилизации. Вып. 2 (с. 8–17). М.: Наука.
Ванина, Е. Ю. 2007. Средневековое мышление: Индийский вариант. М.: Вост. лит-ра.
Вовель, М. 1989. Ментальность. В: Афанасьев, Ю., Ферро, М. (ред.), 50/50. Опыт словаря нового мышления (с. 458). М.: Прогресс.
Гасанов, М. Р. 2004. Некоторые вопросы истории дагестанской цивилизации. В: Лубский, А. В., Черноус, В. В. (ред.), Dedieindiem. Памяти А. П. Пронштейна (с. 287–297). Ростов н/Д.: СКНЦ ВШ.
Горшков, М. К. 2003. Российское общество в условиях трансформации: мифы и реальность, 1992–2002 гг. М.: РОССПЭН.
Горшков, М. К., Тихонова, Н. Е. (ред.)
2004. Изменяющаяся Россия в зеркале социологии. М.: Летний сад.
2005. Российская идентичность в условиях трансформации: опыт социологического анализа. М.: Наука.
Гуревич, А. Я. 1989. Ментальность. В: Афанасьев, Ю., Ферро, М. (ред.), 50/50. Опыт словаря нового мышления (с. 454–456). М.: Прогресс.
Дмитриев, В. 1997. Необходимость культуроцентризма. Свободная мысль 12: 21–32.
Дубов, И. Г. (ред.) 1997. Ментальность россиян. М.: Имидж-контакт.
Захарова, Е. Н. 1999. Примерное планирование курсов истории и обществознания для 10–11 классов. М.: Школа-Пресс.
Зверева, Г. И. 2003. «Присвоение прошлого» в постсоветской историософии России. Новое литературное обозрение 59: 540–556.
Зюганов, Г. А. 1997. Доклад Г. А. Зюганова на IV съезде КПРФ (19–20 апреля 1997 г.). Экономическая газета 17.
Иванов, С. А. 1998. Лев Гумилев как феномен пассионарности. Неприкосновенный запас 1: 4–10.
Ионов, И.Н. 1995. Российская цивилизация. IX – начало XX в. Учебник для 10–11 классов. М.: Просвещение.
Клейн, Л. С. 1992. Горькие мысли «привередливого рецензента» об учении Л. Н. Гумилева. Нева 4: 228–246.
Колчинский, Э. И. 2006. Биология Германии и России – СССР в условиях социально-политических кризисов первой половины XX века. СПб.: Нестор-История.
Кореняко, В. А. 2000. Этнонационализм, квазиисториография и академическая наука. В: Малашенко, А., Олкотт, М. Б. (ред.), Реальность этнических мифов (с. 34–52). М.: Гендальф.
Левада, Ю. 2001. Выступление на историософских чтениях в Российском государственном гуманитарном университете «Россия при Путине – куда же ты?». Континент 108: 161–165.
Лурье, Я. С. 1994. Древняя Русь в сочинениях Гумилева. Звезда 10: 167–177.
Маклаков, К. 1996. Теория этногенеза с точки зрения биолога. Урал 10: 164–178.
Мартюшов, Л. Н., Попов, М. В. 1996. Россия и мир. Лекции по курсу «История цивилизаций». Ч. 1. Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т.
Мухаметшин, Р. М. 2006. Конфессиональный фактор и национальное самосознание татар в ХХ – начале ХХI вв. В: Исхаков, Д. М., Татарская нация в ХХ в.: проблемы развития (с. 117–128). Казань: Центр этнологического мониторинга.
Мчедлов, М. П. 2005. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и общественно-политической жизни современной России. М.: Научная книга.
Нарочницкая, Н. А. 1997. Борьба за поствизантийское простран-ство. Наш современник 4: 231–244.
Неретина, С., Огурцов, А. 2000. Время культуры. СПб.: изд-во Русского Христианского гуманитарного ин-та.
Новикова, Л. И. 1992. Цивилизация как идея и как объяснительный принцип исторического процесса. В: Барг, М. А. (ред.), Цивилизации. Вып. 1 (с. 9–13). М.: Наука.
Панарин, А. С.
1995. Евразийский проект в миросистемном контексте. Восток 2: 66–79.
1997. В каком мире нам предстоит жить? Геополитический прогноз. Москва 10: 142–163.
Радугин, А.А. 1997. История России (Россия в мировой цивилизации). Учебное пособие. М.: Центр.
Распутин, В., Мяло, К., Кожинов, В., Глушкова, Т., Шафаревич, И. 1993. В каком состоянии находится русская нация. Вече 50: 27–59.
Рябцев, Ю. С. 1997. Школьная отечественная история и русская культура. Преподавание истории в школе 7: 24–28.
Сталин, И. В. 1946. Сочинения: в 13 т. Т. 2. М.
Тот, Ю. В. и др. 1996. История России IX–XX веков. Пособие по отечественной истории для старшеклассников, абитуриентов и студентов. СПб.: Нева.
Фирсов, Б. М. 2005. Ментальные миры современного российского населения. В: Горшков, М. К., Тихонова, Н. Е. (ред.), Российская иден-тичность в условиях трансформации: опыт социологического анализа (с. 373–394). М.: Наука.
Фрумкин, К. Г. 2008. Пассионарность. Приключения одной идеи. М.: Изд-во ЛКИ.
Фурман, Д., Каариайнен, К. 2003. Религиозная стабилизация. Свободная мысль – XXI 7: 19–32.
Чернявская, Ю. В. 2008. Идентичность на фоне мифа. Антропологический форум 8: 198–226.
Шнирельман, В. А.
1996а. Евразийская идея и теория культуры. Этнографическое обозрение 4: 3–16.
1996б. Евразийцы и евреи. Вестник Еврейского университета в Москве 11: 4–45.
2002а. Цивилизационный подход, учебники истории и «новый расизм». В: Воронков, В., Карпенко, О., Осипов, А. (ред.), Расизм в языке социальных наук (с. 131–145). СПб.: Алетейя.
2002б. О новом и старом расизме в современной России (некоторые заметки). Вестник Института Кеннана в России 1: 76–83.
2003. Между евразиоцентризмом и этноцентризмом: о новом историческом образовании в России. Вестник Института Кеннана в России 4: 32–42.
2005а. «Столкновение цивилизаций» и предупреждение конфликтов. Вестник Института Кеннана в России 7: 22–29.
2005б. Этничность, цивилизационный подход, «право на самобытность» и «новый расизм». В: Дадиани, Л. Я., Денисовский, Г. М. (ред.), Социальное согласие против правого экстремизма. Вып. 3–4 (с. 216–244). М.: Ин-т социологии РАН.
2005в. Расизм: вчера и сегодня. Pro et Contra 9 (2): 41–65.
2006. Лев Гумилев: от «пассионарного напряжения» до «несовместимости культур». Этнографическое обозрение 3: 8–21.
2007а. Цивилизационный подход как национальная идея. В: Тишков, В. А., Шнирельман, В. А. (ред.), Национализм в мировой истории (с. 82–105). М.: Наука.
2007б. «Чистильщики московских улиц»: скинхеды, СМИ и общественное мнение. М.: Academia.
2008а. Лукавые цифры и обманчивые теории: о некоторых современных подходах к изучению мигрантов. Вестник Евразии 2: 125–150.
2008б. Наука и этика, или могут ли ученые избежать ксенофобии. В: Комарова, Г. А. (ред.), Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии (с. 68–81). М.: Интер-принт.
Шнирельман, В. А., Панарин, С. А. 2000. Лев Николаевич Гумилев: отец этнологии? Вестник Евразии 3: 5–37.
Шрамко, А. [б. г.] Торжество новой веры. Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=64938&cf
Янов, А. 1992. Учение Льва Гумилева. Свободнаямысль 17: 104–116.
Coogan, K. 1999. Dreamer of the day: Francis Parker Yockey and the postwar fascist international. Brooklyn, N. Y.: Autonomedia.
Edelman , M .
1967. Thesymbolicusesofpolitics. Urbana: University of Illinois Press.
1971. Politics as symbolic action: mass arousal and quiescence. Chicago: Markham Publishing Company.
Gingrich, A., Banks, M. (eds.) 2006. Neo-nationalism in Europe and beyond. New York: Berghahn Books.
Nederveen Pieterse, J. 1994. Unpacking the West: how European is Europe? In Rattansi, A., Westwood, S. (eds.), Racism, modernity and identity: on the Western front (p. 129–149). Cambridge, UK: Polity Press.
Proctor, R. 1988. Racial hygiene: medicine under the Nazis. Cambridge: Harvard Univ. Press.
Schafft, G. E. 2004. From racism to genocide: anthropology in the Third Reich. Urbana, Ill.: Univ. of Illinois Press.
Stolcke, V. 1995. Talking culture. New boundaries, new rhetorics of exclusion in Europe. Current anthropology 36 (1): 1–12.
Tishkov, V. 1997. Ethnicity, nationalism and conflict in and after the Soviet Union. London: Sage.
[1] Действительно, вопреки предсказаниям о «конфликте цивилизаций», самые сложные отношения у России на территории бывшего СССР возникли в последние годы именно с «православными государствами», и это ставит крест на вере в то, что некие общие религиозные ценности автоматически способствуют сплочению населения Евразии. Об этом см., например: Шрамко б. г.
[2] Кстати, то же, хотя и в меньшей степени, свойственно и мусульманскому миру (Мухаметшин 2006).
[3] Кстати, недавно Е. Ю. Ванина (2007) убедительно показала, что никакого единства в средневековой Индии не было; не было там и каких-либо единых «цивилизационных ценностей».
[4] О критике теории Гумилева см.: Клейн 1992; Янов 1992; Лурье 1994; Маклаков 1996; Шнирельман 1996б; 2006; Шнирельман, Панарин 2000; Иванов 1998; Кореняко 2000; Фрумкин 2008.
[5] «Исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психологического склада, проявляющегося в общности культуры» (Сталин 1946: 296).
[6] Эта работа отличается странной смесью терминов, взятых из «цивилизационного дискурса», с марксистскими понятиями.
[7] О том, что такие взгляды представляют собой завуалированную форму расизма, см.: Балибар, Валлерстайн 2003.
[8] Следует также учесть, что эти специалисты понимают ментальность как картину мира, унаследованную от предшествующих поколений. Но они говорят также о ее постоянных изменениях и вовсе не настаивают на каких-либо «вечных ценностях». См. также: Гуревич 1989.
[9] Это наблюдение полностью соответствует результатам социологического опроса, показавшего, что в России существенно выросло число «православных верующих», для которых сама по себе религия не является чем-то важным. В этой связи авторы опроса сочли возможным говорить о «пустой» идентичности. См.: Фурман, Каариайнен 2003: 26.
[10] Это открыто признавал В. В. Кожинов, говоря о равновеликости России Европе (см.: Распутин и др. 1993: 54). Сегодня Россия как «цивилизация» нередко выступает в одном ряду с «Западом» и «Востоком».
[11] Между тем, один из первых пропагандистов цивилизационного подхода в России М. А. Барг (1990; 1993) справедливо подчеркивал, что цивилизационный подход не должен противопоставляться формационному и отнюдь его не отменяет.
[12] А. С. Панарин писал, что если по критериям индустриализма Россия отставала от Запада, то по критериям постиндустриального мира она обладала особым «цивилизационным архетипом» и, кроме того, не вписывалась в западные стандарты (Панарин 1995; 1997). См. также: Гасанов 2004. Критический анализ таких взглядов см.: Левада 2001; Зверева 2003.
[13] Эти вопросы подробно обсуждались на примере немецкой науки эпохи нацизма (см., например: Proctor 1988; Schafft 2004; Колчинский 2006).
РАЗДЕЛ I
РАЗДЕЛ I. Теория и методология исторической науки
1. Установите последовательность деятельности видных дореволюционных историков:
4 а) В. Ключевский
3 б) С. Соловьев
2 в) М. Карамзин
1 г) В. Татищев
2. Первая попытка создать обобщающий труд по истории принадлежала современнику Петра I:
а) Ключевскому В.О.
*б) Татищеву В.В.
в) Ломоносову М.В.
г) Карамзину Н.М.
3. Перу историка XX в. Л. Гумилёва принадлежит работа:
*а) «От Руси к России»
б) «Древняя Москва XII-XV вв.»
в) «Язычество Древней Руси»
4. Перу историка XX в. Б. Рыбакова принадлежит работа:
а) «От Руси к России»
б) «Древняя Москва XII-XV вв.»
*в) «Язычество Древней Руси»
5. Великий русский учёный XVIII в., противник норманнской теории:
*а) М. Ломоносов
б) С. Соловьев
в) Т. Грановский
г) Н. Карамзин
6. Исторический источник это:
*а) произведение созданное человеком, продукт культуры
б) реконструкция прошлого исследователями
*в) сохранившийся документ о событиях прошлого
*г) летописные свидетельства о событиях прошлого
7. Создателем формационного подхода был:
*а) К. Маркс
б) А. Тойнби
в) П. Сорокин
г) Г. Байер
8. Метод движения мысли от частного к общему (к выводам) и наоборот получил название
______________________ и ________________________________________
а) математизации истории
б) историзма
*в) индукции
*г) дедукции
9. Создателями цивилизационного подхода были:
а) К. Маркс, Ф. Энгельс
*б) А. Тойнби, Н. Данилевский
в) Г. Байер, Г. Миллер
г) В. Кобрин, А. Зимин
г) теологический
10. Ретроспективный метод изучения истории заключается в:
а) описании исторических событий и явлений
б) классификации исторических явлений, событий, фактов
*в) последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события
г) сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени
11. Проблемно-хронологический метод изучения истории заключается в:
*а) изучение последовательности исторических событий во времени
б) описании исторических событий и явлений
в) классификации исторических явлений, событий, фактов
г) выявление закономерностей исторического развития
12. Соотнесите традиционный социально исторический метод и соответствующие ему определения:
1) историко-сравнительный а) классификация исторических явлений, событий,
Б 2) историко-системный объектов
А 3) историко-типологический б) анализ целых общественно-исторических систем,
раскрытия внутренних механизмов их
функционирования и развития
13. Познавательная функция исторического познания заключается в:
а) выработке научно-обоснованного политического курса
б) формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств
*в) выявление закономерностей исторического развития
г) идентификации и ориентации общества, личности
14. В.Н. Татищев является основоположником…
а) советской исторической науки
*б) дворянской исторической науки
в) антинорманнской теории
г) норманнской теории
15. Статистические сведения составляют основу______________метода.
а) идеографического
б) ретроспективного
*в) количественного
г) экспериментального
16. Теория общественного развития, на которой базируется вся советская историография:
а) цивилизационная
б) признающая роль духовных факторов в развитии общества
в) признающая социокультурные факторы доминирующими в развитии общества
*г) марксистская, отстаивающая социально-экономические факторы в развитии общества как наиболее значимые
17. Укажите соответствие между историком и его трудом:
б 1) Карамзин Н.М. а) «Курс русской истории»
а 2) Ключевский В.О. б) «История Государства Российского»
в 3) Покровский М.Н. в) «История науки и борьбы классов
18. Установите хронологическую последовательность основных видов исторических источников:
3 а) письменные
2 б) вещественные
1 в) изобразительные
4 г) технотронные
19. Установите соответствие между методом познания и его определением:
В 1) сравнительный а) классификация исторических знаний, событий, объектов
А 2) типологический б) изучение последовательности исторических событий во времени
Б 3)проблемно-хронологический в) сопоставление исторических объектов в пространстве, во
времени
20. Установите соответствие между функцией исторического знания и её определением:
Б 1) познавательная а) формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств
В 2) прогностическая б) выявление закономерностей исторического развития
А 3) воспитательная в) предвидение будущего
Шнирельман В.А. Цивилизационный подход как национальная идея (текст статьи)
Во второй половине 1980-х — 1990-х годах кризис марксизма-ленинизма как научной парадигмы заставил российских ученых спешным порядком искать ему замену. В качестве таковой в российской науке необычайную популярность получил цивилизационный подход. На первый взгляд это кажется удивительным, ибо его научные основы и ныне остаются слабо разработанными. Однако, как представляется, высокий спрос на цивилизационный подход диктуется вовсе не научными, а привходящими идеологическими и политическими факторами. В данной работе я покажу, что цивилизационный подход, который его сторонники превозносят как гуманистический, делающий акцент на человека1, на самом деле является попыткой научного оправдания национализма, порой именно этнического национализма.Действительно, авторы ряда учебников учат студентов тому, что «цивилизация является сообществом людей с основополагающими духовными ценностями, устойчивыми чертами социально-политической организации, культуры, экономики и психологическим чувством принадлежности», тип цивилизации трактуется ими как «тип развития определенных народов, этносов»2. Эта дефиниция до боли напоминает ту, которой десятилетиями пользовались советские этнографы для характеристики этноса и которая в своей основе восходит к сталинскому определению нации («исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры»3), в свою очередь, заимствованному у Отто Бауэра4. Иногда, правда, дается более общее определение, где цивилизация выступает «социетальной культурно-исторической системой, объединяющей на суперэтническом уровне население, органически связанное с конкретной природно-пространственной средой». Но и здесь главным фактором называется самосознание, чувство своей цивилизационной принадлежности и противопоставление себя «другим»5.
Иногда «сознание единства людей, принадлежащих к данному народу, нации», признается отличительным признаком России как цивилизации6. Цивилизационный подход, изложенный таким образом, по сути дает право каждому народу (этносу) считать себя особой цивилизацией и создает почву для бурных, хотя и достаточно бесплодных, дискуссий о том, кто достоин статуса цивилизации, а кто нет. Особое напряжение таким спорам создает утверждение о том, что далеко не всем народам суждено сформировать свою цивилизацию7. Тем самым подрывается принцип равноправия культур, приверженность которому декларируют многие адвокаты цивилизационного подхода.
ПРИХОД ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ
Основы для этого «нового» подхода в российской мысли появились достаточно давно. Они были заложены еще в XIX в. славянофилами и Н.Я. Данилевским8, развиты русскими эмигрантами-евразийцами в 1920-х годах. Затем, уже в 1970-1980-х годах их идеи были извлечены из забвения мыслителем-маргиналом Л.Н. Гумилевым9. С начала 1980-х годов идеи цивилизационного подхода вызревали в среде медиевистов и востоковедов10. Однако первым профессиональным советским ученым, сформулировавшим основы цивилизационного подхода и придавшим ему респектабельность, стал известный историк М.А. Барг (1915-1991). На излете перестройки российские ученые начали открыто выражать свою неудовлетворенность общепринятым марксистским формационным подходом, упрощавшим красочную картину реальной жизни общества и его отдельных представителей и сводившим ее к сухим социологическим закономерностям, за которыми исчезала сама человеческая личность11. Ценность последней была одним из важнейших демократических лозунгов перестройки, и Барг увидел в этом долгожданную возможность отказаться от ортодоксальной исторической схемы и «перенести центр тяжести исторического исследования на феномен человеческой жизни в ее повседневности, во всех проявлениях и связях, и прежде всего в процессе реализации человеком своей родовой сущности, производстве условий своей жизни». В устах Барга цивилизационный подход был «обозначением идеальной тотальности общественной жизни, творческой активности людей в рамках определенной пространственно-временной целостности»12. С одной стороны, Барг видел в цивилизации определенную культурную целостность и подчеркивал роль в ней субъективного начала, а с другой, призывал внимательно анализировать взаимоотношения человека с внешним объективным миром. В итоге «цивилизация обнимала все сферы материальной и духовной жизни общественных индивидов на определенной ступени их развития»13.
Особое внимание Барг призывал уделять этническому фактору, этническим стереотипам поведения, традиционным формам сознания, включая мифы, в развитии отдельных цивилизаций. И хотя он не настаивал на обязательном совпадении границ цивилизации с этнополитическими общностями (цивилизация могла включать несколько таких общностей), по сути в своих рассуждениях он приходил к выводу о взаимодействии двух неразрывно связанных факторов в общественной жизни — социологического (формацион-ного) и этнологического (неформационного, «органического»). Их специфические взаимоотношения придавали, по его словам, неповторимый облик разным цивилизациям, и он разделял два типа исторического развития -«европейский» и «восточный», из которых первый обусловливал кумулятивное линейное развитие, а второй был связан с развитием циклическим. Именно в первом случае, по мнению Барга, было возможно говорить о смене формаций; ко второму же этот по сути «европоцентристский» подход оказывался неприложим. Тем самым, в отличие от марксистского учения, особенности развития определялись по Баргу специфическими чертами отдельных цивилизаций, отличавшихся «устойчивой преемственностью форм мировосприятия и мироотношения, стилей мышления и поведения, т.е. тех структур культуры, которые основаны на национальных традициях и которые определяют этические и эстетические ценности и приоритеты»14.
Позднее в рассуждениях Барга появились такие понятия, как «народ» и его «духовная жизнь», базирующиеся прежде всего на «религиозных представлениях». «Народ» рассматривается как единство со своими стереотипами поведения и «ментальностью», которые имели «надклассовый характер», и их не могли подорвать никакие социальные антагонизмы. И сколько бы Барг ни настаивал на том, что в основе цивилизационного подхода лежала отдельная человеческая личность, фактически субъектом исторического развития в его концепции оказывалась личность не индивидуальная, а коллективная — народ, нация, этническая общность15. Правда, критикуя форма-ционный подход, Барг не решался полностью от него отказаться. Напротив, достоинство концепции цивилизации он усматривал в том, что она «включала как объективный (формационный), так и субъективный (антропологический) аспекты истории»16.
Тем не менее в его концепции цивилизационная общность решительно оттесняла классовую, и место классовой идеологии заступала идеология националистическая с типичным для нее «органическим» мировоззрением. Это подтверждает и другой сторонник цивилизационного подхода, известный историк А.А. Искендеров, отмечающий, что цивилизация «имеет дело прежде всего с культурой, духовно-нравственными ценностями, стоящими выше любых классовых интересов и партийных пристрастий, а главное -выражает интересы общества в целом, объединяя всех живущих на данной территории, в данном государстве или регионе людей идеей принадлежности к данной исторической общности (самоидентификации)»17. В свою очередь, Н.Я. Бромлей определяет цивилизацию как «единство экономической, политической и культурной сферы жизнедеятельности общества»18. Другие сторонники цивилизационного подхода также нередко отождествляют цивилизацию с конкретным обществом, «этнополитической общностью» или даже государством19.
Правда, имеются основания сомневаться в том, что цивилизация совпадает с обществом и, в особенности, что включенное в нее учеными население обладает единым самосознанием. Отчасти это признают и некоторые сторонники цивилизационного подхода. Так, И.Б. Орлова согласна с тем, что якобы общая идентичность обитателей Евразии, в наличии которой у нее нет сомнений, не осознается ими как «евразийская»20. Е.Б. Черняк соглашается с тем, что население традиционных цивилизаций не осознавало своей цивилизационной принадлежности. Однако он верит, что для современных цивилизаций такое чувство характерно21.
ЕВРАЗИЙСКАЯ, РУССКАЯ ИЛИ РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?
«Историческая общность» может представляться по-разному. Некоторые призывают определять нацию в западных терминах как гражданскую категорию22, другие, и прежде всего бывшие советские специалисты по «национальным отношениям», не желают расставаться с пониманием нации в этническом смысле23. Однако и то, и другое допускает применение цивилизационного подхода. Мало того, сдвиг от политики к культуре, наблюдаемый в современном глобализующемся мире, создает благоприятную почву для замены понятия «нация» на «цивилизацию». Во-первых, этому способствует ослабление национальных государств, ибо их неспособность эффективно выполнять свои прежние функции ведет к созданию государственных коалиций типа «Объединенной Европы» ради выживания в современном мире. Во-вторых, рост открытости государственных границ и роли транснациональных общностей порождает у политически слабых групп надежду на поддержку со стороны зарубежных «соплеменников», чувство общности с которыми основано на культурно-языковом родстве или религиозном единстве. В-третьих, сам термин «цивилизация» в общественном восприятии заключает в себе престижный момент, прежде связывавшийся с нацией. Предполагается, что как государственная власть, так и международное сообщество будут в большей мере считаться с «цивилизацией», чем с народом или этнической группой. Наконец, в «цивилизации» некоторые российские интеллектуалы нашли удачную замену «империи» тогда, когда последняя начала рассматриваться сугубо негативно. Понятие «цивилизация» помогало ее реабилитировать24.
Используя цивилизационный подход, одни авторы называют Россию «европейской цивилизацией», другие — «евразийской», одни — «русской», другие — «российской». К «европейской цивилизации» Россию относят люди демократических убеждений25. В частности, с этим подходом солидаризировался лидер партии «Яблоко» Г.А. Явлинский в своем выступлении в Российском государственном гуманитарном университете в 2001 г.26
Вместе с тем, как подчеркивают некоторые аналитики, стремление считать себя особой цивилизацией развилось в России 1990-х годах как результат обманутых ожиданий и оскорбленного национального достоинства. Действительно, как это сформулировал А.С. Панарин, на рубеже 1980-1990-х годов в обществе господствовало ощущение одиночества и понимание своего состояния как отклоняющегося от «нормальной цивилизованности». Поэтому сам он, отказываясь от формационного подхода, видел перспективу России в «возвращении в цивилизацию». Тогда он призывал к «расширению горизонта собственного бытия» и «гуманистическому универсализму», отказу от формационного подхода, «расчленяющего единство человеческого рода», отделению идеологии от государства и «доверию к историческому опыту других народов». Он выступал за «универсалистскую перспективу общечеловеческого спасения и совместного будущего»27.
Однако долго это не продлилось. Отсутствие быстрых перемен к лучшему, глубокий экономический кризис и отсутствие политической стабильности в России, а также тщетные ожидания солидной помощи Запада заставили вновь воспринимать его как враждебную силу и говорить о несовместимости западной и российской цивилизаций28. Тот же А.С. Панарин после событий октября-декабря 1993 г. резко сменил курс и заявил о крахе ожиданий возвращения в «европейский дом». Теперь он заметил, что ряд ключевых западных политических понятий (типа нации) имеют в незападном контексте иное содержание и их реализация приводит не столько к восстановлению социального порядка, сколько к росту напряженности, агрессивности и сепаратизму. Он был шокирован распадом СССР, резким ослаблением новых, возникших на его пространстве государств, включая Россию, и стремлением этнократических элит к «этническим чисткам». Это и привело его к геополитике, заставившей навсегда отбросить мысль о «единстве человеческого рода». Теперь расчленение последнего его уже не смущало29, и он открыто встал на позиции «евразийского неоконсерватизма»30, хотя аналитики усматривают в западном консерватизме отчетливую тенденцию к «культурному расизму»31.
Такие настроения и вызывают стремление дистанцироваться от «европейской цивилизации» и конструировать особую «евразийскую». Однако, во-первых, сам термин «евразийская цивилизация» нагружается различными авторами разными смыслами, во-вторых, некоторые его решительно не приемлют. Среди таких авторов можно выделить, с одной стороны, инте-грационистов, а с другой, борцов за империю. Интеграционисты, как правило, представлены интеллектуалами нерусского или смешанного происхождения, стоящими за реальное равенство различных этнических групп. Борцы за восстановление и сохранение империи составляют две разных группы. Одни из них вслед за Н.С. Трубецким понимают, что без союза русских с другими этническими группами, прежде всего тюркскими, осуществить этот проект будет невозможно. Поэтому они идут на компромисс и готовы пожертвовать названием «Россия», принимая название «евразийская цивилизация». Мало того, в евразийском проекте они видят удачный ход для противодействия авторитарным этнократиям, а также нейтрализации русского этнического национализма и шовинизма32. Для вторых главной проблемой кажется сохранение идентичности, и они всеми силами настаивают на том, что и государство, и цивилизация должны считаться «русскими».
Начнем с интеграционистов. Татарский ученый Н.М. Мириханов считает, что многоэтничное государство не может называться по имени одного народа. Он рисует прямую преемственность между Золотой Ордой и Российской империей и подчеркивает, что не менее четверти русских аристократических родов происходили из «тюрко-татар». Поэтому он полагает, что России следует называться Евразийской Федерацией33. Видный российский политик, член Совета Федерации, дагестанец Р.Г. Абдулатипов, также делает акцент на многоэтничности и поликонфессиональности России. Поэтому он использует в качестве синонимов такие термины, как «российская цивилизация», «российский суперэтнос», «евразийская держава», вкладывая в них демократическое содержание34. Такую позицию разделяют бывший председатель Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, главный редактор журнала «Жизнь национальностей» Х.Х. Боков35 и бывший спикер российского парламента Р.И. Хасбулатов36. Философ Э.С. Кульпин соглашается с тем, что все пространство императорской России и бывшего Советского Союза было занято единым «российским суперэтносом». Однако, по его мнению, последний был в своей основе не русским, а «славяно-тюркским» и сложился при слиянии двух «центров кристаллизации» -Москвы и Казани37. Поэтому он уже много лет трудится над созданием научных основ для такой конструкции. Культуролог А.Я. Флиер подчеркивает изначальную гетерогенность «российской цивилизации»38. Писатель Я.А. Кеслер, создавший фантастическую версию истории «русской цивилизации», тоже пишет о «многонациональном евроазиатском народе» и включает в него балто-славян, угров и тюрков. Но в его представлении этот народ оказывается «русским народом», теряющим какую-либо этничность и включающим кроме русских любое этническое меньшинство, живущее в России и владеющее «русской языковой культурой». Термин «россияне» он с негодованием отвергает39.
Русским борцам за империю такой подход решительно не подходит. У них наблюдается двоякое отношение к понятию «Евразия». Для одних оно является «псевдонимом» России, как это отметил философ А.С. Панарин40, полагавший, что лишь евразийство способно удовлетворить российское самосознание и создать условия для нормальных взаимоотношений с мусульманскими народами. Русоцентризм и панславизм, на его взгляд, вели лишь к конфронтации41. Поэтому он и писал об особом «евразийском народе», населявшем хартленд42, в чем его взгляды совпадали с теми, что излагались на страницах газеты «День»/»Завтра». Эту особенность современного евразийства отметили некоторые участники заседания, устроенного редакцией журнала «Вопросы философии» в 1994 г., увидевшие в нем новую спасительную и в то же время опасную идентичность для потерявшей свои государственные основы советской общности43.
Но другие видят в «евразийском подходе» покушение на русское национальное самосознание и в то же время считают, что только русские могут претендовать на имя «евразийцев»44. Соглашаясь видеть в России многонациональное «евразийское государство» и смело оперируя такими терминами, как «Евразия», «евразийское пространство», публицист К.Г. Мяло и историк Н.А. Нарочницкая опасаются, что «евразийская концепция» ведет к размыванию русского самосознания, и настаивают на том, что страна должна называться Россией, а не Евразией. Они воспринимают евразийство как заговор, направленный на разрушение России и денационализацию русского народа во имя «нерусских и неправославных интересов». Их возмущают попытки лишить русских своего имени, и поэтому они пишут о «великой русской православной цивилизации»45. С этим соглашается консервативный политик Ю. Булычев, однако он отказывается понимать «русскость» в этническом плане и связывает ее с православием46. Академик Н.Н. Моисеев полагал, что сутью евразийства является вовсе не православно-мусульманский симбиоз, ибо исламская цивилизация была русским чужда. «Истинное евразийство» он видел в пространственном расположении России между двух океанов и определял ее миссию как «не единение с мусульманским Востоком, а организацию всего евразийского Севера». Правда, он подчеркивал, что у русских накопился вековой опыт мирного сосуществования с мусульманами47. Имеется и еще один подход, который отстаивает вице-президент Международной Славянской академии, философ В.Л. Калашников. Он пишет о «славянской цивилизации», отождествляя ее с Россией — СССР и противопоставляя «евразийской». В то же время и он подчеркивает, что идея «российской нации» направлена против русского народа48.
ЗАЧАРОВАННЫЕ «ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ»
В 1990-е годы появилось немало вдохновенных пропагандистов «русской цивилизации»49. Такие штудии имеют одну характерную особенность, отмеченную С. Аверинцевым в его выступлении на одной из конференций по евразийству. Он привлек внимание участников к тому любопытному обстоятельству, что, если в Западной Европе развитием богословия занимались профессиональные теологи, то в России XIX в. эту нишу заполняли никем не уполномоченные помещики (Хомяков, братья Киреевские, Аксаков). Этот пример показался ему интересной особенностью отношения российских людей к сфере профессиональных знаний50.
Действительно, евразийский дискурс, связанный прежде всего с вопросами культуры, религии и межэтнических отношений, обнаруживает то же самое явление. Многие его яркие участники по роду своей профессиональной деятельности достаточно далеки от этих вопросов. Так, Л.И. Семенникова, написавшая первый популярный учебник по истории цивилизаций, ранее была известна как специалист по революции 1917 г. Активный пропагандист «русской цивилизации» Е. Троицкий когда-то развивал «марксистско-ленинское учение о некапиталистическом пути развития», боролся против «национального социализма» и «неоколониализма», пропагандировал опыт КПСС по экспорту революции и отчаянно разоблачал «фальсификации ленинизма»51. Из других любителей «русской цивилизации» О. Платонов и И.В. Можайскова являются экономистами, академик Н.Н. Моисеев — математиком, С.Г. Кара-Мурза — химиком, а В.Л. Калашников — философом. Среди поклонников Гумилева, увлеченных его идеями, можно встретить кинорежиссера Н.С. Михалкова, юриста А.И. Лукьянова и литературного критика В.В. Кожинова. Именно такого рода вчерашние атеисты сегодня с видом знатоков рассуждают о роли православия в развитии «русской (евразийской) цивилизации». Зато в этой среде встречаются лишь единичные историки, а профессиональных этнологов, знающих о культурных проблемах не понаслышке, нет и вовсе.
Один из проектов «русской цивилизации» вот уже более пятнадцати лет развивается Ассоциацией по комплексному изучению русской нации (АКИРН), созданной доктором философских наук Е.С. Троицким в 1988 г. К работе в Научном совете АКИРН Троицкий сумел привлечь таких видных ученых, как академики Н.Н. Моисеев (математик и эколог), Б.А. Рыбаков (археолог), Ф.Г. Углов (медик) и члены-корреспонденты О.Н. Трубачев (филолог) и И.Р. Шафаревич (математик)52. В 1990-х годах АКИРН работала при Государственной думе РФ и тесно сотрудничала с Отделом русского народа Министерства по делам национальностей и федеральных отношений РФ, где во второй половине 1990-х годов вырабатывалась Государственная программа возрождения и сохранения русского народа.
Действительно, идея «российской (русской) цивилизации» пришлась по вкусу некоторым чиновникам, озабоченным созданием новой государственной идеологии, а также легитимизацией права России считать все постсоветское пространство сферой своих жизненных интересов. В частности, идеей «евразийской цивилизации» заинтересовался консервативный по духу клуб «Реалисты», объединяющий в своих рядах видных ученых, чиновников и политиков53. Не равнодушны к ней и члены Московского интеллектуально-делового клуба, возглавляемого бывшим председателем Совета Министров СССР Н.И. Рыжковым. Одним из них является видный российский экономист, академик Л.И. Абалкин, говорящий о многоэтничной «российской цивилизации», где сложился «российский суперэтнос», носитель «державной идеи»54. Другим любителем такого подхода является сотрудник Поволжской Академии государственной службы Н.Г. Козин, уверенный в том, что многие современные негативные тенденции можно преодолеть при наличии идеологии национального возрождения. Такую идею он и связывает с концепцией России как локальной цивилизации, обладающей своей «цивилиза-ционной сутью» и двигающейся по своему историческому пути. Любопытно, что, если многие другие адвокаты «русской цивилизации» исходят из того, что она уже существует, то Козин, отождествляющий цивилизацию с нацией, убежден в том, что ее еще предстоит создать. Именно в этом смысле он пишет о необходимости возрождения «генетического кода истории России» и «системы архетипов». При этом речь идет о «великом российском суперэтносе» на базе русского народа; о других народах он даже не упоминает55. Эту идею договаривал А.С. Панарин, настаивавший на новой интеграции народов Евразии, цель которой он видел в «русификации единого евразийского пространства»56.
Правда, иной раз идея «российской (евразийской) цивилизации» принимает другой облик и основана на инклюзивном подходе. Например, как мы видели, для Р.Х. Абдулатипова такой проект призван остановить распад страны и консолидировать ее обитателей. Этому, на его взгляд, может способствовать идея государственного российского (евразийского) национализма, соединяющая патриотическое движение с демократией. Призывая к возрождению России как великой державы с самобытной культурой, он в то же время, подобно Н.С. Трубецкому, выступает против агрессивного этнического национализма за равноправие всех евразийских народов. Он верит, что глубокие исторические связи и симбиоз культур могут стать основой центростремительных сил и восстановить евразийское братство народов. Поэтому он мечтает о «едином суперэтносе евразийского дома»57. Б.С. Ерасов также призывал к формированию «гибридной евразийской цивилизации»58.
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ДИСКУРС
То или иное отношение к евразийству влияет на представление об истории России и ее оценку. Его либеральные критики упрекают неоевразийцев в том, что те, вместо того чтобы лечить болезнь, гордятся ею и представляют ее национальной добродетелью59. Такой противник евразийства, как философ В.К. Кантор, показывает, что в течение последних столетий прогресс в России был связан с вестернизацией, а отступление от нее постоянно вызывало бедствия и катастрофы60. Напротив, сторонники евразийства убеждены в том, что Россию укрепляло лишь ее возвращение к своей евразийской сути, а нарастание прозападной ориентации вело к гражданским конфликтам и распаду страны61.
Если многие сторонники «русской (российской) цивилизации» считают ее стержнем православную религию62, то другие это отрицают и связывают цивилизацию прежде всего с культурно-историческими факторами и устойчивыми духовными ценностями63. Например, И.В. Можайскова пишет, что «в основе цивилизационного менталитета лежат построенные на определенной религиозно-духовной системе ценностей стереотипные представления, нормы и образцы поведения, обычаи и традиции, имеющие как исторические, так и социальные корни с сильной эмоциональной окраской»64. Зато, по мнению Б.Г. Капустина, основа российской цивилизации имела не культурный, а политический характер, и ею служила государственность65.
В то же время академик Н.Н. Моисеев доказывал, что цивилизация сама выбирает себе религию, а не возникает естественным путем на основе какой-либо уже обретенной религии66. Из этого следовало, что корни «русской цивилизации» уходят далеко в дохристианскую эпоху. Действительно, Можайскова писала о «евразийской протоцивилизации», якобы давшей начало шумерам67. Аналогичным образом адыгейский философ А.Ю. Шадже писал о сложении адыгских национальных ценностей в глубокой первобытности и настаивал на том, что адыги сами выбрали ислам, якобы хорошо соответствовавший их культуре68.
Сознавая, что интеграция славян и тюрков, православных и мусульман невозможна на религиозной основе, философ А.С. Панарин призывал искать такие универсалии евразийской культуры, которые отодвинули бы религиозные и политические аргументы на задний план69. Этим в последние годы и занимается философ Э.С. Кульпин, населяющий Россию «славянотюркским суперэтносом». Он утверждает, что единое мировоззрение сложилось у последнего на основе общей хозяйственной жизни и общей исторической судьбы, а не на основе единой религии70. У некоторых сторонников цивилизационного подхода цивилизация фактически сливается с хозяйственно-культурным типом71.
В.Л. Калашников также считает, что цивилизацию, являющуюся гетерогенной по своей сути, характеризуют общие черты хозяйственной и социальной жизни. Однако он допускает наличие у нее и «конфессиональной окраски». Вместе с тем, по его мнению, «основой духовного общения народов Евразии должна стать особая цивилизационная «Большая традиция», в которой евразийская общность предстает как общность судьбы, подтвержденная историей и географией»72. Российский тюрколог С.Г. Кляштор-ный возвращает этот спор в область этнической культурологии и доказывает, что на территории Евразии веками складывался славяно-тюркский симбиоз, якобы способный создать преграду для агрессивного этнического национализма73. Имеется и компромиссная точка зрения, не связывающая цивилизацию непременно с какой-либо доминирующей конфессией, но утверждающая, что «российская цивилизация исторически определилась ее этноконфессиональным ядром — русским народом и, соответственно, русским православием»74.
Тем же самым определяется и спор о роли византийского наследия. Если противники евразийства придают этому наследию основополагающее значение в истории России75, то для евразийцев, как известно, первостепенное значение представляло «наследие Чингисхана»76. Однако и здесь предлагается компромиссное решение, по которому Византия имела «евразийскую природу» и была «идеократическим государством»; именно это России и посчастливилось унаследовать. В итоге Русь обрела свою «евразийскую сущность» задолго до монгол, впоследствии наградивших ее властью над огромной империей, что превратило ее в подлинно «евразийскую державу»77.
Поразительные нестыковки наблюдаются и при попытках локализовать «русскую (евразийскую) цивилизацию» во времени. Например, директор Института российской истории академик А.Н. Сахаров проводит различие между «русской цивилизацией», сложившейся, по его мнению, в Х-ХШ вв., и «евразийской державой», или многонациональным государством, возникшим к концу XV в. при Иване III78. Правда, остается не вполне ясным, как это сочеталось со сложением «великорусской народности» в XVI в.79 и появлением «русской нации» в начале XVIII в.80 Кроме того, в учебнике Сахарова и Боханова говорится о возникновении евразийской цивилизации лишь в XVIII в.81, тогда как там же Россия начала XIX в. представлена «великой европейской державой»82. В то же время такой видный журналист, как А. Бовин, считал, что «евразийской цивилизации» никогда не было83, а руководители Союза реалистов и клуба «Реалисты» еще только призывают «приступить к формированию евразийской, славяно-тюркской цивилизации»84. Академик Н.Н. Моисеев также замечал, что «время национальных, этнических государств прошло. Будущее — цивилизационные консенсусы и компромиссы»85. Автор газеты «Завтра» Е. Холмогоров приписывает русским давнее стремление «создать новую собственную цивилизацию, т.е. особый способ существования в этом мире», путем развития своей национальной культуры86. В свою очередь, философ А.С. Панарин пытался всеми силами создать для России идею самостоятельной цивилизации87. Наибольшим радикализмом отличались взгляды связанного с движением «Евразия» М.З. Юрьева, предложившего строить закрытую цивилизацию, во всем противоположную Западу88. Иными словами, нет общепризнанного ответа на вопрос о том, когда сложилась искомая цивилизация и сложилась ли она вообще. Такого рода нестыковки и противоречия, похоже, имманентно присущи цивилизационному подходу.
СИМВОЛИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
При этом как будто бы все сторонники цивилизационного подхода соглашаются с тем, что в России цивилизация сливается с государственностью, и это делает здесь идею «державности» особой ценностью89. Таким образом, будучи слабо разработан и отличаясь разительными противоречиями90, цивилизационный подход содержит ряд важных понятий, имеющих принципиальное значение для его сторонников. Это — «самобытность», «уникальность», «соборность», «пассионарность», «духовность», «суперэтнос», «социальный организм», «архетипы», «генетическая память», «цивилизационный код». Случается, что, оперируя такими понятиями, некоторые участники научных конференций используют их как инструменты не для решения каких-либо научных проблем, а исключительно для демонстрации своей любви к России91.
И хотя настаивая на неких нетленных духовных ценностях, лежащих в основе «русской цивилизации», никто так и не сумел четко сформулировать суть этих ценностей и доказать их незримое присутствие на протяжении всего ее исторического развития, само понятие «цивилизационных ценностей» служит ядром цивилизационного подхода. В то же время содержание этих ценностей оказывается не столь уж существенным; зато предполагается, что они имманентно присущи «русскому генотипу» и существуют на интуитивном уровне (поэтому «умом Россию не понять»). В итоге в работах многих сторонников цивилизационного подхода эти ценности не столько анализируются, сколько постулируются.
В их построениях «ценности» имеют особую функцию, вовсе не требующую строгого определения их содержания; речь идет о том, что на исторической сцене якобы постоянно сталкиваются не столько интересы, сколько некие глубинные ценности92. Однако анализ разнообразных версий современного цивилизационного подхода отчетливо показывает, что их создателями движут именно конкретные интересы, стремление использовать интеллектуальный проект для организации того или иного альянса, призванного осуществить конкретные политические задачи. В этом контексте ценности выступают лишь в качестве соблазнительного символа, но не более того. Иными словами, мы имеем здесь дело с «символической политикой», о которой когда-то писал американский политолог М. Эдельман93.
Модели «евразийской», или «русской (славяно-русской)», цивилизации имманентно присуще подозрительное отношение к Западу, постоянное ожидание угрозы оттуда, в частности покушения на свою «самобытность», а также отрицание каких-либо общечеловеческих ценностей94. Ведь каждая цивилизация якобы обладает своим «цивилизационным кодом», понятным только ее носителям95. Такие взгляды, разделяющиеся некоторыми историками, склонными к катастрофическому стилю мышления и поиску врагов96, уже начали проникать в учебную литературу97. В итоге во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов в России усиливались антизападные, в особенности антиамериканские настроения. Параллельно в обществе нарастала склонность представлять Россию особой цивилизацией. Только за 1998-1999 гг. число сторонников этой идеи увеличилось с 68% до 78%98.
Между тем если немало русских интеллектуалов самозабвенно отстаивают единство «российской цивилизации», то интеллектуалы на местах столь же истово доказывают возможность альтернативных подходов. Например, высказывается соображение о том, что Евразия включала несколько разных цивилизаций: «западную» (Польша, Прибалтика, Финляндия), славянскую, кавказскую, туркестанскую99. Этот подход, делающий акцент на региональных общностях, связанных языковым или культурным родством, заставляет кавказцев писать о «кавказской цивилизации»100, а татар — о «тюркской» или «мусульманской цивилизации»101. Даже у интеллектуалов, связанных с народами Севера, появилось представление об особой арктической (циркумполярной) цивилизации102. В адыгской среде заговорили об «адыгской цивилизации»103, армяне пишут об «армянской цивилизации»104, у чувашей возникла идея о «болгаро-чувашской цивилизации»105, а у якутов -о «цивилизации народа саха»106. Появился и проект «молдавской цивилизации»107. Иными словами, порожденный глобализацией «культуроцентризм» требует смещения акцента с политического фактора к культурному, и это ведет к политизации культуры108. Там, где раньше говорили об этносах, нациях и государствах, сегодня все чаще звучит термин «цивилизация». Правда, это не означает, что речь всегда идет о резком противопоставлении одних цивилизаций другим. Если татарские радикалы действительно склонны противопоставлять «тюркскую» или «исламскую» цивилизации «православной», то чувашский автор соглашается включать «болгаро-чувашскую цивилизацию» в состав «православно-российской цивилизации», а дагестанец Р. Абдулатипов видит «кавказскую цивилизацию» только вместе с «русской»109. То есть, прежняя иерархия, включавшая нации и народности или суперэтносы и этносы, сегодня сменяется новой, состоящей из мегацивили-заций и цивилизаций, как это озвучил на одной из евразийских конференций директор Института Дальнего Востока М.Л. Титаренко110.
ОТ КУЛЬТУРОЦЕНТРИЗМА К «НЕСОВМЕСТИМОСТИ КУЛЬТУР»
В постсоветское время российские историки и философы по-разному относились к цивилизационному подходу: некоторые безоговорочно его принимали, видя в нем удачный методологический прием, пробуждающий интерес к личности и позволяющий уйти от однолинейной исторической схемы111; другие проявляли большую осторожность и вместе с Баргом считали необходимым сочетать его с формационным112; третьи вовсе обвиняли оба упомянутых подхода в европоцентризме и предлагали вместо них опираться на теорию модернизации113. Философ А.С. Панарин вначале вслед за Баргом выступил против монопольного господства формационного подхода во имя единой человеческой цивилизации. В 1991 г. он писал: «Только перейдя к осмыслению другого, отличного не как границы своих возможностей, а расширение горизонта собственного бытия, мы утверждаем гуманистический универсализм». Тогда он отвергал формационный подход как расчленяющий единство человеческого рода114. Однако вскоре его взгляды резко изменились, и он стал одним из самых ярких адвокатов цивилизационного подхода, будто бы не замечая, что тот тоже расчленял это единство.
Между тем если некоторые авторы, включая и самого Барга, видели в цивилизационном подходе способ уйти от конфронтации, связанной с классовой борьбой, то опыт 1990-х годов показал, что и цивилизационный подход не свободен от конфронтационного духа. Например, некоторые авторы учебной литературы подхватили идею С. Хантингтона о «конфликте цивилизаций»115 и стали учить студентов тому, что «различие культур обусловливает противоречия между цивилизациями»116. В свою очередь, ряд консервативно настроенных российских историков и философов нашли в цивилизационном подходе опору для идеи о якобы вечной враждебности Запада России, которая веками должна была сопротивляться его «экспансии»117. Любопытно, что в этом такие авторы фактически повторяют позицию радикальной газеты «Завтра», заявлявшей, что «западные европейцы — не просто другой суперэтнос, а суперэтнос, имеющий по отношению к нам отрицательную комплиментарность, что определяло, определяет и будет определять характер наших взаимоотношений в любой сфере»118. Тем самым размывается граница между пониманием ценности культурного многообразия и тезисом о «несовместимости культур», ставшим к концу XX в. лозунгом культурного расизма119.
Следует отметить, что в Европе тоже имеются сходные настроения, причем их иной раз выражают ведущие политики, пытающиеся представить ее отдельной цивилизацией и отгородить непроходимой стеной от «мира варварства». Специалисты классифицируют это как одно из выражений «нового расизма», использующего в качестве эвфемизмов такие понятия, как «этнос», «культура», «цивилизация», и делающего акцент на их якобы незыблемых свойствах, в особенности духовных120.
По словам французского исследователя Э. Балибара, в Западной Европе стремление обрести четкую национальную идентичность неизбежно опирается на понятие «национальной чистоты». В свою очередь, последнее имеет очевидный расовый подтекст и противопоставляет христианскую «индоевропейскую» Европу третьему миру121. Вместе с тем если в некоторых странах Запада в течение последних десятилетий термин «культура» в значении обособленных культур используется, благодаря постмодернистам, прежде всего в отношении ощущающих дискриминацию меньшинств122, то в России он ассоциируется в общественном мнении прежде всего с преобладающим в стране населением. Это закрепляется цивилизационным подходом, сплошь и рядом игнорирующим нерусские культуры России и их специфику; они попросту поглощаются «российской (русской) цивилизацией».
Цивилизационный подход способен оказать некоторую помощь ученым, занимающимся историей культуры. Однако не следует упускать из виду, что, во-первых, на словах превознося человека, на деле цивилизационный подход делает его «ведомым существом», всецело зависящим от «цивилизации, культуры и религии»123. Во-вторых, конструируя обособленные цивилизации, этот подход вольно или невольно способствует поиску внешних врагов и выковывает конфронтационное мышление. А его огрубление и вульгаризация, встречающиеся в современных учебниках, способны лишь возбудить у учащихся ксенофобию и расовые настроения. Мало того, такого рода версии цивилизационного подхода оказываются близкими к радикальному национализму (корпоративное общество, по Муссолини), который, признавая деление общества на социальные группы или классы, рассматривает их как функциональные категории, работающие на общее дело. Следовательно, идеальной политической организацией такого народа может служить тоталитарное государство с одной партией и одним лидером. Именно к такому решению политических проблем были в свое время склонны евразийцы, а позднее его пропагандировали нацисты, выдвинувшие лозунг: «Один народ, одна партия, один фюрер»124.
Следовательно, далеко не всякая научная концепция может автоматически использоваться в политике. Такое аморфное явление, как культура, может в целях его более глубокого научного понимания быть представлено системой, включающей разнообразные, взаимодействующие друг с другом подсистемы, как это делали функционалисты. Однако некритическое использование такой научной конструкции в политике ведет к оправданию интегрального национализма и тоталитаризма. Действительно, это по сути имперское использование понятия «культура» уже выявило свое нутро в нацистской Германии и, как говорил Теодор Адорно, «идеальное состояние культуры в виде полной интеграции находит свое логическое выражение в геноциде»125.
В основе такой идеологии лежит представление о локальных культурах, развивающихся исключительно своим своеобразным путем, не имеющих ничего общего друг с другом и неспособных достичь полного взаимопонимания в силу их разного «духа». Например, вслед за Гумилевым марийский историк утверждает, что «развитие народов подчиняется законам биологического, естественно-природного цикла». Но, как следует из теории этногенеза Гумилева, народы развиваются несинхронно и находятся на разных фазах этногенеза, что якобы и определяет их «некомплиментарность» по отношению друг к другу126. Еще одним фактором «некомплиментарности» представляется религия. Ведь сплошь и рядом, отождествляя дух с религией, этот тип национализма иной раз пытается создать или возродить свою собственную религию127 или же национализировать одну из мировых религий, например, христианство, в лице какой-либо особой его конфессии и свести его роль к чисто локальному вероучению. Но «цивилизации», основанные на таких вероучениях, будут непременно входить в конфликт друг с другом, и это неизбежно ведет к культурным войнам128.
А вот как развивает теорию Гумилева современный татарский историк. Он представляет массовый террор «фактором саморегулирования этнической системой плотности своих популяций». Для него это — «хирургическая операция по удалению загнивающих клеток организма этноса». Поэтому он настаивает на том, что «в современных условиях оптимизировать внутреннюю структуру суперэтносов представляется возможным только посредством функционирования организованного и контролируемого государством массового террора». Политику геноцида он называет «инструментом оптимизации внутренней структуры этноса», ссылаясь при этом на практику германских нацистов129.
Важно отметить, что этот вид расизма находит свое обоснование в идеологии французских «Новых правых». Расоворазнородное или поликультурное общество они считают нежизнеспособным, и мечты о нем должны быть навсегда оставлены. Полагая, что у каждой этнической общности имеется свое «биосоциальное ядро», они призывают к сохранению расовой однородности и настаивают на несовместимости разных этносов. Поэтому многорасовое общество рассматривается ими как «вызов европейской цивилизации», грозящий ее «этнокультурной гомогенности»130. Соответственно осуждаются и межэтнические браки. Зато воспеваются традиционные индиген-ные культуры, сохранившие свою самобытность; пропагандируется свойственное им язычество, а иудео-христианство обвиняется в стремлении стереть с лица земли всю ее неповторимую культурную мозаику. Глобализации противопоставляется «культурная экология»131. Трудно не заметить сходств между такими представлениями и теми, что встречаются сегодня в российской «культурологии».
Действительно, именно по этому пути идут такие недавно возникшие в нашей науке направления, как «экология культуры» и «экология языка». Испытывая понятные тревоги по поводу размывания этнических культур, их энтузиасты пытаются искусственно затормозить процесс культурных изменений и выдвигают утопические проекты, призванные обратить время вспять и вернуть культурам и языкам некую первозданную чистоту. Ради этого создается миф о необычайной устойчивости этнической духовности. В частности, встречается утверждение о том, что якобы «русская ментальная картина мира обладает общими и постоянными чертами»132. Фактически именно такой подход создает почву для расцвета «культурного расизма».
ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Таким образом, цивилизационный подход не только уязвим для научной критики133, но в своих популярных версиях формирует у учащихся культурный и религиозный фундаментализм, прививает им расовое мировоззрение (в виде культурного расизма) и создает конфронтационные настроения. Если на словах сторонники цивилизационного подхода воспевают многополярный мир, то на деле многие из них придерживаются прежнего манихей-ского взгляда на мир, деля его на Зло (Запад) и Добро (незападные цивилизации). Если на рубеже 1980-1990-х годов они истово искали корни марксизма и большевизма в иудео-христианстве, то, исходя из той же методологии, основы их собственного нынешнего манихейского подхода нетрудно обнаружить в православии. Мало того, журналист Ю. Богомолов не без оснований проводит параллель между нацистской идеологемой борьбы «арийской цивилизации» с евреями с идеей борьбы «славянской цивилизации» с Западом134.
Чем же цивилизационный подход так дорог своим сторонникам? Во-первых, как уже отмечалось, он подпитывает ностальгию по былому величию, сохраняя за Россией облик великой державы, если не политически, то культурно. Термин «цивилизация» придает ей особый престиж, поднимая над уровнем обычной страны135. Во-вторых, настаивая на особом пути России, он изымает ее из обычной универсальной эволюционной схемы, основанной на социально-экономических критериях136. В этом реализуются призывы к «культуроцентризму», раздававшиеся в 1990-х годах как из окружения президента России137, так и от деятелей системы образования138. Тем самым снимается проблема сопоставимости с другими обществами, и термины «отставание» или «догоняющая модернизация» оказываются для России неприменимы139 — они свободно заменяются понятием «самобытного исторического пути». Наконец, в-третьих, отказываясь от линейности исторического процесса в пользу цикличности, цивилизационный подход дарит России надежду на возрождение и новый взлет в будущем. Мало того, цивилизационный подход наделяет Россию особой «миссией» и прививает мессианское мышление140.
И последнее. Посвятив более 500 страниц своей книги доказательству тысячелетнего существования «русской православной цивилизации», Н.А. Нарочницкая заканчивает это объемистое произведение характерным откровением: вместо цивилизации Россия представляется «державотворя-щей нацией»141. Требуется ли более красноречивое признание того, что «евразийская (русская, православная) цивилизация» служит сегодня привлекательным лозунгом русскому национализму?
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Черняк Е.Б. Михаил Абрамович Барг // Цивилизации / Под ред. А.О. Чубарьяна. Вып. 3. М., 1995. С. 10-11; Плетников Ю.К. Формационная и цивилизационная триады // Свободная мысль. 1998.
2 Аяцков Д.Ф. и др. Указ. соч. С. 18. См. также: Мартюшов Л.Н., Попов М.В. Россия и мир: Лекции по курсу «История цивилизаций». Ч. 1. Екатеринбург, 1996. С. 3; Тот Ю.В. и др. История России 1Х-ХХ веков: Пособие по отечественной истории для старшеклассников, абитуриентов и студентов. СПб., 1996. С. 7; История цивилизаций мира: Учебное пособие / Под ред. В.Г. Белозеровой. М., 1998. С. 3.
3 Сталин И.В. Соч. М., 1946. Т. 2. С. 296.
5 Орлова И.Б. Евразийская цивилизация: социально-историческая ретроспектива и перспектива. М., 1998. С. 25. См. также: Кулъпин Э.С. Бифуркация Запад-Восток. М., 1996. С. 75.
6 Аяцков Д.Ф. и др. Указ. соч. С. 24; История России. Проблемы цивилизационного развития: Учебное пособие / Под ред. В.В. Рыбникова, В.А. Динес. Саратов, 1999. С. 24.
7 См., напр.: Орлова И.Б. Указ. соч. С. 37.
8 Об этом см.: Янов АЛ. Патриотизм и национализм в России, 1825-1921. М., 2002. С. 140-174, 196-202.
9 О нем см.: Шнирелъман В.А., Панарин С.А. Лев Николаевич Гумилев: основатель этнологии? // Вестник Евразии. 2000.
10 Новикова Л.И. Цивилизация как идея и как объяснительный принцип исторического процесса // Цивилизации / Под ред. М.А. Барга. М., 1992. Вып. 1. С. 9-13.
11 Формации или цивилизации // Вопросы философии. 1989.
12 Барг М.А. О категории «цивилизация» // Новая и новейшая история. 1990.
13 Там же. С. 34-36.
14 Там же. С. 39-40.
15 Барг М.А. Цивилизационный подход к истории: дань конъюнктуре или требование науки? // Коммунист. 1991. № 3. С. 27-35; Он же. Цивилизационный подход к истории: дань конъюнктуре или требование науки? // Цивилизации / Под ред. М.А. Барг. М., 1993. Вып. 2. С. 8-17. Ср.: Он же. О категории «цивилизация». С. 31.
16 Барг М.А. Цивилизационный подход к истории … С. 15.
17 Искендеров А.А. Историческая наука на пороге XXI века // Вопросы истории. 1996.
18 Бромлей Н.Я. Цивилизация в системе общественной структуры // Цивилизации. Вып. 2. С. 234.
19 Новикова Л.И. Указ. соч. С. 16; Рейснер Л.И. Историческое общество как единство формационного и цивилизационного начал // Цивилизации. Вып. 1. С. 50-68; От редколлегии // Цивилизации. Вып. 2. С. 5.
20 Орлова И.Б. Указ. соч. С. 25-26.
21 Черняк Е.Б. Цивилиография: наука о цивилизации. М., 1996. С. 176.
22 Тишков В.А. О новых подходах в теории и практике межнациональных отношений // Советская этнография. 1989.
23 Русская нация и обновление общества / Под ред. Е.С. Троицкого. М., 1990; Баграмов Э.А. Нация как согражданство? // Независимая газета. 1994. 15 марта. С. 5; Абдулатипов Р.Г. Природа и парадоксы национального «Я». М.; 1991; Он же. Заговор против нации: национальное и националистическое в судьбах народов. СПб.; 1992; Он же. Парадоксы суверенитета: перспективы человека, нации, государства. М., 1995; Он же. Национальный вопрос и государственное обустройство России. М., 2000. С. 41-50, 403; Володин Э.Ф. Национальная идеология // Государственная идеология и общенациональная идея. С. 21-28; Шадже А.Ю. Национальные ценности и человек. Майкоп. 1996; Тадтаев Х.Б. Этнос. Нация. Раса. Национально-культурные особенности детерминации процессов познания. Саратов, 2001; Соловей В.Д. О государственной стратегии формирования национальной идентичности в России // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 6; Он же. Рождение нации // Свободная мысль — XXI. 2005. № 6. С. 14-16.
24 Луръе С.В. Русские в Средней Азии и англичане в Индии: доминанты имперского сознания и способы их реализации // Цивилизации и культуры / Под ред. Б.С. Ерасова. М., 1995. Вып. 2. С. 267.
25 См., напр.: Кантор В.К. Является ли Россия исторической страной? // Вопросы философии. 1995,
26 Явлинский Г.А. Выступление на историософских чтениях в Российском государственном гуманитарном университете «Россия при Путине — куда же ты?» // Континент. 2001.
27 Панарин А.С. От формационного монолога к цивилизованному диалогу // Коммунист. 1991.
28 Об этом см.: Ерасов Б.С. Россия в системе каких координат? // Восток. 1995.
29 Панарин А.С. Соблазн западничества и аскеза евразийства. Заметки «консерватора» // Знание-сила, 1994. С. 64-71; Он же. Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизаци-онные ответы // Вопросы философии, 1994. № 12. С. 19-31; Он же. Евразийский проект в миросистемном контексте // Восток. 1995. № 2. С. 70.
30 Панарин А.С. Соблазн западничества…; Он же. Евразийский проект… С. 67-68; Он же. Заблудившиеся западники и пробудившиеся евразийцы // Цивилизации и культуры / Под ред. Б.С. Ерасова. М., 1994. Вып. 1. С. 82-94.
31
32 Панарин А.С. Россия в Евразии… С. 27-29; Он же. Евразийский проект… С. 72-74. См. также: Моисеев Н.Н, Цымбурский В.Л. Выступления на «круглом столе» «Россия в условиях стратегической нестабильности» // Вопросы философии. 1995. № 9. С. 5, 30.
33 Мириханов Н.М. Татары и тюркский мир: воспоминания о будущем // Единство татарской нации / Под ред. М.Х. Хасанова. Казань, 2002. С. 47.
34 Абдулатипов Р. Парадоксы суверенитета…; Он же. Национальный вопрос… С. 28-30.
35 Боков Х.Х. Интерес с этническим окрасом. М., 1998. С. 113-115.
36 Хасбулатов Р. Русская идея // Российская газета. 1993. 17 июня С. 3-4.
37 Кулъпин Э.С. Путь России. Кн. 1: Первый социально-экологический кризис. М., 1995. С. 14-17, 156.
38 Флиер А.Я. Об исторической типологии российской цивилизации // Цивилизации и культуры. Вып. 1. С. 94-115.
39 Кеслер Я.А. Русская цивилизация. М., 2002. С. 423-425.
40 Евразийство: за и против, вчера и сегодня // Вопросы философии. 1995.
41 Панарин А.С. Евразийский проект… С. 72-74; Он же. Между непримиримой враждой и нераздельным единством // Вопросы философии. 1995.
42 Панарин А.С. Философия политики. М., 1994. С. 149. В течение 1990-х годов Панарин несколько раз кардинально поменял свои взгляды, однако каждый раз с неубывающей страстью доказывал свою правоту. К началу 2000-х годов он, похоже, разочаровался в «христи-анско-мусульманском союзе» и, не найдя единых глубинных ценностей «евразийской цивилизации», но не оставляя надежды предложить русским мессианскую идею, выдал за таковую стремление православия объединить весь мир. Так русским в который уже раз предлагалось спасти человечество. См.: Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002. С. 380, 484-493. Об эволюции взглядов Панарина от социал-демократических к неоконсервативным см.: Цыганков А.П. Национальный либерализм Александра Панарина // Свободная мысль — XXI. 2005.
43 Сендеров В.А. Евразийство: этатизм и идеология // Вопросы философии. 1995.
44 Кабаков А.А. Выступление на «круглом столе» «Россия и Запад: взаимодействие культур» // Вопросы философии. 1992. № 6. С. 32; В каком состоянии находится русская нация // Вече. 1993. № 50. С. 31, 35-36; Антонов М. «Русская карта» и кто ее разыгрывает // Русский путь. 1993. № 4; Имперская доминанта. Геополитический вызов России // Россия. 1994. 16-22 ноября. С. 6.
45 Мяло К. Есть ли в Евразии место для русских? // Литературная Россия. 1992. 7 авг. С. 4; Мяло К, Нарочницкая Н. Пути восстановления России и «евразийский соблазн» // Русь Державная. 1994. № 10. С. 5; Они же. Восстановление России и евразийский соблазн // Наш современник, 1994. № 11-12. С. 216-217; Нарочницкая Н, Мяло К. Еще раз о «евразийском соблазне» // Наш современник. 1995. № 4. С. 133-135; Нарочницкая Н.А. Борьба за поствизантийское пространство // Наш современник. 1997. № 4. С. 239; Она же. Россия и русские в мировой истории. М., 2003. С. 523-525. См. также: Лысенко Н.Н. Откровенный разговор о «друзьях», «врагах» и коренных интересах нации // Наш современник. 1993. № 7. С. 153-155; Он же. Стратегия нашей борьбы // Молодая гвардия. 1993. № 9. С. 181-187; В каком состоянии находится русская нация // Вече. 1993. № 50. С. 38-39, 48.
46 Булычев Ю. Русский консерватизм: обретение утраченного? // Москва. 1993. № 2. С. 129-132.
47 Моисеев Н.Н. Время определять национальные цели // Социально-гуманитарные знания. 1999. № 6. С. 136-138. Евразийских мусульман Моисеев размещал почему-то только на юге, старательно забывая о татарах Среднего Поволжья.
48 Калашников В.Л. Славянская цивилизация. М., 2000. С. 3, 8, 25, 147, 197. Любопытно, что в качестве синонимов он использует также термины «русская» и «славяно-русская» цивилизация. См. также: Русско-славянская цивилизация: исторические истоки, современные геополитические проблемы, перспективы славянской взаимности / Под ред. Е.С. Троицкого. М., 1998.
49 Платонов О. Русская цивилизация. М., 1992; Русская цивилизация и соборность / Под ред. Е.С. Троицкого. М., 1994; Русско-славянская цивилизация…; Троицкая Н.Е. Русская цивилизация между Востоком, Западом и Югом. М., 1995; Казин А.Л. Последнее царство: русская православная цивилизация. СПб., 1998; Болъшаков В.И. Грани русской цивилизации. М., 1999; Можайскова И В. Духовный образ русской цивилизации и судьба России. Ч. 1-4. М., 2001-2002.
50 Евразийская идея: вчера, сегодня, завтра (из материалов конференции, состоявшейся в Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО) // Иностранная литература. 1991. № 12. С. 225. Как показывают специальные исследования, дилетантизм вообще сыграл немалую роль в развитии русской культуры. См.: Черва В.Е. Дилетантизм как феномен русской музыкальной культуры XVШ-XX вв. // Культурологические исследования / Под ред. Г.К. Щедриной. СПб., 2003.
51 Об этом см.: Шнирелъман В.А. Цивилизационный подход, учебники истории и «новый расизм» // Расизм в языке социальных наук / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипо-ва. СПб., 2002. С. 135-136.
52 Троицкий Е. Без патриотов России будет худо // Литературная Россия. 1991. 12 дек. С. 6.
53 Челноков А. Муэдзин на Спасской башне // Известия. 1995. 20 дек. С. 5.
54 Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения. М., 2002. С. 21, 48-60.
55 Козин Н.Г. Идентификационный кризис в России // Свободная мысль — XXI. 2002. № 5. С. 47-57.
56 Панарин А.С. Россия в Евразии… С. 26. См. также: Калашников В.Л. Указ. соч. С. 149-150.
57 Абдулатипов Р. Парадоксы суверенитета. С. 98-99, 114, 158-159, 197.
58 Ерасов Б.С. Указ. соч. С. 16.
59 Шахназаров Г.Х. Указ. соч. С. 75; Кантор В.К. Указ. соч. С. 38.
60 Кантор В.К. Указ. соч. С. 45-46; Он же. Европейский смысл России // Свободная мысль -XXI. 2005.
61 Абдулатипов Р. Парадоксы суверенитета. С. 66; Моисеев Н.Н. Указ. соч. С. 140; Каланда-ров К.Х. Европу и Азию должны объединить права человека // Евразийская партия России. М., 2002. С. 25.
62 Платонов О. Указ. соч. С. 18; Казин АЛ. Указ. соч.; Флиер А.Я. Указ. соч. С. 97; Ионов И.Н. Российская цивилизация IX — начала XX в.: Учебник по истории для 10-11 классов. М., 1995.
63 Орлова И.Б. Указ. соч. С. 29; Черняк Е.Б. Цивилиография. С. 173-174; Мчедлов М.П. Российская цивилизация (этнокультурные и духовные аспекты) // Обновление России: трудный поиск решений. Вып. 7. Российская цивилизация: этнокультурные и духовные аспекты. М., 1999. С. 16-28; Ерасов Б.С. О специфике и динамике цивилизационного устроения России // Там же. С. 47; Нуруллаев А.А. Общенациональная идея и будущность российской цивилизации // Там же. С. 192-199; Абалкин Л.И. Указ. соч. С. 47.
64 Можайскова И.В. Указ. соч. Ч. 2. С. 396.
65 Капустин Б.Г. Россия и Запад: пути к миру миров // Цивилизации и культуры. Вып. 1. С. 20-38.
66 Моисеев Н.Н. Выступление на «круглом столе» «Россия в условиях стратегической нестабильности» // Вопросы философии. 1995.
67 Можайскова И.В. Указ соч. Ч. 1. С. 478-479.
68 Шадже А.Ю. Национальные ценности и человек (социально-философский аспект). Майкоп, 1996. С. 96-99.
69 Панарин А.С. Между непримиримой враждой и нераздельным единством // Вопросы философии. 1995.
70 Кулъпин Э.С. Путь России. Кн. 1. Первый социально-экологический кризис. М., 1995. С. 185.
71 См., напр.: Буровский А.М. Степная скотоводческая цивилизация: критерии описания, анализа и сопоставления // Цивилизации. Вып. 3. С. 151-164.
72 Калашников В.Л. Указ. соч. С. 23-25, 31, 152.
73 Кляшторный С.Г. Россия и тюркские народы: евразийская перспектива // Звезда. 1995.
74 Шаповалов В.Ф. Истоки и смысл российской цивилизации. М., 2003. С. 5-6, 532. Любопытно, что автор этой концепции признает, что убежденных христиан в России всегда было немного, но это не мешает ему доказывать, что именно они-то и составляли стержень «российской цивилизации» (Там же. С. 514-517). Придерживающийся сходных взглядов А.Я. Флиер объясняет, что православие существовало в России главным образом как социально-нормативный, а не духовно-нравственный институт. Именно в этой форме оно и проникало в массы, сохранявшие свое невежество во многих духовных вопросах. См.: Флиер А.Я. Указ. соч. С. 97-98.
75 Иегумен Иоанн Экономцев. Православие, Византия, Россия. М., 1992; Евразийство: за и против, вчера и сегодня. С. 37; Нарочницкая Н.А. Борьба за поствизантийское пространство. С. 231-244. Впрочем, в головах некоторых иерархов РПЦ евразийская идея мирно уживалась с византинизмом. При этом первым идею объединения «духовно близких народов», принадлежавших к «византийскому кругу», выдвинул бывший социал-демократ О.ор ].Е. Ор. сИ. Р. 18-19.
76 И.Р. (Трубецкой Н.С.) Наследие Чингисхана. Прага, 1929; ГумилевЛ.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.
77 Кожинов В В. Византийское и монгольское «наследство» в судьбе России // Российский обозреватель. 1996. №3. С. 97-112; Дугин А.Г. Эволюция национальной идеи Руси (России) на разных исторических этапах // Лев Николаевич Гумилев. Теория этногенеза и исторические судьбы Евразии / Под ред. Л.Р. Павлинской. Т. 2. СПб., 2002. С. 15-16.
78 Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI в.: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М., 2001. С. 106, 166; Он же. История России. С древнейших времен до конца XVI в.: Учебник для 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений. М., 2003. С. 147-149. Но в учебнике для 10 класса Сахаров уже не упоминает «евразийскую державу» (Там же. С. 240-242).
79 Сахаров А.Н. История России. С древнейших времен до конца XVI в. Учебник для 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений. С. 240.
80 Сахаров А.Н, Боханов А.Н. История России. XVII-XIX века: Учебник для 10 класса общеобразовательных учебных заведений. М., 2003. С. 146.
81 Там же. С. 215.
82 Там же. С. 239.
83 Бовин А. Евразия: миф и реальность // Известия. 1998. 17 дек. С. 3. См. также: Шевченко В Н. К современным спорам вокруг евразийской идеи // Евразийский проект модернизации России: «за» и «против» / Под ред. В.Н. Шевченко. М., 1995. С. 36.
84 См., напр.: Евразийский проект: реальности, проблемы, концепции / Сост. Н.Н. Белков,
B.А. Петров. М., 1996. С. 53; Петров Ю.В. Вступление // Государственная идеология и общенациональная идея / Под ред. Г.А. Чернейко. М., 1997. С. 3-7.
85 Моисеев Н.Н. Выступление на «круглом столе» «Россия в условиях стратегической нестабильности». С. 7.
86 Холмогоров Е. Кредо националиста // Завтра. 2005. Август (
87 Панарин А.С. Заблудившиеся западники…; Он же. В каком мире нам предстоит жить? Геополитический прогноз // Москва. 1997.
88 Юръев М.З. Крепость Россия // Новая газета. 2004. 15-17 марта (Спецвыпуск. С. 1-3).
89 Орлова И.Б. Указ. соч. С. 39; Ерасов Б.С. Указ. соч. С. 29-48; Абалкин Л.И. Указ. соч. C. 21, 54.
90 Об этом см.: Шнирелъман В.А. «Столкновение цивилизаций» и предупреждение конфликтов // Вестник Института Кеннана в России. 2005. Вып. 7. С. 22-29.
91 См., напр.: Пуляев В.Т. Этносоциальный взгляд на мир и гуманизм // Учение Л.Н. Гумилева и современность / Под ред. Л.А. Вербицкой. СПб., 2002. С. 36-51.
92 См., напр.: Нарочницкая Н.А. Борьба за поствизантийское пространство.
93
94 Кара-Мурза С.Г. От «симфонии народов» к «этническому тиглю» // Правда. 1993. 30 июня. С. 3; Он же. От чего же мы отказались // Правда. 1993. 14 июля. С. 3; Имперская доминанта. Геополитический вызов России // Россия. 1994. 16-22 ноября. С. 6; Моисеев Н.Н. Выступление на «круглом столе» «Россия в условиях стратегической нестабильности». С. 4; Он же. Время определять национальные цели. С. 140-141; Орлова И.Б. Указ. соч. С. 59-117; Чекалин А.Н. Темнее всего перед рассветом. М., 1999; Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002; Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории; Дугин А.Г. Философия войны. М., 2004. С. 50-52.
95 Дугин А.Г. Эволюция национальной идеи Руси (России) на разных исторических этапах. С 10; Каширин В.И. Этнология и гендерология в свете современной российской глобалистики // Этнические проблемы современности / Под ред. В.А. Шаповалова. Вып. 7. Ставрополь, 2001. С. 111-129.
96 См., напр.: Фроянов И.Я. Октябрь семнадцатого (глядя из настоящего). СПб., 1997. С. 123; Он же. Погружение в бездну (Россия на исходе XX века). СПб., 1999. С. 61; Багдасарян В.Э. Россия в XXI веке: альтернативный сценарий развития // Россия в условиях трансформаций / Под ред. С.С. Сулакшина. М., 2002. Вып. 21. С. 5-21.
97 Об этом см.: Шнирелъман В.А. Интеллектуальные лабиринты. М., 2004. С. 332.
98 Андреев А.Л. «Мы» и «они»: к характеристике внешнеполитических ориентаций российского общества // Россия в условиях трансформаций / Под ред. С.С. Сулакшина. М., 2002. Вып. 21. С. 60. Любопытно, что, по социологическим данным, приведенным А.Л. Андреевым, в 2000-2001 гг. две трети россиян все же ощущали себя «европейцами», и лишь каждый третий тяготел к «евразийской» идентичности (См.: Там же. С. 66).
99 ШимовЯ. У всех империй конец один // Беларуская думка. 1993.
100 Абдулатипов Р. Кавказская цивилизация: самобытность и целостность // Научная мысль Кавказа, 1995.
101 Хаким Р.С. Россия и Татарстан: у исторического перекрестка // Панорама-форум. 1997. № 1; Исхаков Д. Проблемы становления и трансформации татарской нации. Казань, С. 178-183, 186; Измайлов И.Л. Историческое прошлое как фактор национальной мобилизации // Единство татарской нации / Под ред. М.Х. Хасанова. Казань, 2002. С. 71.
102 Николаев М.Н. Планета Арктика // Президент. Парламент. Правительство. 1999.
103 Бакиев А.Ш. Это было уже в веках… // Кабардино-Балкарская правда. 1992. 9-16 окт.; Он же. Адыгская цивилизация. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Нальчик, 1998.
104 Баренц Р. Геополитика: взгляд изнутри. Ереван, 1999.
105 Тафаев Г.И. Болгаро-чувашская цивилизация: прошлое, настоящее, будущее. Чебоксары, 2000; Он же. Болгаро-чувашская цивилизация: краткая история развития и становления болгаро-чувашской цивилизации. Чебоксары, 2001.
106 Тумусов Ф.С. Цивилизация Саха: место в мировом сообществе // Тюркский мир. 1998.
107 Эрлих С. Россия колдунов. СПб.; Кишинев, 2003.
108 В некоторых контекстах этот подход принимает откровенно расовый облик, ибо цивилизация отождествляется с расой (См., напр.: Баренц Р. Указ. соч. С. 95).
109 Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственное обустройство России. М., 2000. С. 281-282.
110 Евразийский союз: новые рубежи, проблемы и перспективы / Под ред. Г.В. Осипова. М., 1996. С. 36. См. также: Черняк Е.Б. Цивилиография. С. 172.
111 Искендеров А.А. Указ. соч. С. 17-19, 25; Сахаров А.Н. О новых подходах в российской исторической науке. 1990-е годы // Мир историка. XX век / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2002. С. 15-20.
112 См. также: Формации или цивилизации // Вопросы философии. 1989. № 10. С. 34-59; Рейс-нер Л.И. Историческое общество как единство формационного и цивилизационного начала // Цивилизации. Вып. 1. С. 50-68; Бромлей Н.Я. К вопросу о соотношении понятий «цивилизация» и «формация» // Там же. С. 225-228; Плетников Ю.К. Теория должна соответствовать истории // Вопросы истории. 1994. № 6. С. 66-70; Он же. Формационная и цивили-зационная триады; Он же. Исторический процесс: соотношение формационного и цивилизационного подходов // Обновление России: трудный поиск решений / Под ред. М.К. Горшкова и др. М., 1999. Вып. 7. С. 209-215; Ковалъченко И.Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований // Новая и новейшая история. 1995. № 1. С. 23-25; Шевченко В Н. Реабилитация философии истории и новые перспективы развития исторического знания // Вопросы истории. 1994. № 6. С. 71-76; Ланда Р.Г. Единство исторического процесса // Там же. С. 84-90; Алаев Л.Б. На подступах к новой теории исторического процесса // Там же. С. 90-95; Он же. Где тонко — там и рвется // Новая и новейшая история. № 3. С. 88-90; Кузищин В.И. О некоторых принципиальных положениях методологии истории // Там же. С. 84-87; Данилов В.П. В поиске новой теории // Вопросы истории. 1994. № 6. С. 100-103; Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1997.
113 Шелохаев В.В. Модернизация и тупики конфронтации между властью и обществом // Обществознание в школе. 1998.
114 Панарин А.С. От формационного монолога к цивилизованному диалогу. С. 17.
115 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994.
116 Орлов Г.В. Отечественная история. Мир и россияне: 1861-2001. М., 2003. С. 8. Об опасности такого подхода см.: Цыганков А.П, Цыганков П.А. Плюрализм или обособление цивилизаций? Тезис Хантингтона о будущем мировой политики в восприятии российского внешнеполитического сообщества // Вопросы философии. 1998.
117 Россия и Запад: взаимодействие культур // Вопросы философии.йей Еигореап8: ипйег81апйтд е1ЬшсШе8 т соп*Ис1 / Ей. Т. А11еп, 1 Еайе. ТЬе Надие, 1999. Р. 45-49.
121
122
123 Ерасов Б.С. Предисловие: о статусе культурно-цивилизационных исследований // Цивилизации и культуры. Вып. 1. С. 8. Следует заметить, что западные социокультурные антропологи уже давно отказались от такого культурного монизма, поняв, что он недооценивает роль индивидуальной инициативы и всецело подчиняет человека обществу или государству. О диалектических взаимоотношениях между человеком и обществом, человеком и культурой пишут некоторые российские историки и философы (см.: Ковалъченко И.Д. Обращение к читателю // Цивилизации. Вып. 1. С. 6; Барг М.А. Проблема человеческой субъективности в истории // Там же. С. 69-87; Новикова Л.И. Указ. соч. С. 21-22).
124
125
126 Шалаев В.П. Теория этногенеза на рубеже веков и проблемы России // Узловые проблемы современного финно-угроведения / Под ред. Г.А. Архипова. Йошкар-Ола, 1995. С. 270-273. Нечто подобное доказывает и татарский автор (См.: Сайфуллин Р.Г. Теория этногенеза и всемирный исторический процесс. Казань, 2002).
127 Неоязычество на просторах Евразии / Под ред. В.А. Шнирельмана. М., 2001;
128
129 Сайфуллин Р.Г. Теория этногенеза и всемирный исторический прогресс. Казань, 2002. С. 143, 235.
130 Эти рассуждения с благодарностью принимаются Национальным фронтом Ле Пэна (См.: Карцев Е.А. «Новые правые» Франции: антология современных идей. М., 1996. С. 134-151).
131 Об этом см., напр.Карцев Е.А. Указ. соч. С. 122-124.
132 Савелъева Л.В. Языковая экология. Петрозаводск, 1997. С. 63.
133 Ряд сторонников цивилизационного подхода признают неразработанность понятия «цивилизация» и отсутствие ее четких критериев (См.: Новикова Л.И. Указ. соч. С. 13-15; Дмитриев М.В. Некоторые аспекты изучения истории цивилизаций в современной французской историографии // Цивилизации. Вып. 1. С. 187-206; Ахиезер А.С. Выступление на «круглом столе» «Россия в условиях стратегической нестабильности» // Вопросы философии. 1995.
134 Богомолов Ю. Я спросил у Гитлера… // Известия. 1996. 26 марта. С. 5.
135 Это открыто признавал В.В. Кожинов, говоря о равновеликости России Европе. См.: Кожинов В.В. В каком состоянии находится русская нация) // Вече. 1993. № 50. С. 54.
136 Между тем один из первых пропагандистов цивилизационного подхода в России М.А. Барг справедливо подчеркивал, что этот подход не должен противопоставляться формационно-му и отнюдь его не отменяет (см.: Барг М.А. О категории «цивилизация» // Новая и новейшая история. 1990. № 5. С. 37; Он же. Цивилизационный подход к истории: дань конъюнктурщине или требование науки? // Цивилизации. Вып. 2. С. 14).
137 Дмитриев В. Необходимость культуроцентризма // Свободная мысль. 1997. № 12.
138 Рябцев Ю.С. Школьная отечественная история и русская культура // Преподавание истории в школе. 1997. № 7.
139 См., напр.: Доклад Г.А. Зюганова на IV съезде КПРФ (19-20 апреля 1997 г.) // Экономическая газета. 1997. № 17. С. 3. А.С. Панарин писал, что если по критериям индустриализма Россия отставала от Запада, то по критериям постиндустриального мира она обладала особым «цивилизационным архетипом» и, кроме того, не вписывалась в западные стандарты (См.: Панарин А.С. Евразийский проект. С. 71; Он же. В каком мире нам предстоит жить? Геополитический прогноз // Москва. 1997. № 10. С. 161). Об этих настроениях см.: Левада Ю. Выступление на историософских чтениях в Российском государственном гуманитарном университете «Россия при Путине — куда же ты?» // Континент, 2001. № 108. С. 166; Зверева Г.И. «Присвоение прошлого» в постсоветской историософии России // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 548-550).
140 См., напр.: Захарова Е.Н. Примерное планирование курсов истории и обществознания для 10-11 классов. М., 1999. С. 85. Об этом см.: Шнирелъман В.А. Интеллектуальные лабиринты. С. 333.
141 Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. С. 532.
Опубликовано: Национализм в мировой истории / под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. С. 4-24.
Проблемы методологии истории в современной литературе
В советской обществоведческой литературе, как известно, господствовал формационный подход к историческому процессу. Так продолжалось до конца 80-х гг. ХХ в. пока ревнители объективности и демократии в науке не заявили, что нужно дать свободу и другим методологическим подходам. Истинная цель такой установки была видна невооруженным глазом, но, как говорится, не успели оглянуться и формационный подход, практически, был выброшен из подавляющего большинства учебников и методических пособий. Такова дорога объективности. Кто же руководил таким методологическим переворотом? Никаких решений исторических съездов или конференций не было, никто не устраивал и социологических опросов историков. Взяли и решили, решили где – то там наверху, где утвердили новые символы, не посоветовавшись с народом, как и во многом другом.
Примечательно, что в атаке на марксизм приняли участие и публицисты, и исследователи так называемого левого направления. Многие годы вел борьбу с историческим материализмом публицист С.Г. Кара-Мурза, которому дал обстоятельный и предметный ответ питерский философ и экономист В.Я. Ельмеев.[1] Неподдельное удивление вызвало заявление известного философа А.А. Зиновьева, когда он объявил себя сторонником коммунизма, но не марксизма.
Отмена формационного подхода в подавляющем большинстве школьных и вузовских учебниках и пособиях последовала параллельно со сменой общественного строя в стране, также произведенного, отнюдь, не в результате референдума или прочего совета с народом. Смена общей идеологической парадигмы привела и к смене методологии, но произошло это таким образом, что само слово методология на каком – то этапе стало чуть ли не бранным. За этим последовал откровенный методологический хаос, приведший к смятению умов и к потере прежних мировоззренческих установок, но далеко не к созданию новых. Хаос этот был управляемый причем не только сверху, но и из – за пределов страны. Были предприняты попытки порождения новых кумиров. Ими, как правило, стали философы — эмигранты, на изучение наследия которых устремились сотни российских гуманитариев. Но затем мода на эмигрантов несколько поослабла и в качестве мировоззренческих метров стали называться различные западные светила обществоведения.
Это западничество господствует в российских верхах и сегодня, хотя разразившийся кризис, который явился не только финансово – экономическим, но и системным, должен был поубавить пыл отечественных западнофилов. Примером может послужить речь президента Российской Федерации Д.А. Медведева на Ярославском мировом политическом форуме 10 сентября 2010 г. В этой речи, кроме имен нескольких лидеров зарубежных стран участников форума, упомянуты лишь два ученых, оба западных, упомянуты как большие авторитеты. Один из них Сеймур Липсет, а другой Карл Поппер. Не ставя перед собой задачи подробной характеристики наследия этих двух представителей западного обществоведения, нельзя не отметить их политической и мировоззренческой эволюции. Сеймур Мартин Липсет, сын выходцев из России, проделал эволюцию от троцкизма к неоконсерватизму и стал одним из идеологов последней консервативной волны, последовавшей в 70-80-е гг. прошлого века. Карл Раймунд Поппер, выходец из Австрии, обосновавшийся в Англии, также начинал как левый философ. Но, хотя у него есть отдельные позитивные высказывания о К. Марксе [2], перешел от социал-демократизма к активному антимарксизму, к отрицанию объективных законов общественного развития, критике историцизма, опубликовав свою ставшую широко известной книгу «Нищета историцизма». Оба они, таким образом, перешли на службу к буржуазии и стали апологетами капитализма.
Таковы кумиры современного российского президента, произнесшего в своей речи также и следующие слова: «Именно в ХХ веке под лозунгом поддержки так называемого «простого человека» и создавались самые худшие диктатуры». О каких диктатурах идет речь можно догадываться, а что касается простого человека, то, видимо, им заниматься не следует. Естественно, слова президента соответствуют настроениям современных российских верхов и ожидать от них поддержки формационной теории не следует. Не соответствует она их мировоззрению. Отрицание формационного подхода объясняется, отнюдь, не каким – то пренебрежением к теории исторического циклизма зародившегося еще во времена античности и получившей в дальнейшем развитие в трудах итальянского мыслителя Д. Вико и французского социалиста А. Сен-Симона. И с существованием первобытно-общинного строя и даже рабовладельческого, по которому шли известные дискуссии, и, конечно, феодального и капиталистического многие буржуазные исследователи согласны. Их не устраивает пятая формация, формация коммунистическая. То есть, другими словами, они считают капитализм вечным, боясь смотреть правде в глаза, ибо ничего вечного не бывает.
Об этом свидетельствуют и современные настроения, отмеченные заметным полевением взглядов не только в Латинской Америке, но даже в Европе. Настоящий фурор произвел известный опрос общественного мнения, который организовал недавно в Германии Институт исследований общественного мнения. Согласно этому замеру 88% опрошенных выступили против капитализма и за замену его более совершенным строем. Еще до этого, известный российский философ В.С. Семенов обратил внимание на то, что нынешний римский папа Бенедикт ХVI во второй своей энциклике «Спасенные в надежде » от 9 декабря 2007 г. отметил, что К. Маркс был «талантливым мыслителем». К. Маркс, по словам Бенедикта ХVI, «описал ситуацию своего времени и с большими аналитическими способностями указал путь к революции». При этом Карл Маркс «очаровал и все еще очаровывает многих».[3] Эти слова были произнесены римским папой в самом начале нового экономического кризиса, когда еще многие его не осозновали. Вместе с тем, трудно представить себе выступление в подобном роде кого-либо из современных российских политических лидеров.
Реальное политическое положение оказывает воздействие на работы обществоведов. В России это привело к торжеству антидетерминизма, субъективизма, волюнтаризма в исторической науке, с которым, однако, не все смирились. Еще до августовских событий 1991 г. количество работ по проблемам цивилизаций и цивилизационому подходу заметно увеличилось. Появились тогда и специальные исследования по выявлению соотношения формационного и цивилизационного подходов. Справедливости ради нужно подчеркнуть и то, что этой тематики не были чужды советские обществоведы и до так называемой перестройки, то есть до 1985 г. Например, востоковед Л.И. Рейснер еще в 1984 г. опубликовал подобного рода статью.[4] Эти моменты находят определенное отражение в монографии Б.Г. Могильницкого, в целом посвященной природе исторического познания.[5] А латиноамериканист Я.Г. Шемякин издает в 1991 г. историографический обзор о проблемах цивилизации в советской научной литературе 60 – 80 – годов.[6] Там он, среди прочего, писал: «Заметим, что, строго говоря, проблема соотношения формационного и цивилизационного аспектов исторического развития, приобретшая особую остроту в наши дни, возникла отнюдь не сегодня. Она встала очень остро в советской науке в конце 50 – начале 60 – гг. …».[7]
В доперестроечное время проблемы соотношения формационного и цивилизационного порождались задачами развития самой исторической науки, ее исследовательскими потребностями. В конце 80-х – самом начале 90-х гг. ситуация была уже совсем другой. Шел слом общественного строя и его сокрушителям нужна была соответствующая идеология. Поэтому в это новое время можно наблюдать появление как работ чисто научного характера, так и публикаций политизированных, но уже в другой окраске нежели в советское время. Журнал «Вопросы философии» в 1989 г. провел круглый стол по теме «формации или цивилизации?»[8] По проблеме цивилизации выходит в том же году и специальная книга [9], а Б.Г. Могильницкий издает свою новую монографию по методологии истории. Уже тогда вышел ряд статей по этой тематике, из которых мы упомянем лишь некоторые, принадлежащие перу Л.Б. Алаева, Б.С. Ерасова, А.Я. Гуревича, Э.А. Позднякова, М.А. Барга, В. Студенцова.[11] Широко стали публиковаться в переводе на русский язык сочинения английского историка А. Тойнби, которые стали подавать чуть ли не как эталон для исторических исследований.
Однако следует подчеркнуть, что сам Тойнби убежденный цивилизационщик неоднократно менял свои подходы к цивилизациям, и количество их у него колебалось от 100 до 13. Один из оппонентов Тойнби, английский историк Р.Дж. Коллингвуд, отнюдь не марксист, признавая «невероятную эрудицию» Тойнби, его тонкую историческую интуицию, критикует своего земляка, по его словам, с двух сторон. Во-первых, по мнению Коллингвуда, у Тойнби «сама история», исторический процесс, разделена резкими границами на отдельные взаимоисключающие части, при этом отрицается непрерывность процесса, та непрерывность, в результате которой каждая часть истории прекращается и входит в другую». Второе главное замечание заключается в том, что «процесс как целое и историк тоже противопоставлены друг другу». В результате, по Коллингвуду, «прошлое, вместо того, чтобы жить в настоящем, как это имеет место в истории, мыслится как мертвое прошлое, каким оно является в природ ».[12]
Тем не менее цивилизационный подход стали рассматривать как единственно правильный и открыли для него широкую улицу для популяризации. Но получилось так, что в начале 90-гг. многие обществоведы отошли от формационного подхода, а к какой-либо другой методологии не пришли. Уже в 1992–1993 гг. историки обратили внимание на создавшееся положение и призвали к проведению соответствующих дискуссий и наведению определенного порядка не столько в исследовательской, сколько в методической литературе.
Одним из инициаторов специальной дискуссии по проблемам методологи выступил журнал «Новая и новейшая история», вначале предоставивший возможность отдельным историкам изложить свои взгляды на проблемы цивилизации и опубликовавший статьи В.М. Хачатурян, Е.Б. Черняка и др.[13] Далее, уже в рамках дискуссии, прежде всего было предложено высказаться И.Н. Ионову, известному стороннику цивилизационного подхода, пришедшему к нему, отнюдь, не по коньюнктурным соображениям и в дальнейшем известного как автора школьного учебника под названием «Российская цивилизация».[14] Ионов выступил с обстоятельной статьей по теории цивилизаций, где, фактически, был вынужден сделать чистосердечное признание: «Вы слишком много от нас требуете».[15] Этими словами он ответил на упреки сторонников формационного подхода, обвинявших цивилизационщиков в отсутствии стройности и четкости в их построениях.
Вскоре к дискуссии подключился академик И.Д. Ковальченко, который в том же журнале поместил основательную статью по проблемам теоретико-методологических проблем исторических исследований. Ковальченко, который уже в этом журнале выступал по проблемам методологии [16], признал научность и формационного подхода, и цивилизационного и призвал к применению их в исторических изысканиях, естественно подразумевая то, что оба этих подхода получат интерпретацию и в учебно – методической литературе.[17] В том же журнале была также помещена и статья академика – юриста В.Н Кудрявцева [18], посвященная вообще методологии социальных и гуманитарных наук в целом, а затем и статья Б.С. Ерасова по проблемам теории цивилизаций [19], а также ряд других статей.[20]
Свою работу в этом же направлении вел и другой исторический журнал – «Вопросы истории». В 1995 г. там сначала выходит статья Р.Г. Ланда о цивилизации, формации, социуме на примерах стран Востока,[21] а затем и статья Е.Б. Черняка, специалиста по западным странам. Статья Черняка была посвящена проблеме истории и логики, структуре исторических категорий.[22] Еще до этого журнал провел две дискуссии по проблемам теории истории. Первая из них состоялась 29 октября 1991 г., а вторая 12 января 1994 г. То что между этими двумя дискуссиями был промежуток немногим более двух лет объясняется чрезвычайной остротой проблемы и глубокими потребностями исторической науки, тесно связанными с событиями начала 90 — х гг.
В первой из этих дискуссий приняло участие одиннадцать профессиональных историков. И если дать наиболее концентрированную оценку этой дискуссии, то наиболее характерными, на наш взгляд, следует признать следующие слова В.А. Дьякова, выступившего против противопоставления формационного подхода цивилизационному. По его мнению «они не исключают, а дополняют друг друга. Цивилизационный подход дает возможность лучше понять взаимодействие материальных, духовных и иных компонентов истории. Но и в формационном подходе первоначально была заложена идея соединения различных элементов исторического процесса, а не только соотношения производительных сил и производственных отношений».[23]
В дискуссии 1994 г. приняли участие 14 историков и философов. Выявился заметный разброс мнений. Но даже те, кого можно отнести к антиформационщикам, отнюдь, не призывали к полному отбрасыванию марксизма. При этом академик И.Д. Ковальченко, участвовавший и в этой дискуссии, прямо призвал: «И социально–классовый, и формационный подходы должны найти свое место в методологии истории».[24] Известный философ Ю.К. Плетников подчеркнул: «В историческом познании формационный подход логично соединяется с цивилизационным»[25], а другой философ – В.Н. Шевченко заметил «Представляется, что марксова формационная концепция может стать частью более широкого видения исторического процесса».[26] Античник В.И. Кузищин заключил свое выступление следующими словами: «Материалистическое понимание истории, даже потеряв свои официальные доминирующие позиции, занимает и будет занимать одно из мест в многоцветьи исторических учений, и целый ряд ее элементов, особенно в анализе социально-экономических отношений, будет в той или иной форме инкорпорирован в общее здание современной историографии и методологии истории».[27] А востоковед Р.Г. Ланда, разумея марксизм, подчеркнул: «Нельзя отрицать прежнюю методологию полностью».[28]
Параллельно эти же проблемы нашли отражение и на страницах журнала «Вопросы философии», где особо следует отметить статью В.М. Межуева по взаимоотношению философии истории и исторической науки [29], а также, например, в журнале «Восток», где вышла статья А.Б. Алаева о материалистическом понимании истории.[30]
Возвращаясь к дискуссии на страницах журнала «Новая и новейшая история», следует отметить, что ее итоги были подведены несколько позднее, в 1996 г., когда еще раз была предоставлена возможность высказаться ряду историков.[31] К ним относились Н.И. Смоленский, Ю.И. Семенов, В.И. Кузищин, Л.Б. Алаев.[32] Выступивший первым главный редактор журнала, академик Г.Н. Севостьянов, остановившийся как на дискуссии в журнале «Вопросы истории», так и в своем журнале, отметил: «Большинство исследователей считает, что методология К. Маркса нуждается в усовершенствовании и обновлении, избавлении от устаревших догм, доктрин и идеологизации».[33] Таким образом, ни о каком отбрасывании теории марксизма как таковой речь не шла. Более того, если уж быть точными, не методология К. Маркса нуждалась в избавлении от догм, доктрин и идеологизации, а построения разного рода его интерпретаторов.
Историки участвовавшие в дискуссии призвали к применению различных подходов к историческому процессу, а также к сохранению материалистического понимания истории. Н.И. Смоленский подчеркнул, что подавляющее большинство участников дискуссии в ряде журналов отталкивается от материалистической теории, но, вместе с тем, отметил формирование средствами массовой информации и публицистами негативного восприятия марксизма.[34] При этом, он подчеркнул, что «общеисторическая теория (философия истории) возможна и необходима».[35] Ю.И. Семенов также отметил гонения на марксизм после августа 1991 г. Он открыто взял под защиту марксистскую теорию, подчеркнув: «В действительности материалистическое понимание истории представляет собой не выдумку двух невежд, как это пытаются представить наши «демократические» публицисты и вслед за ними и некоторые историки и философы, а итог длительного развития мировой философско-исторической мысли». Более того, по его словам, «цивилизационный подход» (кавычки Ю.И. Семенова) не идет ни в какое сравнение с марксистским подходом и «неудивительно, что все разговоры об этом подходе представляют собой переливание из пустого в порожнее».[36]
Показав некоторые изъяны советской исторической науки, В.И. Кузищин, следующий участник дискуссии, отметил: «Материалистическое понимание истории, на мой взгляд, органически присуще любому историку, работающему с подлинными историческими фактами, с исторической реальностью».[37] И несколько далее, этот известный историк-античник подчеркнул: «Поэтому исследования, опирающиеся на обновленное материалистическое понимание истории, столь же правомерны и могут быть столь же плодотворными, как и те, которые будут исходить из концептуальных установок модернизированного Макса Вебера, положений культурной антропологии или историософии Фернана Броделя».[38] Еще один участник дискуссии Л.Б. Алаев, при всей критике марксистского наследия, все – таки заметил: «Но теории цивилизационного подхода до сих пор нет. Очевидно, что лишь полное и органическое слияние формационного (стадиального) и цивилизационного (регионального) подходов может дать полезную для историков теорию исторического процесса».[39]
Таким образом, большинство историков-профессионалов, участвовавших в этих специальных дискуссиях, не выступало против марксистского анализа и после известных событий 1991 г. Совсем по другому вели себя соответствующие высшие инстанции, а также руководители ряда исторических центров. Когда через год после дискуссии в журнале «Новая и новейшая история» вышел в свет сборник «Материалы научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко», где покойный академик назывался убежденным марксистом и где ряд статей носили явно марксистский характер, это встретило резкую отповедь главного редактора журнала «Вопросы истории» А.А. Искендерова. Особое негодование последнего вызвала фраза одного из авторов сборника (Л.В. Милова), писавшего: «Как вы ни крутите, но сегодня, на настоящий момент, социальной онтологией, не имеющей конкурентов, остается все-таки марксистская теория».[40] Любопытно, что несколькими годами до этого в том же журнале «Вопросы истории» было опубликовано письмо в редакцию днепропетровского историка С.И. Жука по поводу одной из статей А.Я. Гуревича.[41] В ней автор письма, останавливаясь на изданиях западных историков, трактовавших кризис современной исторической науки как прежде всего обострение противоречий между так называемой новой и старой историей, писал: «Невозможно понять формирование и эволюцию «новой исторической науки», отрицая значение марксизма в этом процессе (как это делает Гуревич)»[42].
Свою четкую политику проводило Министерство образования. Как подчеркивается в литературе, «в конце 1990-х годов цивилизационный подход активно лоббировался Министерством образования и настоятельно рекомендовался для использования во всех общеобразовательных учреждениях страны».[43] Но еще до этого количество работ по цивилизационному подходу увеличивалось поистине в геометрической прогрессии. Еще в 1992 — 1993 г. под редакцией М.А. Барга выходят первые два тома статей под названием «Цивилизации», впоследствии продолженные [44]. Известны также и другие книги по проблемам цивилизаций и цивилизационному подходу. Кроме учебника И.Н. Ионова можно отметить и другие его книги по проблемам цивилизаций [45], а также совместно с В.М. Хачатурян монографию по теории цивилизаций от античности до конца ХIХ в.[46] Отдельно от Ионова Хачатурян подготовила и издала учебное пособие для учащихся старших классов по истории мировых цивилизаций с древнейших времен до начала ХХ века.[47] Известна также монография Е.Б. Черняка о цивилиографии как науке о цивилизации [48], а также ряд других книг о проблемах цивилизации. К ним относится, например, учебное пособие для студентов Б.С. Ерасова [49], лекции по истории цивилизаций [50], учебные пособия по истории мировых цивилизаций [51] или по цивилизационному подходу [52] и пр.[53] Порой проблема цивилизаций трактовалась параллельно с изучением формаций [54]. По этой последней проблеме вышел также и ряд специальных статей [55]. Число статей по цивилизациям или цивилизационному подходу вышедших за последние двадцать лет столь значительно, что все их даже трудно перечислить. Отметим лишь те, с которыми нам удалось ознакомиться.[56]
Политика сверху особенно сказалась на подготовке кандидатских и докторских диссертаций. В соответствующем разделе посвященном методологии работы, будь-то по историческим проблемам или по другим направлениям обществоведения упоминания о диалектико-материалистическом подходе стали буквально единичными. Притом, что количество защищаемых диссертаций исчисляется тысячами. Диссертанты стали явно подстраховываться, опасаясь осложнений в Ученых советах или даже в ВАКе.
Но общая политика после 1991 г. не привела к полному исчезновению работ по методологии в целом и к полной ликвидации всяких упоминаний о формационном подходе. Об этом подходе говорится в некоторых программах для студентов вузов,[57] а также и в специальных пособиях и исследованиях. У В.В. Высоковой, издавшей свою программу по новой истории в Екатеринбурге в 2003 г. можно прочитать: «Формационный и цивилизационный подходы в толковании Новой истории стран Запада. Марксистская концепция Новой истории стран Запада».[58] Имеются также специальные учебные программы по теории и методологии истории. Одну из них в 2008 г. издал В.В. Тихонов. В этой программе предусматривается ознакомление студентов с теорией марксизма, наряду с другими теориями общественного развития.[59]
Вышли также отдельные пособия учебно-методического характера специально посвященные проблемам методологии. К ним относится книги В.Н. Сидорцова, О.М. Медушевской и М.Ф. Румянцевой [60], Н.И. Смоленского [61] отдельное пособие М.Ф. Румянцевой по теории истории [62] и др., а также ряд изданий на русском языке подготовленных белорусскими исследователями.[63] В 1995 – 1996 гг. издает в трех частях в Волгограде свое пособие по социальной философии и социологии Л.Е. Гринин.[64] Уже в первой части автор пособия прямо писал: «Сам я считал и считаю огромным вкладом Маркса и Энгельса в философию истории анализ экономического фактора, исторический подход к явлениям, попытку научной периодизации истории и мн. другое. Учитывая, что за Марксом стоят Гегель, А. Смит, Риккардо, Сен-Симон и другие выдающиеся умы, вряд ли стоит отказываться от марксизма «не глядя», лишь по политическим мотивам. В нашей стране не одно поколение ученых выросло на нем, усвоило его дух и метод, терминологию и проблематику. Почему же нам не иметь эту философскую школу? Разумеется творческую, а не догматическую».[65]
Напоминаю, что эти слова исследователя из далекого от Москвы Волгограда были сказаны в 1995 г. А в следующем, 1996 г. в третьей части своего пособия он четыре главы посвятил четырем общественно-экономическим формациям. Им он предварил довольно обширное введение по общественно-экономическим формациям, называя их «привычным и достаточно удачным термином».[66]
Кроме ряда учебных пособий после 1991 г. вышли и специальные монографии как специально по проблемам общественных формаций, так и по методологии истории. Автор одной из подобных монографий В.Л. Иноземцев прежде всего обращается к марксовой теории общественных формаций, показывая ее методологические основы. Он также говорит о социальных и политических революциях и описывает азиатский, античный, феодальный и капиталистический способ производства. Но признавая марксистское учение об общественных формациях Иноземцев при этом подчеркивает: «Капиталистический способ производства не может быть сменен новым способом производства революционным образом; никакие политические потрясения не смогут устранить фундаментальные основы той экономической системы, на которой он базируется».[67] При это автор, отнюдь, не объявляет капиталистический способ производства вечным. Он только считает, что «человечество не обладает сколь-либо разработанными принципами построения новой общности». Их разработку, как можно понять автора, он видит по всей вероятности в далеком будущем.[68]
В 1999 г. издает свою фундаментальную книгу по философии истории видный методолог и этнолог Ю.И. Семенов. Рассматривая исторический процесс как таковой, обращаясь к многочисленным его истолкователям как прошлого и настоящего, он два раздела своей монографии посвящает марксизму. Первый из них носит название «Марксистская теория исторического развития». Второй – «Материалистическое понимание истории и проблема основы общества и движущих сил истории». Ю.И. Семенов цитирует слова известного американского историка Бернарда Бейлина, писавшего в 1982 г.: «Взгляд с позиций марксизма остается мощной силой в осознании прошлого, каков бы ни был подход в истории…».[69]
Ю.И. Семенов остановился на марксовой схеме развития и смены общественно – экономических формаций и особо подчеркнул, что «капитализм К. Маркс рассматривал как последнюю антагонистическую общественно-экономическую формацию, за которой должна последовать коммунистическая». [70] И далее автор подробно останавливается на понятии общественно – экономическая формация, отмечая при этом: «Каждая конкретная общественно – экономическая формация представляет собой определенный тип общества, выделенный по признаку социально — экономической структуры».[71] Специально пишет Ю.И. Семенов и об открытии Марксом социальной материи и о соотношении между бытием и сознанием, подчеркивая при этом, что «единственным материалистическим видением истории является марксистское ее понимание».[72]
В том же году, когда вышло первое издание книги Ю.И. Семенова было опубликовано учебное пособие «Философия истории» под редакцией известного философа А.С. Панарина. Наше внимание прежде всего привлек третий раздел этого пособия под названием «Проблемы исторического познания», особенно вторая глава этого раздела, которая называется следующим образом: «Формационный и цивилизационный подход к истории pro et contra». В ней поначалу отдельно характеризуется теория формаций и теория цивилизаций, показываются сильные и слабые стороны этих двух теорий. При этом авторы подчеркнули, что в отличие от формационного подхода «единой цивилизационной теории как такой не существует» и несколько далее они подводят итог: «Таким образом, методологию формационного подхода рано списывать со счетов». И несколько далее они пишут: «Задача, следовательно, состоит в том, чтобы модернизировать формационное течение, очистить его от идеологически напластований, усилить его цивилизационное звучание».[73] Интересно, что в этом пособии даже есть специальный параграф под названием «О возможных путях модернизации формационного подхода». Следовательно авторы пособия – преподаватели МГУ не только не отбрасывают формационную теорию, но считают необходимым ее совершенствование. При этом они не отбрасывают и теорию цивилизаций, видя и в ней определеннее рациональное зерно.
В 2001 г. издает свою книгу по методологии истории В.Ф. Коломийцев. Там он рассматривает вопросы генезиса методологических проблем истории, размышляет о методе исследования, но особое внимание уделяет дискуссии по теории исторической науки. Останавливаясь на различных теориях истории, автор счел необходимым подчеркнуть следующее: «К. Маркс и Ф. Энгельс впервые представили общество как продукт исторического развития, как динамично развивающуюся структуру, а теорией классовой борьбы вывели историю из хаоса случайностей».[74] Далее автор подчеркивает, что многие западные ученые признают ценность взглядов К. Маркса на исторический процесс и, среди прочего, пишет: «в ответ на огульное обвинение марксизма К. Поппером в том, что – это «система догм» английский философ М. Корнфорт указывает, что, напротив, — это «рациональная научная дисциплина».[75]
Различные вопросы методологии истории нашли отражение и в ряду других работ вышедших после 1991 г. Активно ими занимается философ И.А. Гобозов. В 2003 г. он издал учебник по социальной философии, а в 1999 второе издания своего труда о введении в философию истории. Известная также его статья о соотношении цивилизационного и формационного подходов к истории.[76] Значительное внимание методологии истории и, в частности, формационному подходу уделяется на Марксистском семинаре при Институте философии РАН, результатом чего стала публикация нескольких специальных сборников статей. В сборнике посвященном 185-летию со дня рождения Карла Маркса и вышедшем в 2003 г. имеются ряд статей о марксовом понимании человеческого общества,[77] а в сборнике приуроченном к 190-летию основателя научного коммунизма выделен специальный раздел под названием «Формации». В этом разделе помещены четыре статьи специально посвященных проблемам формаций и роли К.Маркса в обосновании этой теории.[78]
Теория о социально-экономических формациях трактуется и в других трудах вышедших после 1991 г. Так, она находит отражение в книге Н.И. Осадчего «Общество», вышедшей в 2003 г.[79] Среди прочего, автор отмечает «презрительное и недалекое отношение части интеллектуалов и чиновников к наследию Маркса».[80] Продолжает активно работать в этой области сибирский методолог И.Д. Могильницкий. В 90-ее гг. он выпустил ряд статей по проблемам методологии,[81] а совсем недавно, в 2008 г. он опубликовал в Томске обширный курс лекций по истории исторической мысли ХХ века.[82] Там же в Томске и тоже недавно вышла интересная, хоть и небольшая, статья Е.С. Кирсановой о современных методологических поисках в исторической науке, где говорится об утрате историками интереса к мировоззренческим проблемам.[83] Еще до этого была опубликована специальная статья об общественно – экономических формациях А.В.Харламенко и Е.Н. Харламенко.[84] Ряд статей по методологии советского общества публикует брянский историк Ю.В. Журов.[85] Можно отметить статьи и других историков, например статью А.Н. Сахарова о новых подходах в российской исторической науке, где упоминаются и проблемы марксизма[86] или статью М.В. Новикова и В.В. Швецова о кризисе методологии исторической науки.[87] Порой защищаются диссертации о наследии Карла Маркса, крайне редкие после 1991 г., но весьма примечательные,[88] а также по проблемам исторического циклизма.[89] Нельзя, естественно, обойти вниманием и специальные научные конференции по теории исторической науки и ее методам. Материалы одной из таких конференций были опубликованы в 2008 г.[90] и отдельные труды по марксизму, где упоминается и теория формаций.[91]
Рамки нашей статьи не позволяют остановиться и на ряде других работ по проблемам методологии истории, которые вышли в последние двадцать лет. Но и сказанного достаточно, чтобы опровергнуть мнение о почти полном забвении проблем методологии или крайне незначительном числе изданий по этой теме. Ситуация более сложная и разнообразная. Да, труды по методологии истории выходят и, отнюдь, не в малом количестве. Почти во всех из них речь идет о марксистской методологии. Большинство этих авторов высоко оценивают вклад К. Маркса в методологию истории и, вообще, в обществоведение. Проблема, однако, не в этом, проблема в том, что как метко заметил Н.И. Осадчий презрительное и недалекое отношение части интеллектуалов и чиновников, а если быть точнее, то это не часть а подавляющее большинство чиновников наложили свой отпечаток на общую политику и в том числе политику в области образования. Это привело к тому, что сейчас редко можно встретить студента, который может сказать что такое общественно-экономическая формация, сколько их было и кто является создателем формационной теории исторического процесса. Справедливости ради нужно подчеркнуть и то, что и с цивилизационным подходом студенты знакомы очень плохо. Вообще в головах студентов и школьников господствует методологический хаос, что, видимо, было главной задачей тех, кто проводил политику в данной области.
1 Великий Октябрь и социализм ХХI века. СПб., 2008, с. 231 – 242.
2 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. М., 1992, с. 98.
3 Семенов В.С. Малоизвестные творческие разработки Карла Маркса о революции, социализме и человеке // Учение Маркса. ХХI век. Капитал. Формации. Противоречия. М., 2010, с. 351 – 352.
4 Рейснер Л.И. «Цивилизации » и « формация» в обществах Востока и Запада // Азия и Африка сегодня . 1984. № 6, с. 22 25.
5 Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. Томск, 1978.
6 Шемякин Я.Г. Проблема цивилизации в советской научной литературе 60 – 80 – годов // История СССР.1991, № 5, с. 86 – 103.
7 Там же, с. 88.
8 Формации или цивилизации? (Материалы « круглого стола») // Вопросы философии. 1989. № 10, с. 34 – 59.
9 Цивилизация: теория, история и современность. Отв. ред. Л.И. Новикова. М., 1989.
10 Могильницкий Б.Г Введение в методологию истории. М., 1989.
11 Алаев Л.Б., Ерасов Б.С. Формация или цивилизация? // Народы Азии и Африки. 1990. № 3, с. 46 – 58; Гуревич А.Я. Теория формаций и реальность истории // Вопросы философии. 1990, № 3, с. 31 – 43; Поздняков Э.А. Формационный и цивилизационный подходы // Мировая экономика и международные отношения. 1990. № 5, с. 49 – 60; Барг М.А. О категории « цивилизация » // Новая и новейшая история. 1990 № 5, с. 25 – 40; Его же. категория « цивилизация » как метод сравнительно – исторического исследования (человеческое измерение ) // История СССР. 1991, № 5, с. 70 – 86; Студенцов В. Общецивилизационный и формационные подходы: скептический взгляд // Мировая экономика и международные отношения. 1991. № 6, с. 52 – 57.
12 Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980, с. 152 – 158.
13 Хачатурян В.М. Проблемы цивилизации в « Исследовании истории » А. Тойнби в оценке западной историографии // Новая и новейшая история. 1991, № 1; Черняк Е.Б. Цивилизации и революции // Там же. 1993, № 4.
14 Ионов И.Н. Российская цивилизация IХ – начало ХХ века. Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. 4 – е издание. М.. 2001.
15 Ионов И.Н. Теория цивилизаций: этапы становления и развития // Новая и новейшая история. 1994, № 4 – 5, с. 33 – 50.
16 Ковальченко И.Д. Некоторые вопросы методологии истории // Новая и новейшая история. 1991, № 5.
17 Ковальченко И.Д. Теоретико – методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления о новых подходах // Новая история. 1995, № 1, с. 3 – 33; См. также: Ковальченко И.Д. Многомерность исторического развития. Типология, периодизация, цивилизационный подход // Свободная мысль. 1995. № 10.
18 Кудрявцев В.Н. Об особенностях методологии социальных и гуманитарных наук // Новая и новейшая история. 1995. № 3, с. 3 – 7.
19 Ерасов Б.С. Проблемы теории цивилизаций // Новая и новейшая история. 1995. № 6, с. 181 – 187.
20 Смоленский Н.И. О разработке теоретических проблем исторической науки // Новая и новейшая история. 1993. № 3; Могильницкий Б.Г. Некоторые итоги и перспективы методологических исследований в отечественной историографии // Там же; Хвостова К.В. К вопросу об историческом познании // Там же.
21 Ланда Р.Г. Восток: цивилизация, формация, социум // Вопросы истории. 1995, № 4, с. 47 – 56.
22 Черняк Е.Б. История и логика (структура исторических категорий) // Вопросы истории. 1995. № 10, с. 29 – 43.
23 Актуальные теоретические проблемы современной исторической науки // Вопросы истории. 1992, № 8 – 9, с.163.
24 Актуальные проблемы теории истории . Материалы « круглого стола» (12 января 1994 г.) // Вопросы истории..1994, № 4, с.61.
25 Там же, 69.
26 Там же, с. 72.
27 Там же, с. 84.
28 Там же, с. 87.
29 Межуев В.М. Философия истории и историческая наука // Вопросы философии. 1994, № 1.
30 Алаев А.Б. Материалистическое понимание истории в обороне // Восток. 1995, № 2, с. 41 – 49.
31 Методологические поиски в современной исторической науке // Новая и новейшая история. 1996, № 3, с. 75 — 90.
32 Смоленский Н.И. Теоретический плюрализм и проблемы исторической науки. Методологические поиски в современной исторической науке // Новая и новейшая история. 1996, № 3, с. 76 – 79; Семенов Ю.И. Материалистическое понимание истории: недавнее прошлое, настоящее, будущее // Там же, с. 80 – 81; Кузищин В.И. О некоторых принципиальных положениях методологии истории // Там же, с. 84 – 87; Алаев Л.Б. Где тонко – там и прорвалось! // Там же, с. 88 – 90.
33 Методологические поиски, с .75.
34 Смоленский Н.И. Теоретический плюрализм, с. 76 – 77.
35 иТам же, с. 78.
36 Семенов Ю.И. Материалистическое понимание, с 80 – 81.
37 Кузищин В.И. О некоторых принципиальных положениях, с. 84.
38 Там же, с. 87.
39 Алаев Л.Б. Где тонко.., с. 89.
40 Искендеров А. Что скрывается за «новыми» парадигмами истории? // Вопросы истории.1998, № 4, с. 175.
41 Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991, № 2 – 3.
42 Жук С.И. Одномерна ли история? // Вопросы истории. 1992, № 8 – 9, с. 186 – 187.
43 Шнирельман В. Российская школа и национальная идея // Неприкосновенный запас. М. 2006, № 6 (50), с.
44 Цивилизации. Под. ред. М.А. Барга. М., 1992 — 1993. Вып. 1 – 2; Цивилизации. Вып. 3. Под ред. А.О. Чубарьяна. М., 1995; Вып. 4. М., 1997.
45 Ионов И.Н. Российская цивилизация и истоки ее кризиса. М., 1994; Его же. Методологические проблемы изучения российской цивилизации и русская философская традиция. М., 2002; Его же. Цивилизационное сознание и историческое знание: Проблемы взаимодействия. М., 2007.
46 Ионов И.Н., Хачатурян В.М. Теория цивилизаций от античности до конца ХIХ. СПб., 2002.
47 Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до начала ХХ века. Учебное пособие для 10 – 11 кл. М., 1996.
48 Черняк Е.Б. Цивиография. Наука о цивилизации. Наука о цивилизации. М., 1996.
49 Ерасов Б.С. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2001.
50 История цивилизаций (Конспект лекций). М., 2000.
51 Фортунатов В.М. История мировых цивилизаций. Материалы к учебному пособию. СПб., 1997; Яковец Ю.В. История цивилизаций. Учеб. издание. М., 1995.
52 Цивилизационный подход к истории: подходы и перспективы развития. Воронеж, 1994; Моисеева А.П., Колодий Н.П. и др. Цивилизационный подход к развитию общества. Философия: Курс лекций. Учебное пособие для студентов вузов. М., 1997; Шнирельман В.А. Цивилизационный подход как национальная идея. Национализм в мировой истории. М., 2007; Сенявский А.С. Цивилизационный подход в изучении российской истории ХХ века: некоторые теоретико – методологические аспекты // Россия и мировая цивилизация. Под ред. А.Н. Боханова и др. М., 2000.
53 Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 1995; Современные теории цивилизаций (Реферативный сборник). Отв. ред. М.М. Наринский. М., 1995; Сравнииельное изучение цивилизаций мира (Междисциплинарный подход). Отв. ред. К.В. Хвостова. М., 2000; Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2001; Клягин Н.В. Происхождение цивилизаций (социально – философский аспект). М., 1996; Прокофьева Г.П. Становление категории « цивилизация » как универсальной единицы анализа исторического процесса. Авт. Дис. канд. филоф. наук. Хабаровск, 2001.
54 Формация или цивилизация? Сборник статей и материалов. Под ред. В.И. Овсянникова. М., 1993.
55 Рейснер Л.И. Историческое общество как единство формационного и цивилизационного начал // Цивилизации. Вып. 1. М., 1992 ; Бромлей Н.Я. К вопросу о соотношении понятий « цивилизация » и «формация» (Полемические заметки) // Там же; Келле В.Ж. Соотношение формационного и цивилизационного подходов к анализу исторического процесса // Цивилизации. Вып. 2. М., 1993;Ковалев А.М. Еще раз о формационном и цивилизационном подходах // Общественные науки и современность. М., 1996, № 1; Плетников Ю.К. Исторический процесс: соотношение формационного и циаилизационного подходов // Обновление России: трудный поиск решения. Вып. 7. М., 1999
56 Ионов И. Проблема сравнительного изучения цивилизаций в национально историческом контексте // Цивилизации. Вып. 2. М., 1993; Его же. Теория цивилизаций и эволюция научного знания // Общественные науки и современность. 1997. № 6; Его же. Теория цивилизаций на рубеже ХХI века // Общественные науки и современность. 1999, № 2; Его же. Цивилизационные образы России и пути их оптимизации // Общественные науки и современность. 2009. № 3;Новикова Л.И. Цивилизация как идея и как объяснительный принцип исторического процесса // Цивилизации. Вып. 1. М., 1992; Фролов Э.Б. Проблема цивилизаций в историческом процессе // Вестник Санкт – Петербургского университета. Серия 2. История. СПб., 2008; Ерасов Б.С. Цивилизация смысл слова и определение термина // Цивилизации. Вып. 4. М., 1997; Слодзевский И.В. Эвристические возможности и пределы цивилизационного подхода // Там же; Каспэ С. Российская цивилизация и идеи А.Дж. Тойнби // Свободная мысль. 1997, № 2
57 Гросул В.Я. Всеобщая (новая и новейшая) история. М., 2001, с.1, 11; Высокова В.В. Новая история стран Европы и Америки. Часть 1, Екатеринбург, 2003.
58 Высокова В.В. Указ соч., с. 2.
59 Тихонов В.В. Теория и методология истории. Учебное пособие. М., 2008, с. 3.
60 Сидорцов В.Н. Методология истории: Количественные методы и информационные технологии: Учебно- методическое пособие. М., 2003; Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Методология истории. Учебное пособие. М., 1997.
61 Смоленский Н.И. Теория и методология истории. Учебное пособие для вузов. М., 2007.
62 Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие для вузов. М., 2002.
63 Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов. Минск, 1996; Методологические проблемы истории. Под общ. Ред. В.Н. Сидорцова. Минск, 2005
64 Гринин Л. Философия и социология истории: некоторые закономерности истории человечества (Опыт философско – социологического анализа всемирно – исторического процесса). Пособие для студентов по социальной философии и социологии. Часть I – III. Волгоград, 1995.
65 Там же. Часть I, с. 6.
66 Там же. Часть III, с. 12.
67 Иноземцев В. Очерки истории экономической общественной формации. М., 1996, с.337.
68 Там же, с. 343 – 344.
69 Семенов Ю.И. Философия истории. От истоков до наших дней: основные проблемы и концепции. М., 1999, с.77.
70 Там же, с. 78.
71 Там же, с.79.
72 Там же, с. 192; Через несколько лет Ю.И. Семенов переиздал эту свою работу несколько под другим названием. См.: Семенов Ю.И. Философия истории (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции. От древности до наших дней). М., 2003.
73 Философия истории. Учебное пособие. Под ред. проф. А.С. Панарина. М., 1999, с.198 – 203.
74 Коломийцев В.Ф. Методология истории (от источника к исследованию). М., 2001, с.117.
75 Там же, с. 135 – 136.
76 Гобозов И.А. Цивилизационный и формационный подходы дополняют друг друга // Диалог. 1997, № 3; Его же. Введение в философию истории. 2 — е изд., перед., доп. М., 1999; Его же. Социальная философия. Учебник. М., 2003.
77 Гросул В.Я. На путях к науке об обществе (От Анри де Сен – Симона к Карлу Марксу) // Марксизм. Прошлое, настоящее, будущее. М., 2003, с.240 – 245; Глядков В.А. Вечное и преходящее в марксизме // Там же, с. 277 – 284; Гриффен Л.А. Классический марксизм и проблемы общественного развития // Там же, с. 285 – 290; Антонов Е.А. Марксовское понимание человеческого общества // Там же, с. 326 – 330.
78 Дробан А.Т. Теория формаций – бессмертный вклад Карла Маркса в науку // Учение Маркса ХХI век. Капитал. Формации. Противоречия. М., 2010, с. 167 – 180; Гросул В.Я. Карл Маркс и формационный подход к историческому процессу // Там же, с. 181 – 192; Ацюковский В.А. Эволюция общественно – экономических формаций и особенности построения социализма // Там же, с. 193 – 206; Григорьев Н.К. Марксизм: проблемы смены формаций // Там же, с. 207 – 213.
79 Осадчий Н.И. Общество. Социально – философские очерки. М., 2005, с.185 – 187.
80 Там же, с. 185.
81 Могильницкий Б.Г. Историческое познание и историческая теория // Новая и новейшая история. 1991. № 6; Его же. Некоторые итоги методологических исследований в отечественной историографии // Там же. 1993. № 3; Его же. Историческая наука и проблемы гносеологии // Россия в ХХ веке. Историки мира спорят. М., 1994; Его же. В поисках новой парадигмы истории: последние работы И.Д. Ковальченко // Материалы научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М., 1997 и др.
82 Могильницкий Б.Г. История исторической мысли ХХ века: Курс лекций. Вып. III. Историографическая революция. Томск, 2008.
83 Кирсанова Е.С. Современные методологические поиски в исторической науке и исторический опыт национальных историографий // Вестник Томского государственного университета. История. Томск, 2009, № 2 ( 6 ), с. 60 – 62.
84 Харламенко А.В., Харламенко Е.Н. Общественно – экономические формации как ступени становления всемирной истории // Логика истории и перспективы развития науки. Труды международной логико – исторической школы. Вып. 1. М., 1993, с.106 – 119.
85 Журов Ю.В. Проблемы методологии истории, Брянск, 1996.
86 Сахаров А.Н. О новых подходах в российской исторической науке // История и историки. 2002. Историографический вестник. М., 2002.
87 Новиков М.В., Швецов В.В. Трансформация общества и кризис методологии исторической науки // Ярославский педагогический вестник . Ярославль, 2007. Т. 1, с. 74 – 78.
88 Там же, с. 135 – 136.
89 Сапронов М.В. Цикличность исторического процесса: История. Теория. Методология. Автореф. дис. канд. ист. наук. Челябинск, 2003.
90 Теории и методы исторической науки: шаг в ХХI век: Материалы международной научной конференции. Отв. ред. Л.П. Репина. М., 2008.
91 Дьяченко В.И. (Верин). Азбука марксизма. Утопия или наука? Теория и практика коммунизма. М., 2007, с.187 – 189.
А был ли Рюрик? – Огонек № 40 (5536) от 22.10.2018
Норманнская теория происхождения древнерусского государства — один из самых скандальных концептов в отечественной истории — отмечает юбилей. А научные баталии продолжаются
Широкую и скандальную славу теория о норманнских корнях основателей русского государства получила в XVIII веке и с тех пор продолжает волновать умы ученых. Истоки конфликта — в речи российского историка немецкого происхождения Герхарда Миллера, которую тот подготовил в 1749 году к торжественному заседанию Академии наук. Опираясь на «Повесть временных лет», где описано призвание Рюрика и его братьев на княжение в Новгороде, профессор Миллер доказывал: создателями нашей государственности были варяги-норманны (они же — русь). Против этого тезиса сразу выступил Михаил Ломоносов, а у самого Миллера начались неприятности (его разжаловали в адъюнкты и урезали жалованье). Лишь в 1768 году Миллер опубликовал свои скандальные выводы в немецком журнале Allgemeine historische Bibliothek — это случилось аккурат 250 лет назад. Ну а сама норманнская теория получила политическую окраску: по сути, она трансформировалась… в спор между западниками и славянофилами. Но самое удивительное: полемика дожила до наших дней и недавно обострилась вновь.
Тут надо пояснить один исторический нюанс: дополнительную остроту «норманнскому вопросу» придала Вторая мировая война.
— В своей печально знаменитой работе «Моя борьба» Адольф Гитлер дал прямые отсылки к норманнской проблеме, пытался таким образом обосновать тезис о неполноценности славян,— сказал «Огоньку» Герман Артамонов, профессор кафедры новейшей отечественной истории МПГУ.— Так вот я не знаю другую такую историческую теорию, которая имела бы столь печальные последствия. Разве после этого удивительно, что многие специалисты (и я в их числе) ставят вопрос о необходимости продолжения научных дискуссий…
Что не дает покоя ученым? Ответ прост: под прицелом исследователей — сам легендарный Рюрик и его… этническая принадлежность.
Так вот сегодня даже непримиримые оппоненты, похоже, пришли к единому, пусть и парадоксальному мнению: скорее всего, Рюрика… просто не существовало! Разберемся.
— Рюрик, как и его братья, Трувор и Синеус,— это, похоже, миф,— объясняет Герман Артамонов.— А говорить о реальных людях можно, начиная с Игоря Старого (согласно летописной традиции, сына Рюрика.— «О»), есть ряд источников, которые указывают именно на него как на родоначальника княжеской династии. Более того, согласно «Слову о полку Игореве», родоначальником русских княжеских родов можно считать Трояна, а в «Повести временных лет» в качестве такового упоминается Кий. Так что вопрос о Рюрике можно снять как недостоверный. Однако я бы предложил оставить вопрос: кем все-таки были те самые русы?
Вот еще один парадокс, связанный с норманнской теорией: в принципе, и ее сторонники, и непримиримые критики сходятся в том, что русы, ставшие элитой Древней Руси, были людьми «со стороны». Осталось только определиться: откуда они пришли — из Скандинавии или откуда-то еще?
О загадочной руси стоит рассказать отдельно — одни исследователи предполагают, что это были скандинавы. Но есть и более оригинальные версии: например, предполагающие, что речь про профессиональную принадлежность — мол, это такие гребцы-торговцы!
— Вопрос, кто такие русы, остается до сих пор,— говорит Герман Артамонов из МПГУ.— Для меня ясно, что они не славяне. И вот почему… У славян, в отличие от других индоевропейских народов, очень рано утвердилась территориальная форма общин, и она сохранялась вплоть до ХХ века! Более того, славяне ни под каким предлогом (в силу разных и непонятных нам обстоятельств) не принимали частной собственности, у них отсутствовало социальное расслоение. И это делает непроходимой грань между славянами и русами — у тех как раз существовала кровнородственная община, основанная на жесткой социальной иерархии. Однако их нельзя назвать и норманнами — на аргументах, почему это так, я сейчас останавливаться не буду. Вопрос: кто же они? Есть кельтская, аланская, балтийско-славянская и другие версии их происхождения, так что, думаю, русы еще ждут своего открывателя.
Впрочем, зачастую исследователи ставят вопрос еще проще: зачем вообще связывать этническое происхождение древнерусских князей с образованием государства в Восточной Европе?
— Этническое происхождение правителей не имеет никакого значения,— уверен профессор Школы исторических наук НИУ ВШЭ Игорь Данилевский.— Сами посудите: Андрей Боголюбский был наполовину половец (его мать — дочь половецкого хана Аепы), у Игоря Святославовича и мать, и бабка были половчанками, он и сына за половчанку выдал. У Юрия Долгорукого мать была англосаксонкой (дочерью последнего англосаксонского короля Гарольда), у Владимира Мономаха — гречанкой (он приходился внуком византийскому императору Константину IX Мономаху), у Всеволода Ярославовича — шведкой… Для того времени все это было вполне нормально. Что же касается самой норманнской теории, то ее просто не существует. Сегодня ясно, что скандинавы были в Древней Руси, но не они создали это государство (тем более что у них самих государства в современном понимании тогда еще не было). Они могли лишь стать некой третьей силой — «рефери» в местных межэтнических конфликтах.
Стоит заодно развенчать и еще один миф: как отмечает Данилевский, вообще сама легенда о призвании на царство чужаков (или, например, трех братьев) есть во многих странах — так что и здесь мы не уникальны. Например, в «Деяниях саксов» Видукинда Корвейского, написанных за век до «Повести временных лет», бритты обращаются к саксам за защитой — по тому же сценарию, что и, согласно летописной легенде, новгородцы — к Рюрику. Так о чем спор?
А спор о том… стоит ли вообще спорить о норманнской теории? Многие исследователи признают: в последнее время она вновь на слуху — например, в связи с выходом фильма «Викинг» (о князе Владимире Святославовиче) или на волне дискуссии о диссертации министра культуры Владимира Мединского. В чем причины этого нового витка интереса к норманнам? У экспертов есть объяснение.
— Вопросы, связанные с этническим самосознанием, действительно вспоминаются во времена очередного обострения отношений с Западом,— признает Герман Артамонов.— Но вот что меня не устраивает в позиции современных норманнистов: они считают, что здесь нечего обсуждать! А любое несогласие трактуется как проявление квасного патриотизма, мол, только русские могут комплексовать по поводу своего происхождения. Но разве это справедливо? В условиях методологического плюрализма в гуманитарной сфере ни один из таких вопросов окончательно закрыт быть не может. Да и вообще в истории любого народа нет ни одной крупной проблемы, которую можно было бы решить однозначно. Мы ведь спорим не только об этом — например, так и не закрыт вопрос о «красных» и «белых». Думаю, одна из причин подобных дискуссий — мы до сих пор не сделали цивилизационный выбор, а истоки его именно там — в нашем прошлом.
Впрочем, те самые норманнисты обычно возражают: мол, «норманнская теория жива лишь по политическим мотивам». Надо доказать, что Россия — не Европа, вот и достают с пыльной полки наследие Миллера, чтобы его раскритиковать, не надо — убирают обратно. Кто тут прав — поди разберись. Зато совершенно очевидно другое: за минувшие два с лишним века «больной вопрос русской истории», похоже, так и не вылечили.
Кирилл Журенков
Брифинг
Алексей Кузнецов, историк, учитель гимназии 1543
Спор по поводу призвания варягов сейчас разветвился на колоссальное количество рукавов. И к счастью, большинство из них вполне научные. В частности, вопрос об этническом наполнении слова «варяги». Хотя большинство современных исследователей согласны с тем, что это скандинавы. Но есть и другие точки зрения. И эти точки зрения тоже, безусловно, имеют право на существование, пока они окончательно не опровергнуты. Огромный спор ведется и по поводу происхождения термина «Русь», и по поводу этнического содержания этого термина. Абсолютно корректная постановка вопроса — это какую роль и какой след оставили варяги… Зачем призвали, огромный вопрос.
Источник: «Эхо Москвы»
Лев Клейн, председатель редакционного совета «Российского археологического ежегодника»
В случае с призванием варягов какова в легенде доля реальности, а какова вымысла, трудно сказать. С одной стороны, норманны тут, несомненно, были и играли значительную роль, об этом говорят и летописные источники, и археология, так что основания для легенды были. С другой — многие детали не находят подтверждения (все, что касается братьев). Термин «Русь» вроде бы принесен из Швеции. А личность Рюрика находит соответствие в Дании, оттуда и некоторые археологические явления. Можно подыскать этому предположительные объяснения. Но не нужно ожидать, что все вопросы будут окончательно решены. Ведь данных слишком мало.
Источник: Naked Science
Андрей Дворниченко, завкафедрой истории России с древнейших времен до XX века СПбГУ
— Каково ваше отношение к норманнской теории?
— Видите ли, поскольку я считаю, что государство на Руси образовалось лишь к XVI веку, то для меня этой проблемы вообще не существует… Что касается вопроса о «призвании варягов», то я не вижу тут причин для особых баталий. Ну, приплыл отряд норманнов в Новгород (по приглашению или без), ну захватил власть в племени, перебив прежнюю верхушку — князя и старейшин. Такие вещи в истории Европы случались множество раз. Что тут такого постыдного? Из-за чего тут копья ломать? Тем более, повторюсь, государства тогда на Руси не было и в помине — ни до «призвания варягов», ни после. Кроме того, эта норманнская верхушка захватчиков быстро растворилась в местной среде, дети и внуки этих норманнов уже ничем особым не отличались от славян. Так чего из-за этого так горячиться?
Источник: Online812
(PDF) Культурный поворот и цивилизационный подход
подход в менее историцистском ключе. В своем наиболее программном заявлении по теме
Эйзенштадт (2003, 1: 35) называет осевой момент разрывом между
, скрытым и явным присутствием цивилизационных паттернов в человеческих обществах. Другими словами,
будет историческим поворотным моментом — не обязательно идентифицируемым в строго хронологических терминах — где цивилизации проявляют себя как
объектов эмпирического и теоретического исследования.Если эта точка зрения будет принята, то будет казаться странным, что наиболее подробное упражнение Эйзенштадта по цивилизационному анализу (и, вероятно, самое систематическое цивилизационное исследование из когда-либо написанных), его книга по Японии,
, не касалось осевой цивилизации. , но с якобы уникальным корпусом
неосевой, нашла собственный путь в современность. Что еще более важно, есть
веских причин для признания множественных входов в цивилизационное измерение и для
предположить, что они раскрывают разные стороны рассматриваемых явлений.Это
вывод, который следует сделать из существующих работ в этой области, а также из дополнительных
свидетельств сравнительной истории. Если мы начнем с классики, то европейский фокус
очевиден, но два основных примера представляют его разные версии. Во французской традиции
интерес к цивилизациям вырос из интереса к нынешнему
и возможным будущим мостам между национальными и международными формами человеческого общества
(обсуждение Дюркгейма и Маусса Ричардом Сведбергом в этом выпуске
подчеркивает этот момент) , и хотя весь аргумент сформулирован в очень общих терминах
, кажется очевидным, что основным эмпирическим фоном является европейская конфигурация национальных государств
.Для Макса Вебера европейский (или, как он предпочитал называть его
, западный) контекст также имел решающее значение, но в ином смысле
. Его попытки проследить европейское происхождение инноваций, связанных с современным капитализмом, привели его к расширению системы координат: трансформационные силы и процессы, действующие в различных национальных условиях, должны были быть изучены
в европейском масштабе. и это потребовало сравнения с другими крупными цивилизационными комплексами.Работа Бенджамина Нельсона отражает еще одно видение Европы как
образцового цивилизационного образования. В данном случае акцент был сделан на средневековом западном христианском мире, а точнее на двенадцатом и тринадцатом столетиях
турок. Для Нельсона это было время изобретений и встреч, настолько важных
, что он описал его как осевой период (не обсуждая его связь
с первоначальным историческим значением этого термина), так и как начало пути
к современности.Другие цивилизационные аспекты европейского опыта вышли на передний план в традиции, представленной Шпенглером и Тойнби. В данном случае перспектива кризиса и упадка
(даже если образ упадка Шпенглера сильно отличался от представления Тойнби) приобрела цивилизационные масштабы и побудила сравнить
с более убедительными случаями в прошлом. Наконец, следует упомянуть
подхода Ярослава Крейца
Ри к цивилизационным исследованиям, на который повлияло — наиболее решительно
— столкновение с тем, что он считал неудачным цивилизационным проектом ХХ века
; этот вердикт был более прямо применим к европейскому коммунизму, чем к азиатскому коммунизму.
Беглого взгляда на очевидные вехи мировой истории достаточно, чтобы предложить
дальнейшие ключи к цивилизационному измерению. Формирование и длительный опыт
архаических цивилизаций, безусловно, заслуживают большей сравнительной и теоретической
работы, чем это было сделано до сих пор. И историки, и антропологи имеют
European Journal of Social Theory 13 (1)
6
Кризис и обновление американского капитализма: цивилизационный подход
Содержание
Предисловие Роберт Бойер. Введение: Кризис и обновление американского капитализма: цивилизационный подход Жак-Анри Кост, Лоуренс Коссу-Бомон и Жан-Батист Велю Часть 1: Повторное включение финансового кризиса в его культурную среду 1: «Дикий Запад» на Уолл-стрит: анализ и прогноз американской модели постмодернистского финансового капитала в мировой экономике Джеймс Макбрайд Глава 2: Почему и как ФРС способствовала массовому провалу на рынках активов Николас Соуэлз Глава 3: Устойчивость американского неолиберализма Брэдли Т.Смит, Глава 4: Потребление, обращение и кризис американского капитализма Пьер Арно Часть 2: Смена парадигм, смена масштабов: за пределами национального кризиса Глава 5: Национальная модель капитализма США? Уроки Великой рецессии Мартина Асуелос Глава 6: Кто остался тонуть или плавать? Практика и политика «затопленного государства» на субнациональном уровне после экономического спада Сесиль Кормье Глава 7: Ипотечный кризис: мультискалярная проблема, бросающая вызов американской мечте Синтия Горра-Гобин Глава 8: Преодолевая границы: Гибридный и мультискалярный ответ Америки на конкурентный вызов глобализации Жан-Батист Велю Часть 3: Подрывное и творческое агентство: динамика культурной устойчивости и обновления Глава 9: Эволюция инновационной системы США как парадигмы политической экономии: от разработки инновационной политики к экосистемному управлению? Жак-Анри Кост Глава 10: У.S. Институты рынка труда и динамика занятости: поворотный момент? Кэтрин Совиа Глава 11: Захвати Уолл-Стрит: Что-нибудь большее, чем ложка дегтя? Мари-Кристин Пауэлс Глава 12: Обещание дарения: Филантропия и новое изобретение американского капитализма Лоуренс Коссу-Бомон
Критический взгляд на цивилизационный подход Хантингтона
Это отрывок из книги «Понимание Афганистана после 11 сентября: критический взгляд на цивилизационный подход Хантингтона». Электронная ИК-книга открытого доступа, написанная Глубинкой Шахи.
В настоящее время доступно на Amazon (Великобритания, США, Канада, Германия, Франция), во всех хороших книжных магазинах, а также для бесплатной загрузки в формате PDF. Узнайте больше об ассортименте книг открытого доступа E-IR здесь.
Цивилизация как значимая единица анализа и центр дискуссий в современных международных отношениях — это в значительной степени интеллектуальный вклад Сэмюэля П. Хантингтона. Его знаменитые и неоднозначные статья и книга о «цивилизациях» (1993, 1996) стали одними из наиболее цитируемых и переводимых анализов международного порядка после холодной войны.Хантингтон предсказал цивилизационный поворот на в мировой политике после холодной войны. В его смелой интерпретации цивилизации были первобытными образованиями, которые заменили идеологию и геополитику в качестве вдохновляющих источников сотрудничества и конфликтов в мире после холодной войны. [1] Предупрежден Хантингтон:
В мире после «холодной войны» учитываются флаги и другие символы культурной идентичности, включая кресты, полумесяцы и даже головные уборы, потому что культура имеет значение, а культурная идентичность является наиболее значимой для большинства людей.Люди открывают для себя новые, но часто старые идентичности и маршируют под новыми, но часто старыми флагами, что приводит к войнам с новыми, но часто старыми врагами … Не может быть настоящих друзей без настоящих врагов. Если мы не ненавидим то, чем мы не являемся, мы не можем любить то, что мы есть… Прискорбная правда в этих старых истинах не может игнорироваться государственными деятелями и учеными. Для народов, стремящихся к самосознанию и переизобретающих этническую принадлежность, враги необходимы, и потенциально наиболее опасная вражда происходит через линии разлома между основными мировыми цивилизациями. [2]
Попытка Хантингтона создать новую ментальную карту для восприятия трансформированных «цивилизационных» реалий мировой политики после холодной войны привела к появлению двух важнейших побочных продуктов: во-первых, возвышенная картина западной цивилизации ; во-вторых, запятнанный образ ислама . То, что эвфемистически и, возможно, преждевременно было названо « Новым мировым порядком » в годы после распада Советского Союза, было идеализировано ссылками на предполагаемое превосходство западной цивилизации — ее видение человечества, включая права человека и экономическая и политическая система либерализма.Хантингтон писал: «Запад завоевал мир не благодаря превосходству своих идей, ценностей или религии, а, скорее, благодаря своему превосходству в применении организованного насилия». [3]
Аналогичное мнение нашло отражение в трудах Виктора Дэвиса Хэнсона. Он утверждал, что существует западный способ ведения войны, который из-за определенных особенностей западной цивилизации всегда превосходил незападные способы, давая западным людям большое военное преимущество. Эти черты, как правило, происходили из греческой традиции и включали такие концепции, как ограниченное правительство, гражданское участие, свобода слова, критическое исследование, личные права и базовый эгалитаризм.По его словам, эти концепции привели к превосходным аспектам западной войны, включая массовые формирования, такие как фаланги и легионы, а также жестокую тактику и цели уничтожения. [4] Западные ученые в целом очень гордились своей цивилизацией, которая, как они утверждали, была «более могущественной», чем другие цивилизации, как в идеальном, так и в материальном смысле.
Склонность западных ученых к преувеличенному изложению своего «цивилизационного» фона была легко усвоена и одобрена западными лидерами.Через несколько дней после 11 сентября премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хвастался превосходством западной цивилизации, сделав на пресс-конференции следующее противоречивое заявление:
Мы должны осознавать превосходство нашей цивилизации, состоящей из системы ценностей, которая принесла людям всеобщее процветание в тех странах, которые ее принимают, и гарантирует уважение прав человека и религии. Такого уважения в исламских странах точно не существует. [5]
В мире после 11 сентября «цивилизация» заполнила вакуум, оставленный религией в секуляризованной среде Запада. Западная цивилизация стала образцом, которому можно подражать волей или силой. Нормы, присущие «западному» образу жизни, олицетворением которого являются США, все чаще становятся основой легитимности экономической и военной политики во всем мире.
На оборотной стороне этого возвышенного статуса Запада был намеренно создан миф о дихотомии добра и зла, наиболее ярким проявлением которого является конструкция «оси зла».Этот термин часто использовался президентом США Джорджем Бушем для описания правительств, которые он обвинял в укрывательстве террористов и поиске оружия массового уничтожения. Было подчеркнуто «добро», воплощенное в западной цивилизации, в отличие от предполагаемого «зла», присущего исламу. Утверждения Хантингтона соответствовали западной научной традиции осуждения ислама:
Границы ислама окровавлены, как и его внутренности. Основная проблема Запада — не исламский фундаментализм.Это ислам, другая цивилизация, люди которой убеждены в превосходстве своей культуры и одержимы неполноценностью своей власти. [6]
Алексис де Токвиль, например, прокомментировал:
Я много изучал Коран… Я вышел из этого исследования с убеждением, что в целом в мире мало религий, столь же смертоносных для людей, как религия Мухаммеда. Насколько я понимаю, это основная причина упадка, столь заметного сегодня в мусульманском мире, и хотя его социальные и политические тенденции менее абсурдны, чем многобожие прошлого, на мой взгляд, их следует опасаться бесконечно больше, и Поэтому я рассматриваю это как форму упадка, а не как форму прогресса. [7]
Точно так же Джон Уэсли сказал:
С тех пор, как в мире появилась религия ислам, ее сторонники… были для всех других народов, как волки и тигры, раздирая и разрывая всех, кто попадает в их безжалостные лапы, и скрежетали их своими железными зубами; что бесчисленные города поднимаются из основания, и остается только их имя; что многие страны, которые когда-то были садом Божьим, теперь превратились в пустынную пустыню; и что так много некогда многочисленных и могущественных народов исчезло с лица земли! Такова была и остается ярость, ярость и месть этих разрушителей человеческого рода. [8]
В западных научных кругах считалось, что неполноценность ислама по сравнению с западной цивилизацией в основном проистекает из его неспособности сочетать «разум» с «верой».
Эрнест Фолькман писал: «Христианский философ Фома Аквинский описал« разум »как« невесту веры ». Идея Аквинского о том, что наука или рациональное исследование законов природы может сосуществовать с религией, была принята западной цивилизацией. Напротив, в тот самый момент, когда Аквинский рассказывал своим собратьям-европейцам, как могут сосуществовать вера и разум, его иранский коллега арабский философ Газали пришел к выводу, что сокровища древних текстов представляют собой социальный динамит.Он писал, что изучение науки и философии вредно, поскольку может поколебать веру человека в Бога и подорвать мусульманскую религию. [9] В значительной степени ненаучная природа исламской веры считалась причиной отсталости мусульманских обществ. Помимо западных ученых, некоторые западные лидеры также выражают аналогичные точки зрения. Взяв ранний пример, Уинстон Черчилль однажды сказал:
Как ужасны проклятия, которые мусульманство возлагает на своих приверженцев! Помимо фанатичного безумия, которое для человека так же опасно, как водобоязнь для собаки, существует эта ужасающая фаталистическая апатия.Эффект очевиден во многих странах. Непослушные привычки, неряшливые системы ведения сельского хозяйства, вялые методы торговли и незащищенность собственности существуют везде, где правят или живут последователи Пророка… Мусульманство не только не умирает, но и является воинствующей и обращающей в свою веру религией. [10]
После 11 сентября Джордж Буш и Тони Блэр пытались быть политкорректными, делая риторические заявления о выдающихся авторитетах ислама. Однако они часто очерняли ислам, публично определяя критерии его «подлинного» толкования. [11] Чрезмерно упрощенное приписывание почти всей террористической деятельности после 11 сентября исламским максимам привело к искаженному образу ислама, который, в свою очередь, используется для оправдания «цивилизационной миссии», лежащей в основе пост-9. / 11 Глобальная война с терроризмом под руководством США.
9/11 продемонстрировало, что единственная в мире сверхдержава не застрахована от опасностей и хрупкости нынешней международной системы. Спустя десять лет после терактов 11 сентября высокопоставленный республиканец в Комитете по разведке сенатор Ричард Шелби сказал: «Если и была какая-то определенность в течение недель и месяцев после терактов 11 сентября, так это то, что они были лишь первыми в кампании. террора на американской земле.Вы можете сделать ставку на это ». [12] Председатель Комиссии по терактам 11 сентября Томас Кин выразил аналогичное опасение в Центре двухпартийной политики в Вашингтоне, округ Колумбия. Он заявил: «Мы в большей безопасности, но еще не в той безопасности, в которой мы можем или должны быть». . [13] Подчеркивая политический дискомфорт, вызванный войнами после 11 сентября, Джордж Уилл писал: «Сегодня по причинам, мало связанным с 11 сентября и политическими реакциями на них, нация деморализована еще больше, чем когда-либо с тех пор. конец 1970-х, когда, как и сейчас, повсеместно распространялись чувства бессилия, уязвимости и упадка ». [14]
В то время как 11 сентября обнажило уязвимость США, с одной стороны, оно серьезно поставило под сомнение этические предпосылки внешней политики США, особенно в отношении Афганистана, Ирака и Ближнего Востока, с другой. Стивен Эрик Броннер писал: «Американская внешняя политика после 11 сентября все чаще ассоциируется с использованием двойных стандартов большей частью мира». [15] Джоан Хофф раскритиковала внешнюю политику США после 11 сентября, показав, как моралистическая дипломатия все больше приобретает фаустовский подтекст.Она утверждала, что до тех пор, пока идеологический исход холодной войны оставался под сомнением, у президентов или лиц, принимающих решения в правительстве, не было особых причин ставить под сомнение неэтичные аспекты отношений США с остальным миром или универсальный и исключительный характер американской политики. значения. 11 сентября позволило США заявить о своей исключительности и превосходстве в одностороннем порядке, чем когда-либо прежде. [16] Неудивительно, что обсуждение тезиса Хантингтона о столкновении цивилизаций часто происходило в дебатах после 11 сентября.Тем не менее упрощенное понимание событий 11 сентября и последующей войны с терроризмом в Афганистане под руководством США как примеров столкновения цивилизаций кажется полностью вводящим в заблуждение и опасным. Он вводит в заблуждение, так как не учитывает различные решающие факторы, которые опровергают применимость тезиса Хантингтона в контексте Афганистана после 11 сентября. Это опасно, так как усиливает чрезмерно высокий статус Запада по сравнению с оклеветанным портретом ислама, провоцируя тем самым ожесточенные обмены между фанатичными сторонниками двух «цивилизаций».
Искренняя попытка сдержать эту вводящую в заблуждение и опасную тенденцию требует альтернативного понимания афганского сценария после 11 сентября, которое может служить следующим целям: (i) выявить теоретические лазейки и практические ловушки, скрытые в тезисе Хантингтона о столкновении цивилизаций; (ii) Объяснить популярность тезиса Хантингтона, несмотря на его несоответствия; (iii) выявить скрытые политические мотивы Запада, стоящие за представлением ислама как злой силы, особенно в связи с войной с террором в Афганистане; iv) выявить исторические и социологические корни афганского конфликта после 11 сентября; и (v) предложить выход из продолжающегося кризиса, с которым сталкивается Афганистан, в частности, и ислам в целом.
Это исследование берет на себя ответственность за выполнение вышеупомянутых целей путем принятия двух теоретических стратегий: во-первых, привлечение академической дисциплины психологии для понимания взаимосвязи между агрессивными сценариями и насильственными действиями [17] ; во-вторых, с использованием альтернативной структуры Critical International Theory (CIT), разработанной Робертом У. Коксом и Эндрю Линклейтером и вдохновленной работами Антонио Грамши и Юргена Хабермаса соответственно, для расшифровки и предложения урегулирования ситуации после 9 / 11 Афганский кризис.Исследование поднимает следующий центральный вопрос: являются ли парадигмы, предлагаемые CIT, а именно «производство» и «коммуникация», более эффективными с точки зрения их описательной, объяснительной и эмансипативной способности, чем парадигма, предлагаемая тезисом о столкновении цивилизаций в изображении Афганистан после 11 сентября?
Соответствующий ответ на этот центральный вопрос требует внимания к нескольким связанным вопросам:
- Каковы основные положения тезиса о столкновении цивилизаций?
- Можем ли мы рассматривать теракты 11 сентября и последующую войну с терроризмом в Афганистане под руководством США как прелюдию к новому столкновению цивилизаций?
- Входит ли афганская политика после 11 сентября в рамки парадигмы цивилизационного конфликта?
- Какие пробелы в тезисе о столкновении цивилизаций приводят к его неспособности обеспечить адекватное изображение Афганистана после 11 сентября?
- Как эти пробелы обнаруживаются и заполняются с критически-теоретической точки зрения?
- Как CIT может дать альтернативное понимание Афганистана после 11 сентября?
- Может ли CIT предложить практическую повестку дня по преобразованию афганского кризиса после 11 сентября?
В исследовании эти вопросы исследуются на фоне следующей гипотезы: двойные парадигмы, предлагаемые CIT, могут эффективно использоваться для достижения двойной цели — во-первых, для выявления скрытых политических и экономических факторов, лежащих в основе так называемого цивилизационного конфликта в период после 11 сентября. Афганистан; во-вторых, выявление последствий искажений «цивилизационного» диалога для определения динамики афганской политики после 11 сентября.Этот двоякий подход может облегчить критическую оценку тезиса о столкновении цивилизаций, а также предложить подходящий способ решения и преобразования афганского кризиса после 11 сентября 2001 года.
Методология исследования — текстовая, сравнительная, аналитическая, междисциплинарная, постпозитивистская и эмансипаторная. Он опирается на различные тексты — книги, статьи, интервью, отчеты, заявления, речи и соглашения — для эмпирической поддержки. Он сравнивает эффективность и полезность тезиса о столкновении цивилизаций с тезисом CIT.В нем анализируются политические события в Афганистане после 11 сентября 2001 г. с различных теоретических позиций. Он объединяет идеи, полученные из психологии, с теорией международных отношений. Он поддерживает постпозитивистскую точку зрения о том, что понятие истины / реальности, созданное тезисом позитивистского столкновения цивилизаций, сформировано с определенной точки зрения и с некоторой целью, которую можно интерпретировать, проследив ее политические последствия. Он выбирает путь саморефлексии, чтобы воспринимать афганское общество как место борьбы за власть, и демонстрирует исторические принуждения прошлого, которые сдерживают его освобождение, одновременно обладая потенциалом для его реализации.
Основные источники, использованные в исследовании, включают серию интервью с кабульскими дипломатами, политиками, должностными лицами ООН, американскими и европейскими добровольцами, связанными с международными неправительственными организациями, активистами, социальными работниками, журналистами, академиками и непрофессионалами. Эти интервью проводились во время визита автора в Кабул в июле 2011 года. Хотя данные, собранные в ходе этих интервью, не соответствуют полноценному эмпирическому методу, обычно связанному со стандартными «количественными» полевыми исследованиями, данные, тем не менее, остаются иллюстративными, достоверными и жизненно важными. в первую очередь из-за их «качественной» ценности, поскольку они были подготовлены отдельными лицами от имени своих соответствующих организаций.Ручные портреты и организационные профили этих людей, а также образец анкеты, использованной для проведения интервью, представлены в приложениях.
Исследование разделено на четыре главы. В главе 1 излагаются происхождение и характер тезиса Хантингтона и разбиваются различные критические замечания по трем направлениям — эпистемологической, методологической и этической. Поскольку существующая критика слаба, когда дело доходит до объяснения широко распространенной восприимчивости тезиса Хантингтона, в главе обращается к « гуманистически-экзистенциальной модели » психологии для разработки « психологической критики » тезиса о столкновении цивилизаций, тем самым объясняя популярную восприимчивость. тезиса Хантингтона и предлагая связь между «знанием» и «насилием».’
Глава 2 раскрывает конкретные исторические факторы, которые опровергают применимость тезиса Хантингтона к 11 сентября и последующей войне США с терроризмом в Афганистане. Однако в этой главе утверждается, что неприменимость тезиса Хантингтона не означает автоматически отсутствия популярности тезиса Хантингтона в Афганистане. В этой главе мы исследуем общую историю «политической рецепции» в афганской политике, тем самым объясняя, с одной стороны, популярную восприимчивость Хантингтона среди афганцев и раскрывая пагубное влияние идей Хантингтона на афганскую политику после 11 сентября. , с другой.
Глава 1 использует гуманистически-экзистенциальную модель психологии, чтобы оспорить теоретическую достоверность тезиса Хантингтона, тогда как в главе 2 проливается свет на бесчисленные сложности Афганистана после 11 сентября 2001 года, чтобы поднять вопросы об аналитическом потенциале тезиса Хантингтона. Однако задача выявления недостатков в тезисе Хантингтона не так важна и желательна, как открытие альтернативной теоретической основы, более достойной с точки зрения ее способности постигать социальную реальность.В главе 3 делается попытка установить «Критическую международную теорию» (КИТ) как более достойную теоретическую основу, чем тезис Хантингтона. Он конструирует CIT как единую всеобъемлющую структуру, прослеживает совпадение утверждений CIT и гуманистически-экзистенциальной модели психологии и демонстрирует относительные сильные стороны CIT против слабостей тезиса о столкновении цивилизаций. В целом, CIT часто рассматривается не как единое целое, а как смесь двух различных парадигм, касающихся двух различных концепций и процессов.Производственная парадигма имеет тенденцию сосредотачиваться на концепции работы и борьбе за перераспределение. Коммуникационная парадигма связана с концепцией взаимодействия и борьбы за идентичность. Критики утверждают, что ни одна парадигма не подходит для понимания проблематики другой. Они считают, что «разрыв между работой и взаимодействием» является фундаментальной проблемой CIT. Тем не менее, это исследование делает все возможное, чтобы опровергнуть это обвинение. Его цель — установить тесную связь между парадигмами-близнецами CIT.В исследовании утверждается, что общая освободительная цель двойных парадигм CIT проистекает из общего широкого интеллектуального проекта, в котором центральную роль играют темы гегемонии , разума и трансцендентности .
Глава 4 направлена на обеспечение альтернативного и сравнительно более точного понимания Афганистана после 11 сентября, путем применения двойной парадигмы CIT. Альтернативное понимание реконструирует афганский сценарий после 11 сентября как пример столкновения гегемонистских устремлений.В этой главе показано, что смещение точки зрения от «цивилизационного» к «критическому» не только дает более тонкое видение афганского кризиса после 11 сентября, но и предлагает выход из него. В своем стремлении найти решение тревожного положения дел в Афганистане после 11 сентября 2001 г. он исследует возможность организации эффективной «контргегемонистской борьбы», которая, в свою очередь, потребует создания «альтернативной базы знаний», критические социальные силы вдоль «альтернативных социальных производственных отношений» и создание «всеобъемлющего речевого сообщества».Глава, наконец, забавляется идеей «гуманистического переосмысления Корана», которая может не только проложить путь к преобразованию афганского кризиса после 11 сентября 2001 года, но и стать решающим шагом на пути искупления ислама как у мусульман, так и у немусульманские экстремисты, претендующие на мировую гегемонию в современном мире.
Одно из намерений проведения этого исследования — ответить тем критикам, которые не одобряют критических теоретиков за то, что они не разрабатывают проверяемые теории.Роберт О. Кеохейн, например, признает, что «рефлексивная» позиция критических теоретиков обещает существенное понимание интерсубъективных основ международных отношений, особенно институционального строительства. Он, однако, сетует на то, что критические теоретики были более искусными в указании того, что упускается в рационалистической теории, чем в разработке собственных теорий с априорным содержанием. Вместе с Джудит Гольдштейн он повторяет, что сторонникам критической теории необходимо разрабатывать «проверяемые теории» и четко указывать на их масштаб. [18] Путем проверки теоретических утверждений CIT на основе практических данных, полученных из афганской политики после 11 сентября, это исследование пытается выделить методологические преимущества CIT помимо традиционных / рационалистических теорий международных отношений.
Еще одним мотивирующим фактором, лежащим в основе этого исследования, является демонстрация реформаторского потенциала CIT. Эндрю Линклейтер делает акцент на «праксиологическом вопросе реформы», который лучше всего решает CIT.
Он полагает, что «из-за преобладания реалистического акцента на международных системных ограничениях на противоречие между властью и моралью, а также на опасностях идеалистической праксиологии, возникает вопрос о том, как государства и другие социальные акторы могут создавать новые политические сообщества и идентичности. никогда не рассматривался должным образом.Предоставление адекватного ответа — главное требование критической теории международных отношений ». [19]
Точно так же Раймонд Дюваль и Лата Варадараджан утверждают, что CIT разделяет стремление бросить вызов естественности существующего мирового порядка и приемлемости его доминирующих отношений и практики власти. Пишут:
Критическая теория анализирует эффекты власти и различную способность акторов контролировать свои собственные обстоятельства.Это также выходит за рамки этого теоретического вклада, чтобы дать импульс практическим политическим действиям по оспариванию, противостоянию и разрушению существующих властных отношений. Таким образом, в современную эпоху критическая теория IR актуальна, среди прочего, как стимул для сопротивления империи во многих ее проявлениях. [20]
Настоящее исследование представляет собой попытку пролить свет на желательный курс действий для противодействия империалистическим тенденциям в Афганистане после 11 сентября.
Сильная «теоретическая» ориентация большей части этого исследования может вызвать скептицизм в отношении его практической значимости.Тем не менее, исследование подтверждает неделимую, но обособленную связь между теорией и практикой политики, что, возможно, лучше всего отражено в следующих словах критического теоретика Теодора В. Адорно:
Какими бы неразделимыми ни были эти две отдельные дисциплины — теория и практика, — поскольку в конце концов, обе они берут свое начало в самой жизни, существует еще один фактор, необходимый для практики, который не может быть полностью объяснен теорией и который очень трудно изолировать. . И я хотел бы подчеркнуть это, потому что я считаю его фундаментальным для определения морали … Одна из задач теории морали — установить пределы самой теории, другими словами, показать, что сфера морали действие включает в себя что-то, что не может быть полностью описано в интеллектуальных терминах, но также и то, что не следует превращать в абсолют … Мне чрезвычайно трудно найти слова, чтобы описать этот фактор … Но я считаю, что мы нашли ключ к этому … когда я был рассказывая вам о концепции сопротивления … когда кто-то решает не делать что-либо на этот раз, а отступить от доминирующей области практической деятельности, чтобы подумать о чем-то существенном.Теперь я хочу подчеркнуть фактор сопротивления, отказ быть частью преобладающего зла, отказ, который всегда подразумевает сопротивление чему-то более сильному и, следовательно, всегда содержит элемент отчаяния. Я считаю, что эта идея сопротивления может помочь вам лучше понять, что я имею в виду, когда говорю, что моральная сфера не совпадает с теоретической сферой, и что этот факт сам по себе является основным философским детерминантом сферы практических действий. . [21]
Это исследование можно рассматривать как небольшое усилие, направленное на прикосновение к той философской зоне морали, которая, согласно Адорно, находится где-то между теоретической и практической досягаемостью существования, но все же за ее пределами.
Банкноты
[1] Согласно Хантингтону, цивилизация означает «высшее культурное объединение людей и самый широкий уровень культурной идентичности, который у людей меньше того, что отличает людей от других видов». См. Хантингтон, Сэмюэл Саммер 1993, «Столкновение цивилизаций? , ” Foreign Affairs , Vol. 72, № 3, с. 24.
[2] Хантингтон, Сэмюэл П. 1997 Столкновение цивилизаций и переделка мирового порядка, Саймон и Шустер, с.20.
[3] Хантингтон, Сэмюэл П. 1996 Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка , Penguin, p. 51.
[4] Хэнсон, Виктор Дэвис 2001 Резня и культура: знаменательные битвы в период подъема западной власти , Якорные книги.
[5] Хупер, Джон и Коннолли, Кейт 27 сентября 2001 г. «Берлускони ломает свои позиции по поводу ислама», The Guardian, , доступно на http://www.guardian.co.uk/world/2001/sep/27/ afghanistan.terrorism7
[6] Хантингтон, Сэмюэл П.1996 Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка , Penguin, p. 217.
[7] Бенуа Жан-Луи 2007 Notes sur le Coran et Autres Textes sur les Religions (Примечания к Корану и другим текстам о религии) Алекса де Токвиля, Баярд; рассмотрено Мазелем, Мишель 2007 г., Обзор еврейских политических исследований, Vol. 19, с. 3-4.
[8] Блэнтон, Стивен 2011 Сердце ислама, Author House, p.xxi-xxii.
[9] Фолькман, Эрнест 2002 Наука идет на войну: поиски совершенного оружия, от греческого огня до «Звездных войн» , Wiley, p.60.
[10] Черчилль, Уинстон 1899 Речная война , доступно на http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1575199/posts
[11] См. Пайпс, Даниэль, 26 ноября 2001 г. «Что такое истинный ислам?: США не должны говорить», New York Post ; Саттон, Филип В. и Вертиганс, Стивен 2005 Возрождающийся ислам: социологический подход , Polity, p.150; Бестеман, Лоу и Гастерсон 2005 Почему ведущие ученые мужи Америки ошибаются , University of California Press, стр.36-42.
[12] Чепмен, Стив, 8 сентября 2011 г. «Кто спас нас после 11 сентября?», Chicago Tribune, , доступно по адресу http://articles.chicagotribune.com/2011-09-08/news/ct- oped-0908-chapman-20110908_1_terrorist-атаки-автомобиль-бомба-внутренний-терроризм
[13] Минц, Элианна, 31 августа 2011 г. «Комиссия по терактам 11 сентября предупреждает, что США по-прежнему уязвимы через 10 лет после атак», Служба новостей Talk Radio, доступно на http://www.talkradionews.com/news/2011/ 8/31 / 9-11-комиссия-предупреждает-нас-все еще уязвима-через 10 лет-после-атт.html
[14] Уилл, Джордж 11 сентября 2011 г. «11 сентября, войны оставляют США чувствовать себя уязвимыми», Newsmax , доступно по адресу http://www.newsmax.com/GeorgeWill/9-11-iraq/2011/ 09/11 / id / 410468
[15] Броннер, Стивен Эрик 2011 «О суждении американской внешней политики: права человека, политический реализм и высокомерие власти», Logos: A Journal of Modern Society and Culture , доступно на http://logosjournal.com/ 2011 / summer_bronner /
[16] Хофф, Джоан 2007 Внешняя политика Фауста от Вудро Вильсона до Джорджа У.Буш: Мечты о совершенствовании, Cambridge University Press.
[17] Хотя большинство исследователей сосредотачиваются на использовании агрессивных сценариев правонарушителями, сценарии доступны для использования в международных конфликтах, издевательствах и войнах между бандами. См. Миллон, Теодор 2003 Справочник по психологии: личность и социальная психология , том 5, Wiley, p. 571.
[18] Линклейтер, Эндрю 2000 Международные отношения: критические концепции в политической науке, Том 4, Рутледж, с.1789.
[19] Линклейтер, Эндрю 1992 «Вопрос следующего этапа в теории международных отношений», Millennium , Vol.21, No. 1, p. 96.
[20] Дюваль, Раймонд и Варадараджан, Латха 2003 «О практическом значении критической теории международных отношений», Asian Journal of Polit Science, Vol. 11. Выпуск 2. С. 75–88.
[21] Адорно, Теодор В. 2001 Проблемы моральной философии под редакцией Томаса Шредера, перевод Родни Ливингстона, Stanford University Press, стр.3-8.
Дополнительная литература по электронным международным отношениям
Цивилизационная перспектива Индийское общество, культурная и цивилизационная перспектива
Главная » Теоретические перспективы в социологии » Цивилизационная перспектива
Civilizational Perspective рассматривает общество с исторической точки зрения. Он исследует сложность культурной и социальной системы. Он следует средневековым и древним классическим текстам, официальным записям, сетям деревенских каст и т. Д.Эта перспектива исследует преемственность и изменения в социальной структуре с исторической точки зрения. Н.К. Бозе придерживался индуктивного подхода и был функционалистом. В своей работе «Природа культуры» он акцентирует внимание на адаптивных возможностях культуры. Он представил свою работу, основанную на трех подходах идеолога, этнографа и социолога. В своей книге «Структура индуистского общества» он дает свой взгляд на цивилизационную перспективу. Книга разделена на три части. Бозе провел этнографические исследования нескольких племенных групп Индии.По его словам, племенные общины в Индии имеют разные отношения с большим обществом, и они разнообразны сами по себе. Он использует два параметра, чтобы отличать разные племенные общины друг от друга. Это технологическое развитие и степень географической и социальной изоляции. Его антропологическая работа среди племен Орисса и Чота Нагпур, таких как Хуанги, считает, что они не затронуты брахманическим влиянием. Эти племена считаются неарийскими, входящими в состав индуистской общины.Он также обращает внимание на более продвинутые племена, такие как Ораон и Мунда.
Цивилизационная перспектива NK Bose
Они оба участвовали в общественных движениях 19 века. Ораон двигался к недавно построенному идеальному прошлому, заимствованному из санскритских индуистских традиций. Бозе использовал различные индологические источники, такие как эпосы Рамаяна, Смритис и др. определить систему Варны, соотнося положение сообщества в системе с их функциями и происхождением. Он также подробно рассказывает о деревенской жизни, говоря о самодостаточности деревень.Бозе также говорил о влиянии других религий на общественную организацию индуизма. Мусульманское правление принесло новые ремесла, которые помогли переопределить экономическую организацию деревень на небольшом уровне. Он приводит два примера попытки бросить вызов основным принципам индуистской социальной организации — буддизм в древности и движение бхакти Чайтаньи в средневековый период. Они повлияли на социальную организацию, но не принесли фундаментальных изменений в существующий общественный порядок. Они мало что сделали, чтобы изменить разделение труда.Боз исследует влияние британского правления на индуистский общественный строй. Он изучает, как экономические последствия начали ослабевать и изменять социальную структуру индуистского общества. Для этого он берет пример Синхаса из Раджпура, который воспользовался своим выгодным положением торговца, чтобы за короткий промежуток времени перейти из одной профессиональной сферы в другую. Из торговцев они превратились в землевладельцев, фабрикантов и других профессионалов. Бозе верил в экономические силы как в главный фактор, приносящий как перемены, так и преемственность.
Цивилизационная перспектива и социальные системы
Он классифицировал племена Индии и считал, что самый простой способ сделать это — различать их по образу жизни. Это более простой способ различать племена и не-племена индуистской социальной системы. Он считал, что на индуистскую социальную организацию больше повлияли британцы, чем мусульмане, поскольку первые принесли с собой новые технологии и экономическую систему. Племена столкнулись с необходимостью выхода из изоляции и присоединения к основной социальной организации из-за экономических обстоятельств.Бозе отверг идею божественного происхождения касты, а также идею чистоты и загрязнения. Он объяснил сохранение кастовой системы на протяжении веков тем, что она обеспечивала экономическую и культурную безопасность. Но в основном он руководствовался культурной толерантностью. Он отмечает, что происходит переход от неконкурентной системы к конкурентной. Бозе также говорил о регулирующей цели кастовой системы. Он инициировал несколько исследований кастовых ассоциаций по всей Индии. Первое крупное полевое исследование было проведено среди цзюанцев из Одиши.Это привело к убеждению, что племена, следующие примитивным средствам и способам выращивания, были вытеснены в сельское хозяйство и основанную на ремеслах индуистскую социальную организацию. Он осветил причины племенных перемещений по всей Индии, их экономическую организацию и то, как они наблюдаются в индуистском обществе. В своей книге «Племенная жизнь в Индии» он указал, как мало различий между племенами, крестьянами и ремесленниками. Работа Бозе над племенами и кастами привела к пониманию единства индийской культуры. Он сосредоточился на том, как культура связывает различные зоны Индии в единое целое.
Изучение истории | Мировые цивилизации I (HIS101) — Биль
История расщепления
Периодизация — процесс категоризации прошлого на дискретные, количественно определенные, именованные блоки времени с целью облегчения изучения и анализа истории — всегда произвольна и коренится в конкретных региональных перспективах, но служит для организации и систематизации исторических знаний.
Цели обучения
Проанализировать сложности, связанные с разделением истории, с целью академического исследования
Основные выводы
Ключевые моменты
- Вопрос о том, какие запросы ставят историки, какие знания они ищут и как они интерпретируют найденные доказательства, остается спорным.Историки делают выводы из прошлых подходов к истории, но, в конце концов, они всегда пишут в контексте своего времени, текущих доминирующих идей о том, как интерпретировать прошлое, и даже субъективных точек зрения.
- Все события, которые помнят и сохранили в некоторой первоначальной форме, составляют исторические записи. Задача историков — определить источники, которые могут наиболее эффективно способствовать созданию точных отчетов о прошлом. Эти источники, известные как
первоисточника или свидетельства, были получены в исследуемое время и составляют основу исторического исследования. - Периодизация — это процесс категоризации прошлого на дискретные, определенные количественно именованные блоки времени, чтобы облегчить изучение и анализ истории. Это приводит к описательным абстракциям, которые обеспечивают удобные термины для периодов времени с относительно стабильными характеристиками. Все системы периодизации произвольны.
- Общий общий раскол между доисторией, древней историей, средневековьем, современной историей и новейшей историей — это западное разделение на самые большие отрезки времени, согласованное западными историками.Однако даже в рамках этого общепринятого разделения взгляды на конкретные национальные события и опыт часто разделяют западных историков, поскольку некоторые периодизирующие ярлыки будут применимы только к определенным регионам.
- Изучение всемирной истории возникло как отдельная академическая область, чтобы исследовать историю с глобальной точки зрения, а не с чисто национальной точки зрения исследования. Тем не менее, эта область все еще борется с по сути своей западной периодизацией.
- Мировые историки используют тематический подход для поиска общих закономерностей, которые проявляются во всех культурах.Периодизация мировой истории, сколь бы несовершенной и предвзятой она ни была, служит способом организации и систематизации знаний.
Ключевые термины
- периодизация : процесс или исследование категоризации прошлого на дискретные, количественно именованные блоки времени, чтобы облегчить изучение и анализ истории. Это приводит к описательным абстракциям, которые обеспечивают удобные термины для периодов времени с относительно стабильными характеристиками. Однако определение точного начала и окончания любого периода обычно произвольно.
- всемирная история : (Также глобальная история или транснациональная история): возникла как отдельная академическая область в 1980-х годах. Он рассматривает историю с глобальной точки зрения. Мировую историю не следует путать со сравнительной историей, которая, как и всемирная история, имеет дело с историей множества культур и народов, но не в глобальном масштабе. Мировая история определяет общие закономерности, которые проявляются во всех культурах.
- первоисточники : Первоисточники информации по теме.При изучении истории как академической дисциплины первоисточники включают артефакт, документ, дневник, рукопись, автобиографию, запись или другой источник информации, созданный в исследуемое время.
Как мы пишем историю?
Слово история в конечном итоге происходит от древнегреческого Historía , что означает «исследование», «знание из исследования» или «судья». Однако вопрос о том, какие запросы ставят историки, какие знания они ищут и как они интерпретируют найденные доказательства, остается спорным.
Историки делают выводы из прошлых подходов к истории, но, в конце концов, они всегда пишут в контексте своего времени, текущих доминирующих идей о том, как интерпретировать прошлое, и даже субъективных точек зрения. Более того, текущие события и события часто приводят к тому, какие прошлые события, исторические периоды или географические регионы считаются критическими и, следовательно, требуют расследования. Наконец, исторические исследования призваны преподать конкретные уроки обществам сегодня. По словам Бенедетто Кроче, итальянского философа и историка: «Вся история — это современная история.”
Все события, которые помнят и сохраняются в некоторой первоначальной форме, составляют историческую летопись. Задача историков — определить источники, которые могут наиболее эффективно способствовать созданию точных отчетов о прошлом. Эти источники, известные как первоисточники или свидетельства, были созданы в исследуемое время и составляют основу исторического исследования. В идеале историк будет использовать как можно больше доступных первоисточников, но на практике источники могут быть уничтожены или недоступны для исследования.В некоторых случаях единственными свидетельствами очевидцев события могут быть воспоминания, автобиографии или устные интервью, взятые спустя годы. Иногда единственное свидетельство, относящееся к событию или человеку в далеком прошлом, было записано или скопировано десятилетиями или столетиями позже. Историки остаются осторожными, работая с свидетельствами, записанными спустя годы, или даже десятилетия, или столетия после события; такого рода доказательства ставят вопрос о том, насколько точно свидетели помнят события. Однако историки также отмечают, что вряд ли какие-либо исторические свидетельства можно рассматривать как объективные, поскольку они всегда являются продуктом конкретных людей, времен и доминирующих идей.По этой же причине исследователи пытаются найти как можно больше записей об исследуемом событии, и нередко они находят доказательства, которые могут представлять противоречивые отчеты об одних и тех же событиях. В целом источники исторического знания можно разделить на три категории: то, что написано, что сказано, и что физически сохраняется. Историки часто обращаются ко всем трем.
Периодизация
Периодизация — это процесс категоризации прошлого на дискретные, количественно определенные, именованные блоки времени, чтобы облегчить изучение и анализ истории.Это приводит к описательным абстракциям, которые обеспечивают удобные термины для периодов времени с относительно стабильными характеристиками.
В той мере, в какой история непрерывна и не может быть обобщена, все системы периодизации произвольны. Более того, определение точного начала и окончания любого периода также является делом произвольных решений. В конце концов, периодические метки являются отражением очень конкретных культурных и географических перспектив, а также определенных подполей или тем истории (например,g., военная история, социальная история, политическая история, интеллектуальная история, культурная история и т. д.). Следовательно, блоки периодизации не только неизбежно перекрываются, но также часто кажутся конфликтующими или противоречащими друг другу. Некоторые из них имеют культурное употребление (позолоченный век), другие относятся к выдающимся историческим событиям (межвоенные годы: 1918–1939), а третьи определяются с помощью десятичной системы счисления (1960-е, 17-е века). Другие периоды названы в честь влиятельных людей, влияние которых могло достигать или не выходить за пределы определенных географических регионов (викторианская эпоха, эдвардианская эпоха, наполеоновская эпоха).
Западные исторические периоды
Общий общий раскол между предысторией (до письменной истории), древней историей, средневековьем, современной историей и новейшей историей (историей в памяти живущих) — это западное разделение крупнейших отрезков времени, согласованное западными историками и представляющее Западная точка зрения. Например, историю Азии или Африки нельзя четко классифицировать по этим периодам.
Однако даже в рамках этого общепринятого разделения взгляды на конкретные национальные события и опыт часто разделяют западных историков, поскольку некоторые периодизирующие ярлыки применимы только к определенным регионам.Это особенно верно в отношении ярлыков, полученных от отдельных лиц или правящих династий, таких как эпоха Джексона в Соединенных Штатах или период Меровингов во Франции. Культурные термины также могут иметь ограниченный, даже больший охват. Например, концепция романтического периода в значительной степени бессмысленна за пределами Европы и культур, находящихся под европейским влиянием; Даже в пределах этих областей разные европейские регионы могут по-разному обозначать начало и конец романтизма. Точно так же 1960-е, хотя технически применимы к любой точке мира в соответствии с нумерацией Common Era, имеют определенный набор специфических культурных коннотаций в определенных странах, включая сексуальную революцию, контркультуру или восстание молодежи.Однако они никогда не появлялись в определенных регионах (например, в Испании при авторитарном режиме Франсиско Франко). Некоторые историки также отметили, что 1960-е годы как описательный исторический период на самом деле начались в конце 1950-х и закончились в начале 1970-х, потому что культурные и экономические условия, определяющие значение периода, преобладали дольше, чем фактическое десятилетие 1960-х годов. .
Петрарка Андреа дель Кастаньо.
Петрарка, итальянский поэт и мыслитель, придумал идею европейского «темного века», которая позже превратилась в трехстороннюю периодизацию западной истории: античность, средние века и современность.
Хотя всемирная история (также называемая глобальной историей или транснациональной историей) возникла как отдельная академическая область исторического исследования в 1980-х годах, чтобы исследовать историю с глобальной точки зрения, а не исключительно с национальной точки зрения исследования, она все еще борется с по своей сути западная периодизация. Распространенные разделения, используемые при разработке всеобъемлющих курсов всемирной истории на уровне колледжа (и, следовательно, также используемые в учебниках истории, которые обычно делятся на тома, охватывающие досовременные и современные эпохи), все еще являются результатом определенных исторических событий, представленных с точки зрения западных стран. мировой и частный национальный опыт.Тем не менее, даже разделение на эпохи до современности и эпохи модерна проблематично, потому что оно осложняется вопросом о том, как преподаватели истории, авторы учебников и издатели решают классифицировать то, что известно как эпоха раннего модерна, которая традиционно является периодом между эпохой Возрождения. и конец эпохи Просвещения. В конце концов, включать ли эпоху раннего Нового времени в первую или вторую часть курса всемирной истории, часто предлагаемого в колледжах США, — это субъективное решение преподавателей истории.В результате те же вопросы и варианты выбора применимы к учебникам истории, написанным и изданным для аудитории США.
Мировые историки используют тематический подход для выявления общих закономерностей, возникающих во всех культурах, с двумя основными фокусами: интеграция (как процессы всемирной истории сблизили людей мира) и различие (как закономерности мировой истории раскрывают разнообразие человеческий опыт). Периодизация мировой истории, сколь бы несовершенной и предвзятой она ни была, служит способом организации и систематизации знаний.
Без этого история была бы не чем иным, как разрозненными событиями, без структуры, призванной помочь нам понять прошлое.
Даты и календари
В то время как различные календари были разработаны и использовались на протяжении тысячелетий, культур и географических регионов, западная историческая наука объединила стандарты определения дат на основе преобладающего григорианского календаря.
Цели обучения
Сравните и сопоставьте разные календари и их влияние на наше понимание истории
Основные выводы
Ключевые моменты
- Первые зарегистрированные календари относятся к бронзовому веку
, включая египетский и шумерский календари.Большее количество календарных систем Древнего Ближнего Востока стало доступно в железном веке и основывалось на вавилонском календаре. Большое количество эллинских календарей также развивалось в классической Греции и повлияло на календари за пределами непосредственной сферы греческого влияния, дав начало различным индуистским календарям, а также древнеримскому календарю. - Несмотря на то, что разные календари используются в разных тысячелетиях, культурах и географических регионах, западная историческая наука объединила стандарты определения дат на основе преобладающего григорианского календаря.
- Юлий Цезарь внес коренные изменения в существующую систему хронометража. Новый год в 709 AUC начался 1 января и длился 365 дней до 31 декабря. Дальнейшие корректировки были внесены при Августе, который ввел понятие високосного года в 737 AUC (4 CE). Получившийся в результате юлианский календарь оставался почти повсеместным в Европе до 1582 года.
- Григорианский календарь, также называемый западным календарем и христианским календарем, сегодня является наиболее широко используемым во всем мире гражданским календарем.Он назван в честь Папы Григория XIII, который представил его в октябре 1582 года. Календарь был усовершенствован по сравнению с юлианским календарем, что привело к корректировке длины года на 0,002%.
- В то время как европейский григорианский календарь в конечном итоге доминировал в мире и историографии, ряд других календарей сформировал
системы хронометража, которые все еще имеют влияние в некоторых регионах мира. К ним относятся исламский календарь, различные индуистские календари и календарь майя. - Календарная эра, которая часто используется как альтернативное название давно принятой системы anno Domini / до Рождества Христова, называется Common Era или Current Era, сокращенно CE.В то время как обе системы являются общепринятым стандартом, система Common Era более нейтральна и учитывает нехристианскую точку зрения.
Ключевые термины
- Исламский календарь : (Также мусульманский календарь или календарь хиджры): Лунный календарь, состоящий из 12 месяцев в году из 354 или 355 дней. Он используется для датирования событий во многих мусульманских странах (одновременно с григорианским календарем) и используется мусульманами повсюду для определения правильных дней, в которые следует соблюдать ежегодный пост, посещать хадж и отмечать другие исламские праздники и фестивали.Первый год равен 622 году н.э., когда произошла эмиграция Мухаммеда из Мекки в Медину, известную как Хиджра.
- anno Domini : Средневековый латинский термин, который означает год Господа, но часто переводится как год нашего Господа. Дионисий Экзигу из Малой Скифии ввел систему, основанную на этой концепции, в 525 году, считая годы от Рождества Христова.
- Календарь майя : Система календарей, использовавшаяся в доколумбовой Мезоамерике и во многих современных общинах гватемальского нагорья, Веракруса, Оахаки и Чьяпаса, Мексика.Основы его основаны на системе, которая широко использовалась во всем регионе, начиная, по крайней мере, с пятого века до нашей эры. Он имеет много общих черт с календарями, которые использовались другими более ранними мезоамериканскими цивилизациями, такими как сапотеки и ольмеки, и с современными или более поздними календарями, такими как календари Mixtec и ацтеков.
- Юлианский календарь : календарь, введенный Юлием Цезарем в 46 г. до н.э. (708 г. до н.э.), который был реформированием римского календаря. Он вступил в силу в 45 г. до н. Э. (709 г. до н. Э.), Вскоре после римского завоевания Египта.Это был преобладающий календарь в римском мире, большей части Европы, а также в европейских поселениях в Северной и Южной Америке и в других местах, пока он не был усовершенствован и постепенно заменен григорианским календарем, провозглашенным в 1582 году Папой Григорием XIII.
- Григорианский календарь : (также западный календарь и христианский календарь): календарь, который сегодня является наиболее широко используемым во всем мире гражданским календарем. Он назван в честь Папы Григория XIII, который представил его в октябре 1582 года. Календарь был усовершенствованным юлианским календарем, равным нулю.Коррекция 002% по длине года.
Календари и история письменности
Методы хронометража могут быть реконструированы для доисторического периода, по крайней мере, от периода неолита. Естественными единицами измерения времени, используемыми в большинстве исторических обществ, являются день, солнечный год и луна. Первые зарегистрированные календари относятся к бронзовому веку и включают египетский и шумерский календари. Большее количество календарных систем Древнего Ближнего Востока стало доступно в железном веке и основывалось на вавилонском календаре.Одним из них был календарь Персидской империи, который, в свою очередь, дал начало зороастрийскому календарю, а также еврейскому календарю.
Большое количество эллинских календарей было разработано в классической Греции и повлияло на календари за пределами непосредственной сферы греческого влияния. Они дали начало различным индуистским календарям, а также древнеримскому календарю, который содержал очень древние остатки доэтрусского десятимесячного солнечного года. Римский календарь был реформирован Юлием Цезарем в 45 г. до н. Э.Юлианский календарь больше не зависел от наблюдения новолуния, а просто следовал алгоритму введения високосных дней каждые четыре года. Это создало отделение календарного месяца от лунного месяца. Григорианский календарь был введен как уточнение юлианского календаря в 1582 году и сегодня используется во всем мире как календарь de facto для светских целей.
Несмотря на то, что разные календари использовались в разных тысячелетиях, культурах и географических регионах, западные исторические науки унифицировали стандарты определения дат на основе преобладающего григорианского календаря.Независимо от того, какой исторический период или географические районы исследуют и пишут западные историки, они корректируют даты из исходной системы хронометража по григорианскому календарю. Иногда некоторые историки решают использовать обе даты: даты, записанные в соответствии с используемым исходным календарем, и дату, скорректированную по григорианскому календарю, легко узнаваемую западным изучающим историю.
Юлианский календарь
В древнеримском году было 304 дня, разделенных на десять месяцев, начиная с марта.Однако древний историк Ливий воздал должное второму древнеримскому царю Нуме Помпилиусу за создание календаря на двенадцать месяцев. Дополнительные месяцы Ianuarius и Februarius были изобретены, предположительно, Нумой Помпилиусом, как временные промежутки. Юлий Цезарь понял, что система стала неработоспособной, поэтому в год своего третьего консульства он произвел радикальные изменения. Новый год в 709 AUC ( ab urbe condita — год от основания города Рима) начался 1 января и длился 365 дней до 31 декабря.Дальнейшие корректировки были внесены при Августе, который ввел понятие високосного года в 737 AUC (4 г. н. Э.). Получившийся в результате юлианский календарь оставался почти повсеместным в Европе до 1582 года. Марк Теренций Варрон ввел эпоху Ab urbe condita , предполагая основание Рима в 753 году до нашей эры. Система использовалась в раннем средневековье до широкого распространения дионисийской эры в период Каролингов. Семидневная неделя имеет традицию, восходящую к Древнему Ближнему Востоку, но введение планетарной недели, которая остается в современном использовании, относится к периоду Римской империи.
Григорианский календарь
Григорианский календарь, также называемый западным календарем и христианским календарем, сегодня является наиболее широко используемым во всем мире гражданским календарем. Он назван в честь Папы Григория XIII, который представил его в октябре 1582 года. Календарь был усовершенствован по сравнению с юлианским календарем, что привело к корректировке длины года на 0,002%. Мотивация реформы заключалась в том, чтобы остановить смещение календаря относительно равноденствий и солнцестояний — особенно весеннего равноденствия, который установил дату празднования Пасхи.Переход к григорианскому календарю восстановит праздник во время года, когда он отмечался ранней церковью. Первоначально реформа была принята католическими странами Европы. Протестанты и восточно-православные страны продолжали использовать традиционный юлианский календарь и в конечном итоге приняли григорианскую реформу для удобства в международной торговле. Последней европейской страной, принявшей реформу, была Греция в 1923 году.
Первая страница папской буллы «Inter Gravissimas», с помощью которой Папа Григорий XIII представил свой календарь.
В период между 1582 годом, когда первые страны приняли григорианский календарь, и 1923 годом, когда он был принят последней европейской страной, часто приходилось указывать дату какого-либо события как в юлианском, так и в григорианском календарях. Даже до 1582 года год иногда приходилось датировать дважды из-за разного начала года в разных странах.
Календари за пределами Европы
В то время как европейский григорианский календарь в конечном итоге доминировал в мире и в историографии, ряд других календарей сформировал системы хронометража, которые все еще имеют влияние в некоторых регионах мира.
Исламский календарь определяет первый год в 622 году нашей эры, в течение которого произошла эмиграция Мухаммеда из Мекки в Медину, известную как хиджра. Он используется для датировки событий во многих мусульманских странах (одновременно с григорианским календарем) и используется мусульманами повсюду для определения подходящих дней для соблюдения и празднования исламских религиозных обрядов (например, поста), праздников и фестивалей.
Различные индуистские календари, разработанные в средневековый период, на основе астрономии эпохи Гупты.Некоторые из наиболее известных региональных индуистских календарей включают непальский календарь, ассамский календарь, бенгальский календарь, календарь малаялам, тамильский календарь, Викрама Самват (используемый в Северной Индии) и календарь Шаливахана. Общей чертой всех региональных индуистских календарей является то, что названия двенадцати месяцев одинаковы (потому что названия основаны на санскрите), хотя написание и произношение несколько различаются от региона к региону на протяжении тысяч лет. Месяц, с которого начинается год, также варьируется от региона к региону.Буддийский календарь и традиционные лунно-солнечные календари Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Шри-Ланки и Таиланда также основаны на более старой версии индуистского календаря.
Из всех древних календарных систем майя и другие мезоамериканские системы являются наиболее сложными. В календаре майя было два года: 260-дневный священный круг, или цолкин , и 365-дневный неопределенный год, или хааб .
Основы календаря майя основаны на системе, которая широко использовалась во всем регионе, начиная с пятого века до нашей эры.Он имеет много общих черт с календарями, использовавшимися другими более ранними мезоамериканскими цивилизациями, такими как сапотекская и ольмекская, и современными или более поздними, такими как календари Mixtec и ацтеков. Календарь майя до сих пор используется во многих современных сообществах в гватемальском нагорье, Веракрусе, Оахаке и Чьяпасе, Мексика.
, выпущенная в аэропорту короля Халеда (10 Раджаб 1428/24 июля 2007 г.)
Первый год был исламским годом, начавшимся в 622 году нашей эры, когда произошла эмиграция Мухаммеда из Мекки в Медину, известную как Хиджра.Каждый пронумерованный год обозначается буквой «H» для хиджры или «AH» для латинского Anno Hegirae («год хиджры»). Следовательно, мусульмане обычно называют свой календарь календарем хиджры.
Анно Домини против нашей эры
Термины anno Domini (AD) и до Рождества Христова (BC) используются для обозначения или нумерации лет в юлианском и григорианском календарях. Термин anno Domini — это средневековая латынь, что означает в год Господа, , но часто переводится как в год Господа нашего .Иногда он приводится более полно как anno Domini nostri Iesu (или Jesu Christi («в год Господа нашего Иисуса Христа»). Дионисий Exiguus Малой Скифии ввел систему AD в 525 году нашей эры, считая годы, прошедшие с рождение Христа. Эта календарная эра основана на традиционно признанном году зачатия или рождения Иисуса из Назарета, при этом н.э. отсчитывает годы после начала этой эпохи, а до н.э. означает годы до начала эры. Год отсутствует. ноль в этой схеме, поэтому год 1 н.э. следует сразу за годом 1 до н.э.Эта система датирования была изобретена в 525 году, но широко не использовалась до 800 года.
Календарная эра, которая часто используется в качестве альтернативного названия nno Domini
, называется Common Era или Current Era, сокращенно CE. Система использует BCE как аббревиатуру «до нашей эры». Обозначение CE / BCE использует те же числовые значения, что и система AD / BC, поэтому два обозначения (CE / BCE и AD / BC) численно эквивалентны. Выражение «Наша эра» можно найти еще в 1708 году в английском языке и восходит к латинскому употреблению среди европейских христиан до 1615 года, как vulgaris aerae, и до 1635 года в английском языке как Vulgar Era .
С конца 20-го века использование CE и BCE было популяризировано в академических и научных публикациях, и в более общем плане авторами и издателями, желающими подчеркнуть секуляризм или чувствительность к нехристианам, поскольку система явно не использует религиозные титулы Иисуса, такие как «Христос» и Dominus («Господь»), которые используются в обозначениях до н.э. / н.э., а также не дают косвенного выражения христианскому вероучению, что Иисус есть Христос. В то время как обе системы, таким образом, являются общепринятым стандартом, система CE / BCE более нейтральна и учитывает нехристианскую точку зрения.
Несовершенная историческая запись
Хотя некоторые первоисточники считаются более надежными или заслуживающими доверия, чем другие, вряд ли какие-либо исторические свидетельства можно рассматривать как полностью объективные, поскольку они всегда являются продуктом конкретных людей, времен и доминирующих идей.
Цели обучения
Объясните последствия несовершенной исторической записи
Основные выводы
Ключевые моменты
- При изучении истории как академической дисциплины первичным источником является артефакт, документ, дневник, рукопись, автобиография, запись или другой источник информации, созданный в исследуемое время.
- История как академическая дисциплина основана на первоисточниках, оцененных сообществом ученых, для которых первоисточники абсолютно необходимы для реконструкции прошлого. В идеале историк будет использовать как можно больше первоисточников, созданных за исследуемый период. Однако на практике одни источники были уничтожены, а другие недоступны для исследования.
- Хотя некоторые источники считаются более надежными или заслуживающими доверия, чем другие, историки отмечают, что вряд ли какие-либо исторические свидетельства можно рассматривать как полностью объективные, поскольку они всегда являются продуктом конкретных людей, времен и доминирующих идей.
- Исторический метод включает в себя методы и руководящие принципы, с помощью которых историки используют первоисточники и другие свидетельства (включая свидетельства археологии) для исследования и написания исторических отчетов о прошлом.
- Первичные источники могут оставаться в частных руках или находиться в архивах, библиотеках, музеях, исторических обществах и специальных коллекциях. Традиционно историки пытаются ответить на исторические вопросы, изучая письменные документы и устные отчеты.Они также используют такие источники, как памятники, надписи и изображения. В целом источники исторического знания можно разделить на три категории: то, что написано, что сказано, и что физически сохраняется. Историки часто обращаются ко всем трем.
- Историки используют различные стратегии для реконструкции прошлого, когда сталкиваются с нехваткой источников, включая сотрудничество с экспертами из других академических дисциплин, в первую очередь археологии.
Ключевые термины
- вторичный источник : документ или запись, которые относятся или обсуждают информацию, первоначально найденную в первичном источнике.Он контрастирует с первоисточником, который является первоисточником обсуждаемой информации; Первоисточником может быть человек, непосредственно знакомый с ситуацией, или документ, созданный таким человеком. Вторичный источник включает обобщение, анализ, синтез, интерпретацию или оценку исходной информации.
- первоисточник : При изучении истории как академической дисциплины, артефакта, документа, дневника, рукописи, автобиографии, записи или другого источника информации, созданного в исследуемое время.Он служит первоисточником информации по теме.
- исторический метод : научный метод, который включает методы и руководящие принципы, с помощью которых историки используют первоисточники и другие свидетельства (включая свидетельства археологии) для исследования и написания исторических отчетов о прошлом.
Первичные источники
При изучении истории как академической дисциплины первичным источником (также называемым первоисточником или свидетельством) является артефакт, документ, дневник, рукопись, автобиография, запись или другой источник информации, созданный в исследуемое время.Он служит первоисточником информации по теме. Первичные источники отличаются от вторичных источников, которые цитируют, комментируют или основываются на первичных источниках. В некоторых случаях вторичный источник также может быть первичным, в зависимости от того, как он используется. Например, мемуары будут считаться первичным источником в исследованиях, касающихся его автора или его или ее друзей, охарактеризованных в нем, но те же мемуары будут вторичным источником, если они будут использоваться для изучения культуры, в которой жил его автор.«Первичный» и «вторичный» следует понимать как относительные термины, при этом источники классифицируются в соответствии с конкретными историческими контекстами и тем, что изучается.
Использование первичных источников: исторический метод
История как академическая дисциплина основана на первоисточниках, оцененных сообществом ученых, для которых первоисточники абсолютно необходимы для реконструкции прошлого. В идеале историк будет использовать столько первоисточников, которые были созданы людьми, участвовавшими в исследовании в то время, сколько может быть доступно.Однако на практике одни источники были уничтожены, а другие недоступны для исследования. В некоторых случаях единственными свидетельствами очевидцев события могут быть воспоминания, автобиографии или устные интервью, взятые спустя годы. Иногда единственное свидетельство, относящееся к событию или человеку в далеком прошлом, было записано или скопировано десятилетиями или столетиями позже. Рукописи, являющиеся источниками классических текстов, могут быть копиями или фрагментами документов. Это обычная проблема в классических исследованиях, где иногда сохранилось только краткое изложение книги или письма, но не сама книга или письмо.Хотя некоторые источники считаются более надежными или заслуживающими доверия, чем другие (например, оригинальный правительственный документ, содержащий информацию о событии, по сравнению с записью свидетеля, вспоминающего то же событие годами позже), историки отмечают, что вряд ли какие-либо исторические свидетельства можно рассматривать как полностью объективный, поскольку он всегда является продуктом определенных людей, времен и доминирующих идей. Вот почему исследователи пытаются найти как можно больше записей о расследуемом событии и попытаться найти доказательства, которые могут представлять противоречивые отчеты об одних и тех же событиях.
Эта настенная роспись (известная как «Портрет Пакия Прокуло» и в настоящее время хранящаяся в Национальном археологическом музее Неаполя) была найдена в римском городе Помпеи и служит сложным образцом первоисточника.
Эта фреска мало что скажет историкам без соответствующих текстовых и археологических свидетельств, помогающих установить, кем могла быть изображенная пара. Мужчина носит тогу, знак римского гражданина, и держит ротулус, что говорит о том, что он вовлечен в общественные и / или культурные дела.Женщина держит в руках стилус и восковую табличку, подчеркивая, что она образованна и грамотна. Основываясь на физических характеристиках пары, есть подозрение, что они являются самнитами, что может объяснить их желание продемонстрировать статус, которого они достигли в римском обществе.
Исторический метод включает в себя методы и руководящие принципы, с помощью которых историки используют первоисточники и другие свидетельства (включая свидетельства археологии) для исследования и написания исторических отчетов о прошлом. Историки продолжают спорить, какие аспекты и методы исследования первоисточников следует учитывать и что составляет первоисточник при разработке наиболее эффективного исторического метода.Вопрос о природе и даже возможности надежного исторического метода настолько важен, что постоянно поднимался в философии истории как вопрос эпистемологии.
Поиск первоисточников
Первичные источники могут оставаться в частных руках или находиться в архивах, библиотеках, музеях, исторических обществах и специальных коллекциях. Они могут быть общедоступными или частными. Некоторые из них связаны с университетами и колледжами, а другие являются государственными учреждениями.Материалы, относящиеся к одной области, могут быть распределены по большому количеству различных учреждений. Они могут быть далеко от исходного источника документа. Например, в библиотеке Хантингтона в Калифорнии хранится большое количество документов из Соединенного Королевства. В то время как развитие технологий привело к увеличению числа оцифрованных источников, большинство первичных исходных материалов не оцифрованы и могут быть представлены в Интернете только с записью или вспомогательным средством поиска.
Традиционно историки пытаются ответить на исторические вопросы, изучая письменные документы и устные отчеты.Они также используют такие источники, как памятники, надписи и изображения. В целом источники исторического знания можно разделить на три категории: то, что написано, что сказано, и что физически сохраняется. Историки часто обращаются ко всем трем. Однако письмо — это маркер, отделяющий историю от того, что было до
.Археология — дисциплина, которая особенно полезна историкам. Работая с захоронениями и предметами, он способствует реконструкции прошлого.Однако археология состоит из ряда методологий и подходов, независимых от истории. Другими словами, археология не «заполняет пробелы» в текстовых источниках, но часто противопоставляет свои выводы выводам современных текстовых источников.
Археология также дает наглядный пример того, как историкам можно помочь, когда письменные записи отсутствуют. Извлечение артефактов и работа с археологами над их интерпретацией на основе опыта конкретной исторической эпохи и культурного или географического района — один из эффективных способов восстановления прошлого.Если письменные записи отсутствуют, историки часто пытаются собрать устные отчеты о конкретных событиях, предпочтительно от очевидцев, но иногда, с течением времени, они вынуждены работать со следующими поколениями. Таким образом, широко обсуждается вопрос о достоверности устной истории.
При работе со многими правительственными документами историкам обычно приходится ждать в течение определенного периода времени, прежде чем документы будут рассекречены и доступны исследователям. По политическим причинам многие конфиденциальные записи могут быть уничтожены, изъяты из коллекций или спрятаны, что также может побудить исследователей полагаться на устные истории.Отсутствие записей о событиях или процессах, которые, по мнению историков, имели место на основе очень отрывочных свидетельств, вынуждает историков искать информацию в записях, которые могут не быть вероятными источниками информации. Поскольку архивные исследования
всегда отнимают много времени и трудозатрат, такой подход создает риск никогда не дать желаемых результатов, несмотря на время и усилия, вложенные в поиск информативных и надежных ресурсов. В некоторых случаях историки вынуждены строить предположения (это следует четко отметить) или просто признавать, что у нас нет достаточной информации для реконструкции конкретных прошлых событий или процессов.
Историческое смещение
Предубеждения были частью исторического исследования с давних времен зарождения этой дисциплины. В то время как более современные научные практики пытаются устранить прежние предубеждения из истории, ни одна историческая наука не может быть полностью свободна от предубеждений.
Цели обучения
Укажите несколько примеров исторической предвзятости
Основные выводы
Ключевые моменты
- Независимо от того, сознательны ли они или неявно усвоены в культурном контексте, предубеждения были частью исторического исследования с древних зародышей этой дисциплины.Таким образом, история является прекрасным примером того, как предубеждения меняются, развиваются и даже исчезают.
- Ранние попытки сделать историю эмпирической, объективной дисциплиной (в первую очередь Вольтера) не нашли много последователей. На протяжении XVIII и XIX веков европейские историки только усиливали свои предубеждения. По мере того как Европа постепенно доминировала в мире благодаря добровольной миссии по колонизации почти всех других континентов, евроцентризм преобладал в истории.
- Даже с евроцентрической точки зрения не все европейцы были равны; Западные историки в значительной степени игнорировали такие аспекты истории, как класс, пол или этническая принадлежность.До бурного развития социальной истории в 1960-х и 1970-х годах основные западные исторические нарративы были сосредоточены на политической и военной истории, в то время как культурная или социальная история писалась в основном с точки зрения элит.
- Предвзятый подход к написанию истории перенесен и на преподавание истории. Начиная с истоков национальных систем массового школьного образования в 19 веке, преподавание истории для поощрения национальных чувств было одним из главных приоритетов. Учебники истории в большинстве стран были инструментами для развития национализма и патриотизма, а также для продвижения наиболее благоприятной версии национальной истории.
- Германия пытается быть примером того, как убрать националистические нарративы из исторического образования. Учебная программа по истории в Германии характеризуется транснациональной перспективой, которая подчеркивает общеевропейское наследие, сводит к минимуму идею национальной гордости и поддерживает понятие гражданского общества, в основе которого лежат демократия, права человека и мир.
- Несмотря на прогресс и повышенное внимание к группам, которые традиционно исключались из основных исторических повествований (цветные люди, женщины, рабочий класс, бедные, инвалиды, люди, отождествляемые с ЛГБТКИ и т. Д.)), предвзятость остается составной частью исторического исследования.
Ключевые термины
- Евроцентризм : практика взгляда на мир с европейской или в целом западной точки зрения с подразумеваемой верой в превосходство западной культуры. Его также можно использовать для описания взгляда, сосредоточенного на истории или величии белых людей. Этот термин был придуман в 1980-х годах для обозначения понятия европейской исключительности и других западных эквивалентов, таких как американская исключительность.
Уклон в исторической литературе
Предвзятость — это склонность или мировоззрение представлять или придерживаться частичной точки зрения, часто сопровождающееся отказом учитывать возможные достоинства альтернативных точек зрения. Независимо от того, являются ли они сознательными или неявно усвоенными в культурном контексте, предубеждения были частью исторических исследований с древних зародышей этой дисциплины. Таким образом, история является прекрасным примером того, как предубеждения меняются, развиваются и даже исчезают.
История как современная академическая дисциплина, основанная на эмпирических методах (в данном случае на изучении первоисточников с целью реконструкции прошлого на основе имеющихся свидетельств), приобрела известность в эпоху Просвещения. Считается, что Вольтер, французский писатель и мыслитель, разработал свежий взгляд на историю, который порвал с традицией рассказывать о дипломатических и военных событиях и сделал упор на обычаи, социальную историю (историю простых людей) и достижения в области искусства и науки.Его Очерк обычаев прослеживает прогресс мировой цивилизации в универсальном контексте, тем самым отвергая как национализм, так и традиционную христианскую систему координат. Вольтер был также первым ученым, сделавшим серьезную попытку написать историю мира, устранив теологические рамки и сделав упор на экономике, культуре и политической истории. Он был первым, кто подчеркнул долг средневековой культуры перед цивилизацией Ближнего Востока. Хотя он неоднократно предупреждал о политической предвзятости со стороны историка, он не упускал многих возможностей разоблачить нетерпимость и обман католической церкви на протяжении веков — тема, которая была предметом интеллектуального интереса Вольтера на протяжении всей его жизни.
Ранние попытки Вольтера сделать историю эмпирической, объективной дисциплиной не нашли много последователей. На протяжении XVIII и XIX веков европейские историки только усиливали свои предубеждения. По мере того как Европа постепенно извлекала выгоду из продолжающегося научного прогресса и доминировала в мире в добровольной миссии по колонизации почти всех других континентов, в истории преобладал евроцентризм. Практика рассмотрения и представления мира с европейской или в целом западной точки зрения с подразумеваемой верой в превосходство западной культуры доминировала среди европейских историков, которые противопоставляли прогрессивно механизированный характер европейской культуры традиционным обществам охоты, земледелия и скотоводства. во многих недавно завоеванных и колонизированных районах мира.К ним относятся Америка, Азия, Африка, а затем Тихий океан и Австралазия. Многие европейские писатели того времени истолковывали историю Европы как парадигму для остального мира. Другие культуры были идентифицированы как достигшие стадии, которую сама Европа уже прошла: примитивные охотники-собиратели, земледелие, ранняя цивилизация, феодализм и современный либеральный капитализм. Считалось, что только Европа достигла последнего этапа. Исходя из этого предположения, европейцы также были представлены как превосходные в расовом отношении, и европейская история как дисциплина стала, по сути, историей господства белых народов.
Однако даже с евроцентрической точки зрения не все европейцы были равны; Западные историки в значительной степени игнорировали такие аспекты истории, как класс, пол или этническая принадлежность. До относительно недавнего времени (особенно быстрого развития социальной истории в 1960-х и 1970-х годах) основные западные исторические нарративы были сосредоточены на политической и военной истории, в то время как культурная или социальная история писалась в основном с точки зрения элит. Следовательно, то, что на самом деле было опытом немногих избранных (обычно белых мужчин из высших классов, с некоторыми случайными упоминаниями их коллег-женщин), обычно представлялось как иллюстративный опыт всего общества.В Соединенных Штатах одними из первых нарушили этот подход афроамериканские ученые, которые на рубеже 20-го века писали истории чернокожих американцев и призывали к их включению в основное историческое повествование.
Титульный лист к «Истории мира историков»: Всеобъемлющее повествование о возникновении и развитии наций, записанное более чем двумя тысячами великих писателей всех возрастов, 1907 год.
The Historians ’History of the World — это 25-томная энциклопедия мировой истории, первоначально изданная на английском языке в начале 20 века.Он довольно обширен, но его перспектива полностью западно-евроцентричная. Например, в то время как четыре тома посвящены истории Англии (в один из которых включены Шотландия и Ирландия), «Польша, Балканы, Турция, второстепенные восточные государства, Китай, Япония» все описаны в одном томе. Он был составлен Генри Смитом Уильямсом, врачом и автором, а также другими авторитетными историками и опубликован в Нью-Йорке в 1902 году Encyclopædia Britannica и Outlook Company.
Уклон в преподавании истории
Пристрастный подход к историописанию присутствует и в преподавании истории.Начиная с истоков национальных систем массового школьного образования в 19 веке, преподавание истории для поощрения национальных чувств было одним из главных приоритетов. До сегодняшнего дня в большинстве стран учебники истории служат средством воспитания национализма и патриотизма и пропаганды наиболее благоприятной версии национальной истории. В Соединенных Штатах одним из наиболее ярких примеров такого подхода является непрерывное повествование о Соединенных Штатах как о государстве, основанном на принципах личной свободы и демократии.Хотя аспекты истории США, такие как рабство, геноцид американских индейцев или лишение избирательных прав широких слоев общества в течение десятилетий после возникновения американской государственности, теперь преподаются в большинстве (но не во всех) американских школах, они представлены как маргинальное в более широком нарративе свободы и демократии.
Во многих странах учебники истории спонсируются национальным правительством и написаны таким образом, чтобы представить национальное наследие в наиболее благоприятном свете, хотя академические историки часто борются против политизации учебников, иногда с успехом.Интересно, что Германия 21-го века пытается быть примером того, как убрать националистические нарративы из исторического образования. Поскольку история Германии 20-го века наполнена событиями и процессами, которые редко являются причиной национальной гордости, учебная программа по истории в Германии (контролируемая 16 немецкими государствами) характеризуется транснациональной перспективой, которая подчеркивает общеевропейское наследие. сводит к минимуму идею национальной гордости и поддерживает представление о гражданском обществе, основанном на демократии, правах человека и мире.Тем не менее, даже в довольно необычном случае с Германией евроцентризм продолжает доминировать.
Проблема замены национальных или даже националистических взглядов на более инклюзивный транснациональный или глобальный взгляд на историю человечества также все еще присутствует в учебных программах по истории на уровне колледжей. В Соединенных Штатах после Первой мировой войны на университетском уровне возникло сильное движение по преподаванию курсов по западной цивилизации с целью дать студентам общее наследие с Европой. После 1980 года все больше внимания уделялось преподаванию всемирной истории или требованию от студентов проходить курсы, посвященные незападным культурам.Тем не менее, курсы всемирной истории все еще пытаются выйти за рамки евроцентрической точки зрения, уделяя большое внимание истории Европы и ее связям с Соединенными Штатами.
Несмотря на весь прогресс и гораздо больший упор на группы, которые традиционно исключались из основных исторических повествований (цветные люди, женщины, рабочий класс, бедные, инвалиды, люди, отождествляемые с ЛГБТКИ и т. Д.), Предвзятость остается компонент исторического исследования, будь то продукт национализма, политических взглядов автора или интерпретации источников, основанной на повестке дня.Уместно только констатировать, что настоящая книга по всемирной истории, хотя и написана в соответствии с новейшими научными и образовательными практиками, была написана и отредактирована авторами, прошедшими обучение в американских университетах и опубликованными в Соединенных Штатах. Таким образом, он также не свободен как от национальных (США), так и от индивидуальных (авторов) предубеждений.
Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка
WashingtonPost.com: Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядкаПерейти к разделу первой главы Перейти к Book World’s Review Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка
Сэмюэл П.Хантингтон
Глава первая: Новая эра в мировой политике
3 января 1992 г. состоялась встреча российских и американских ученых. место в актовом зале правительственного здания в Москве. Два неделями ранее Советский Союз прекратил свое существование, а российский Федерация стала независимой страной. В результате статуя Ленина, ранее украшавшего сцену зрительного зала, исчез и вместо него был установлен флаг Российской Федерации. теперь отображается на передней стене.Единственная проблема, один американец заметил, что флаг был подвешен вверх дном. После этого было указано российским хозяевам, они быстро и незаметно исправил ошибку в первом антракте.
Годы после холодной войны стали свидетелями начала драматических изменений в жизни людей. идентичности и символы этих идентичностей. Мировая политика начала перестраиваться культурные линии. Перевернутые флаги были знаком перехода, но все больше и больше флагов летят высоко и правдиво, а русские и другие народы мобилизуются и идут позади эти и другие символы их новой культурной самобытности.
18 апреля 1994 года две тысячи человек вышли на митинг в Сараево, размахивая флагами Саудовской Аравии. Аравия и Турция. Размахивая этими знаменами вместо флагов ООН, НАТО или Америки, эти сараевцы идентифицировали себя со своими собратьями-мусульманами и рассказали миру, кто были их настоящими и не совсем настоящими друзьями.
16 октября 1994 г. в Лос-Анджелесе 70 000 человек прошли маршем под «морем мексиканского моря». флаги », протестуя против Предложения 187, меры референдума, которая отрицает многие государственные льготы для нелегальных иммигрантов и их детей.Почему они «идут по улице с мексиканский флаг и требуя, чтобы это дать им бесплатное образование? — спросили наблюдатели. Американский флаг «. Две недели спустя по улице маршировали еще защитники, неся американский флаг — перевернутый. Эти флажки обеспечили победу предложения 187, которую одобрили 59 процентов избирателей Калифорнии.
В мире после окончания холодной войны учитываются флаги, равно как и другие символы культурного наследия. идентичность, включая кресты, полумесяцы и даже головные уборы, потому что культура имеет значение, а культурная самобытность — это то, что наиболее важно для большинства людей.Люди обнаружение новых, но часто старых идентичностей и марш под новыми, но часто старыми флагами которые приводят к войнам с новыми, но часто старыми врагами.
Одно мрачное мировоззрение этой новой эпохи хорошо выразили венецианцы. националистический демагог в романе Майкла Дибдина «Мертвая лагуна»: «Истины быть не может. друзья без настоящих врагов. Если мы не ненавидим то, чем мы не являемся, мы не можем любить то, что мы находятся. Это старые истины, которые мы с болью открываем заново спустя столетие с лишним. сентиментальный косяк.Те, кто отрицают их, отрицают свою семью, свое наследие, свою культуру, их первородство, их самих! Им нелегко простить «. Несчастные Истина в этих старых истинах не может игнорироваться государственными деятелями и учеными. Для народов в поисках идентичности и переосмыслении этнической принадлежности враги необходимы, а потенциально самые опасные вражды происходят по линиям разлома между крупнейшими мировыми цивилизации.
Центральная тема этой книги — культура и культурная самобытность, которые на самом широком уровне — цивилизационные идентичности, формирующие модели сплоченности, распад и конфликт в мире после холодной войны.Пять частей этой книги подробные следствия этого основного предложения.
Часть I. Впервые в истории глобальная политика является одновременно многополярной и многоцивилизационный; модернизация отличается от вестернизации и производит ни универсальная цивилизация в каком-либо значимом смысле, ни вестернизация незападные общества.
Часть II: Баланс сил между цивилизациями меняется: Запад приходит в упадок в относительном влиянии; Азиатские цивилизации расширяют свои экономические, военные и политическая сила; Демографический взрыв ислама с дестабилизирующими последствиями для мусульманских стран и их соседей; и незападные цивилизации обычно подтверждая ценность своей культуры.
Часть III. Формируется цивилизационный мировой порядок: общества, разделяющие культурные ценности. родства взаимодействуют друг с другом; усилия по переходу общества от одной цивилизации к другие неудачны; и страны группируются вокруг лидера или ядра состояния их цивилизации.
Часть IV: Универсалистские претензии Запада все больше и больше приводят его к конфликту с другие цивилизации, наиболее серьезно относящиеся к исламу и Китаю; на линии разлома местного уровня войны, в основном между мусульманами и немусульманами, порождают «сплочение родственных стран», угроза более широкой эскалации и, следовательно, усилия основных государств по прекращению этих войн.
Часть V: Выживание Запада зависит от подтверждения американцами своей западной идентичность и западные люди, принимающие свою цивилизацию как уникальную, а не универсальный и объединяющий, чтобы обновить и сохранить его от вызовов со стороны незападных общества. Избежание глобальной войны цивилизаций зависит от принятия мировыми лидерами и сотрудничество для поддержания многоцивилизационного характера глобальной политики.
Многополярный, многоцивилизационный мир
В мире после холодной войны впервые в истории глобальная политика стала многополярный и многоцивилизационный.На протяжении большей части человеческого существования контакты между цивилизации были прерывистыми или отсутствовали. Затем, с началом современной эпохи, Примерно в 1500 году нашей эры глобальная политика приобрела два измерения. Более четырехсот лет национальные государства Запада — Великобритания, Франция, Испания, Австрия, Пруссия, Германия, Соединенные Штаты и другие — составляли многополярную международную систему в рамках западной цивилизации и взаимодействовали, соревновались и вели войны друг с другом. В то же время, Западные страны также расширились, завоевали, колонизировали или оказали решающее влияние на все другая цивилизация (карта 1.1). Во время холодной войны глобальная политика стала биполярной, и мир был разделен на три части. Группа преимущественно богатых и демократических обществ, во главе с Соединенными Штатами, занимался всеобъемлющей идеологической, политической, экономической, а иногда и военное соревнование с группой более бедных коммунистических обществ. связанные с Советским Союзом и возглавляемые им. Большая часть этого конфликта произошла в Третьей В мире за пределами этих двух лагерей, состоящем из стран, которые часто были бедными, не хватало политической стабильности, недавно были независимыми и заявили о своей неприсоединенности (карта 1.2).
В конце 80-х коммунистический мир рухнул, и холодная война стала международной. система вошла в историю. В мире после холодной войны самые важные различия у народов не идеологические, политические или экономические. Они культурны. Народы и нации пытаются ответить на самый простой вопрос, с которым могут столкнуться люди: кто мы? И они отвечают на этот вопрос традиционным образом. ответил на него, ссылаясь на то, что для них больше всего значит.Люди определяют себя с точки зрения происхождения, религии, языка, истории, ценностей, обычаев и институтов. Они отождествлять себя с культурными группами: племенами, этническими группами, религиозными общинами, нациями и, на самом широком уровне — цивилизации. Люди используют политику не только для продвижения своих интересов но и определить их личность. Мы знаем, кто мы есть, только когда знаем, кто мы нет, и часто только тогда, когда мы знаем, против кого мы.
Национальные государства остаются главными действующими лицами в мировых делах.Их поведение выглядит как в прошлом в погоне за властью и богатством, но это также формируется культурными предпочтения, сходства и различия. Наиболее важные группы государств: уже не три блока холодной войны, а семь или восемь основных мировых цивилизации (карта 1.3). Незападные общества, особенно в Восточной Азии, развиваются их экономическое богатство и создание основы для усиления военной мощи и политической влияние. По мере роста их власти и уверенности в себе незападные общества все больше отстаивают свои владеть культурными ценностями и отвергать «навязанные» им Западом.В «Международная система двадцать первого века, — отмечал Генри Киссинджер» … содержат как минимум шесть крупных держав — США, Европу, Китай, Японию. Россия и вероятно, Индия, а также множество средних и малых стран ». Шесть основных сил Киссинджера принадлежат к пяти очень разным цивилизациям, и, кроме того, есть важные исламские государства, чье стратегическое положение, большая численность населения и / или нефтяные ресурсы делают их влиятельными в мировых делах. В этом новом мире местная политика политика этничности; глобальная политика — это политика цивилизаций.Соперничество на смену сверхдержавам приходит столкновение цивилизаций.
В этом новом мире не будет самых серьезных, серьезных и опасных конфликтов. между социальными классами, богатыми и бедными или другими экономически определенными группами, но между народами, принадлежащими к разным культурным образованиям. Племенные войны и этнические конфликты будут происходить внутри цивилизаций. Насилие между государствами и группами из разные цивилизации, однако, несут с собой потенциал эскалации, как и другие государства и группы этих цивилизаций объединяются для поддержки своих «родственников». страны.<< Кровавое столкновение кланов в Сомали не представляет угрозы более широкого конфликта. Кровавое столкновение племен в Руанде имеет последствия для Уганды, Заира и Бурунди, но не намного. Кровавые столкновения цивилизаций в Боснии, Кавказ, Средняя Азия или Кашмир могут стать более серьезными войнами. В югославской конфликты, Россия оказывала дипломатическую поддержку сербам, а Саудовская Аравия, Турция, Иран и Ливия предоставили боснийцам средства и оружие не из идеологических соображений. или силовая политика, или экономический интерес, но из-за культурного родства."Культурный конфликты, - заметил Вацлав Гавел, - усиливаются и сегодня становятся более опасными. чем когда-либо в истории ", и Жак Делор согласился, что" будущие конфликты будут вызваны культурными факторами, а не экономикой или идеологией ". опасные культурные конфликты - это конфликты на линиях разлома между цивилизациями.
В мире после холодной войны культура является одновременно разделяющей и объединяющей силой. Люди разделенные идеологией, но объединенные культурой, объединились, как это сделали две Германии и как две Кореи и несколько Китая начинают.Общества, объединенные идеология или исторические обстоятельства, но разделенные цивилизацией, либо распались, как и Советский Союз, Югославию и Боснию, или подвергаются сильному напряжению, как и случай с Украиной, Нигерией, Суданом, Индией, Шри-Ланкой и многими другими. Страны с культурное родство взаимодействует экономически и политически. Международные организации основанные на государствах с культурной общностью, таких как Европейский Союз, гораздо больше успешнее тех, кто пытается выйти за пределы культур.Сорок пять лет железо Занавес был центральной разделительной линией в Европе. Эта линия переместилась на несколько сотен миль к востоку. Теперь это грань, разделяющая народы западного христианства на одном с другой стороны, от мусульманских и православных народов.
Философские предположения, основные ценности, социальные отношения, обычаи и общие взгляды на жизнь значительно различаются между цивилизациями. Возрождение религия во многих странах мира усиливает эти культурные различия.Культуры могут меняться, и характер их влияния на политику и экономика может меняться от одного периода к другому. Однако основные различия в политических и экономическое развитие между цивилизациями явно коренится в их разных культур. Источником экономического успеха Восточной Азии является культура Восточной Азии, как и трудности, с которыми столкнулись восточноазиатские общества в достижении стабильной демократической политические системы. Исламская культура во многом объясняет неспособность демократии появляются в большей части мусульманского мира.Развитие посткоммунистических обществ Восточной Европы и бывшего Советского Союза сформированы их цивилизационными идентичности. Те, у кого есть западное христианское наследие, делают успехи в экономическое развитие и демократическая политика; перспективы экономических и политическое развитие в православных странах неопределенно; перспективы в Мусульманские республики мрачны.
Запад есть и останется самой могущественной цивилизацией на долгие годы. Еще его сила по сравнению с другими цивилизациями уменьшается.Поскольку Запад пытается отстаивать свои ценности и защищать свои интересы, незападные общества противостоят выбор. Некоторые пытаются подражать Западу и присоединиться к Запад. Другие конфуцианские и исламские общества пытаются расширить собственное экономическое развитие. и военная сила, чтобы противостоять Западу и «уравновешивать» его. Центральная ось Таким образом, мировая политика после холодной войны — это взаимодействие западной силы и культуры. с мощью и культурой незападных цивилизаций.
В общем, мир после холодной войны — это мир семи или восьми основных цивилизаций.Культурные общности и различия формируют интересы, антагонизмы и ассоциации государств. Самые важные страны мира приходят в подавляющем большинстве случаев из разных цивилизаций. Локальные конфликты наиболее вероятны перерастают в более широкие войны между группами и государствами из разных цивилизации. Преобладающие модели политического и экономического развития различаются от цивилизации к цивилизации. К ключевым вопросам международной повестки дня относятся: различия между цивилизациями.Власть переходит с давно доминирующего Запада незападным цивилизациям. Глобальная политика стала многополярной и многоцивилизационный.
Другие миры?
Карты и парадигмы. Эта картина мировой политики после холодной войны, сформированная культурные факторы и взаимодействие между государствами и группами из разных цивилизации сильно упрощены. Он многое пропускает, кое-что искажает и затемняет других. Тем не менее, если мы должны серьезно думать о мире и действовать эффективно в нем какая-то упрощенная карта реальности, какая-то теория, концепция, модель, парадигма, является необходимым.Без таких интеллектуальных построений, как сказал Уильям Джеймс, не существует только «цветущее жужжание смятения». Интеллектуальный и научный прогресс, Томас Кун в своей классической книге «Структура научных революций» состоит из смещение одной парадигмы, которая становится все более неспособным объяснить новые или недавно обнаруженные факты, с помощью новой парадигмы, которая учитывает эти факты в более удовлетворительная мода. «Чтобы быть принятым как парадигма, — писал Кун, — теория должно казаться лучше, чем его конкуренты, но в этом нет необходимости, и на самом деле никогда действительно, объясняет все факты, с которыми он может столкнуться.»
«В поисках своего путь через незнакомую местность », — мудро заметил Джон Льюис Гэддис, «обычно требуется какая-то карта. Картография, как и само познание, необходимое упрощение, которое позволяет нам видеть, где мы находимся, а где мы можем идти «. Образ холодной войны конкуренции сверхдержав был, как он указывает на такую модель, впервые сформулированную Гарри Трумэном, как » упражнение в геополитической картографии, изображающее международный ландшафт в терминах, понятных каждому, и тем самым подготовил почву для изощренная стратегия сдерживания, которая должна была последовать вскоре.»Мировые взгляды а причинные теории — незаменимые проводники в международной политике.
На протяжении сорока лет студенты и практики международных отношений думали и действовал в рамках очень упрощенной, но очень полезной холодной войны парадигма мировых дел. Эта парадигма не могла объяснить все что происходило в мировой политике. Было много аномалий, если использовать Куна. термин, а иногда парадигма ослепляла ученых и государственных деятелей события, такие как китайско-советский раскол.Но как простая модель глобального политики, он объяснял более важные явления, чем любой из его соперников, он была важной отправной точкой для размышлений о международных делах, она пришла быть принятым почти повсеместно, и это сформировало мышление о мировой политике для двух поколений.
Упрощенные парадигмы или карты необходимы для человеческого мышления и действие. С одной стороны, мы можем явно сформулировать теории или модели и сознательно используйте их, чтобы направлять свое поведение. В качестве альтернативы мы можем отрицать потребность в таких руководствах и предполагаем, что мы будем действовать только с точки зрения конкретных «объективные» факты, касающиеся каждого дела «по существу».»Если мы предположим это, однако мы обманываем себя. Потому что в глубине души скрыты предположения, предубеждения и предрассудки, определяющие то, как мы воспринимаем реальность, на какие факты мы смотрим и как оцениваем их важность и достоинства. Мы нужны явные или неявные модели, чтобы иметь возможность:
1. упорядочить и обобщить реальность;
2. понимать причинно-следственные связи между явлениями;
3. предвидеть и, если повезет, предсказывать будущее развитие;
4.отличать важное от неважного; а также
5. Покажите нам, какими путями мы должны следовать для достижения наших целей.
Каждая модель или карта — это абстракция, и они будут более полезны для некоторых. целей, чем для других. Дорожная карта показывает нам, как ехать из пункта А в пункт Б. но это будет не очень полезно, если мы пилотируем самолет, и в этом случае мы будем нужна карта с указанием аэродромов, радиомаяков, траекторий полета и топография. Однако без карты мы потеряемся. Более подробно карта тем более полно будет отражать реальность.Однако чрезвычайно подробная карта многим не пригодится. целей. Если мы хотим добраться из одного большого города в другой по большой автомагистрали, мы не нужны и могут сбивать с толку карту, содержащую много информации не связан с автомобильным транспортом и в котором основные автомагистрали теряются в сложная масса второстепенных дорог. С другой стороны, карта, на которой был только один скоростная автомагистраль уничтожит большую часть реальности и ограничит нашу способность находить альтернативу маршруты, если скоростная автомагистраль была заблокирована из-за крупной аварии.Короче нам нужна карта который одновременно изображает реальность и упрощает ее таким образом, чтобы наилучшим образом служить нашим целей. Несколько карт или парадигм мировой политики были выдвинуты в конце холодная война.
Единый мир: эйфория и гармония. Одна широко сформулированная парадигма была основана исходя из предположения, что окончание холодной войны означало конец значительного конфликта в глобальной политике и возникновении единого относительно гармоничного мира. Большинство широко обсуждаемая формулировка этой модели была тезисом «конца истории». выдвинутый Фрэнсисом Фукуямой.«Мы можем быть свидетелями», — возражал Фукуяма, — «… конец истории как таковой: то есть конечная точка идеологической эволюции человечества и универсализация западной либеральной демократии как окончательной формы человеческого правительство «. Конечно, сказал он, некоторые конфликты могут произойти в местах третьего Мировой, но глобальный конфликт закончился, и не только в Европе. «Именно в неевропейский мир », что произошли большие изменения, особенно в Китае и Советский Союз. Война идей окончена.Верующие в марксизм-ленинизм могут до сих пор существуют «в таких местах, как Манагуа, Пхеньян и Кембридж, Массачусетс», но общая либеральная демократия восторжествовала. Будущее будет посвящено не великим волнующая борьба за идеи, а за разрешение мирских экономических и технические проблемы. И, довольно грустно заключил он, все это будет довольно скучно.
Многие разделяли надежду на гармонию. Политические и интеллектуальные лидеры разработал аналогичные взгляды. Берлинская стена пала, коммунистические режимы рухнула, Организация Объединенных Наций должна была обрести новое значение, прежнее значение холодной Противники войны будут участвовать в «партнерстве» и «большой сделке», поддержании мира и миротворчество было бы в порядке вещей.Президент ведущей мировой страна провозгласила «новый мировой порядок»; президент, возможно, всего мира ведущий университет наложил вето на назначение профессора исследований в области безопасности, потому что необходимость исчезла: «Аллилуйя! Мы больше не изучаем войну, потому что войны нет более.»
Момент эйфории в конце холодной войны породил иллюзию гармония, которая вскоре оказалась именно такой. Мир стал другим в начало 1990-х, но не обязательно более мирное.Изменения были неизбежны; прогресс не было. Подобные иллюзии гармонии кратко расцвели в конец каждого из других крупных конфликтов двадцатого века. Первая мировая война была «война, чтобы положить конец войнам» и сделать мир безопасным для демократии. Вторая мировая война, как Франклин Рузвельт заявил, что «положит конец системе односторонних действий, исключительной альянсов, баланса сил и всех других приемов, которые пытались найти столетий — и всегда терпели неудачу ». Вместо этого у нас будет« универсальная организация ». «миролюбивых наций» и начала «постоянной структуры мира».» Однако Первая мировая война породила коммунизм, фашизм и обратную вековая тенденция к демократии. Вторая мировая война породила холодную войну, которая была действительно глобальный. Иллюзия гармонии в конце той холодной войны вскоре исчезла. рассеяны размножением этнических конфликтов и «этнической чистки», нарушение закона и порядка, появление новых моделей союзов и конфликтов среди государств возрождение неокоммунистических и неофашистских движений, усиление религиозного фундаментализма, конец «дипломатии улыбок» и «политика да» в отношениях России с Западом, неспособность США Наций и США, чтобы подавить кровавые локальные конфликты и нарастающие напористость восходящего Китая.За пять лет после падения Берлинской стены Слово «геноцид» звучало гораздо чаще, чем за любые пять лет холодной войны. Парадигма единого гармоничного мира явно слишком оторвана от реальности, чтобы быть полезный путеводитель по миру после холодной войны.
Два мира: мы и они. В то время как ожидания единого мира появляются в конце серьезные конфликты, тенденция мыслить двумя мирами повторяется повсюду человеческая история. Люди всегда испытывают искушение разделить людей на нас и их, в группе и другие, наша цивилизация и эти варвары.Ученые проанализировал мир с точки зрения Востока и Запада, Севера и Юга, в центре и периферия. Мусульмане традиционно делили мир на Дар аль-Ислам и Дар аль-Харб, обитель мира и обитель войны. Это различие было отраженный и в некотором смысле перевернутый в конце холодной войны американскими учеными кто разделил мир на «зоны мира» и «зоны беспорядков». Первый включая Запад и Японию, где проживает около 15 процентов населения мира, последние все остальные.
В зависимости от того, как определены части, двухчастная картина мира может в некоторых мера соответствует действительности. Наиболее распространенное деление, которое отображается под различные названия, находится между богатыми (современными, развитыми) странами и бедными (традиционными, неразвитые или развивающиеся) страны. Исторически коррелируя с этим экономическим деление — это культурное разделение между Западом и Востоком, где акцент меньше о различиях в экономическом благосостоянии и многое другое о различиях в основных философия, ценности и образ жизни.Каждое из этих изображений отражает некоторые элементы реальности, но также страдает ограничениями. Богатые современные страны имеют общие характеристики что отличает их от бедных традиционных стран, которые также разделяют характеристики. Различия в богатстве могут привести к конфликтам между обществами, но данные свидетельствуют о том, что это происходит прежде всего, когда богатые и более могущественные общества пытаются завоевать и колонизировать бедные и более традиционные общества. Запад сделал это за четыреста лет, а затем некоторые из колоний восстали и вели освободительные войны против колониальные державы, которые вполне могли потерять волю к империи.В нынешнем мире произошла деколонизация, и колониальные освободительные войны были заменены конфликты между освобожденными народами.
На более общем уровне конфликты между богатыми и бедными маловероятны, потому что: за исключением особых обстоятельств, бедным странам не хватает политического единства, экономическая мощь и военная способность бросить вызов богатым странам. Экономическая развитие в Азии и Латинской Америке размывает простую дихотомию имущих и неимущие. Богатые государства могут вести торговые войны друг с другом; бедные государства могут вести жестокие войны друг с другом; но международная классовая война между бедными Юг и богатый Север почти так же далеки от реальности, как один счастливый гармоничный Мир.
Культурное раздвоение мира еще менее полезно. На каком-то уровне Запад — это сущность. Что же общего у незападных обществ? кроме того, что они незападные? Японский, китайский, индуистский, мусульманский, и африканские цивилизации имеют мало общего с точки зрения религии, социальной структуры, институтов, и преобладающие ценности. Единство дихотомии «незапада» и «Восток-Запад» мифы, созданные Западом. Эти мифы страдают недостатками ориентализма, который Эдвард Саид должным образом раскритиковал за пропаганду «разницы между знакомые (Европа, Запад, «мы») и странные (Восток, Восток, «они») «и для предполагая неотъемлемое превосходство первого над вторым.Во время холодной войны мир был в значительной степени поляризован по идеологическому спектру. Однако единого культурного спектра не существует. Поляризация «Востока» и «Запад» в культурном отношении отчасти является еще одним следствием всеобщего, но досадного практика называть европейскую цивилизацию западной цивилизацией. Вместо «Восток и Запад », более уместно говорить о« Западе и остальных », которые, по крайней мере, подразумевает существование многих не-вельтов. Мир слишком сложен, чтобы приносить пользу для большинства целей просто экономически разделены между Севером и Юг или культурно между Востоком и Западом.
184 государства, более или менее. Третья карта мира после холодной войны происходит от то, что часто называют «реалистической» теорией международных отношений. Согласно этому Теоретические государства являются первичными, действительно, единственными важными игроками в мировых делах, отношения между государствами — это отношения анархии, и, следовательно, для обеспечения их выживания и безопасности, государства неизменно пытаются максимизировать свою мощь. Если одно государство видит другое государство, увеличивая свою мощь и тем самым становясь потенциальной угрозой, пытается защищать свою безопасность, укрепляя свою власть и / или вступая в союз с другие государства.Интересы и действия более или менее 184 государств Исходя из этих предположений, можно предсказать мир после окончания холодной войны.
Эта «реалистичная» картина мира — очень полезная отправная точка для анализа международные отношения и многое объясняет поведение государства. Штаты есть и останутся доминирующие субъекты в мировых делах. Они содержат армии, проводят дипломатию, заключать договоры, вести войны, контролировать международные организации, влиять и в значительной мере формируют производство и торговлю.Правительства штатов уделяют первоочередное внимание обеспечению внешней безопасности своих государств (хотя они часто могут уделять больше внимания обеспечению своей безопасности в качестве правительства от внутренних угрозы). В целом эта статистическая парадигма дает более реалистичную картину и руководство к глобальной политике, чем парадигмы одного или двух миров.
Однако он также имеет серьезные ограничения.
Предполагается, что все государства одинаково воспринимают свои интересы и действуют одинаково. способ.Его простое предположение, что сила — это все, является отправной точкой для понимания государственное поведение, но не очень далеко. Государства определяют свои интересы с точки зрения мощность, но и многое другое. Государства, конечно, часто пытаются баланс сил, но если бы это все, что они сделали, страны Западной Европы получили бы объединились с Советским Союзом против США в конце 1940-х годов. состояния реагировать в первую очередь на предполагаемые угрозы, и тогда западноевропейские государства увидели политическая, идеологическая и военная угроза с Востока.Они видели свои интересы в путь, который не был бы предсказан классической реалистической теорией. Ценности, культура, и институты повсеместно влияют на то, как государства определяют свои интересы. В интересы государств также формируются не только их внутренними ценностями и учреждениями, но международными нормами и институтами. Выше и за их пределами первоочередное внимание уделяется безопасности, разные типы государств определяют свои интересы в различные пути. Государства с похожими культурами и институтами увидят общий интерес.Демократические государства имеют общие черты с другими демократическими государствами и, следовательно, имеют не драться друг с другом. Канаде не нужно вступать в союз с другой державой, чтобы сдерживать вторжение США.
На базовом уровне допущения статистической парадигмы были верны. на протяжении всей истории. Таким образом, они не помогают нам понять, как глобальная политика после холодной войны будет отличаться от глобальной политики во время и до холодной войны. Однако очевидно, что существуют различия, и государства преследуют свои интересы иначе, чем один исторический период к другому.В мире после окончания холодной войны государства все чаще определить свои интересы в цивилизационных терминах. Они сотрудничают друг с другом и вступают в союз с государствами с похожей или общей культурой и чаще находятся в конфликте с страны с разной культурой. Государства определяют угрозы с точки зрения намерений других состояний, и эти намерения и то, как они воспринимаются, сильно формируются культурные соображения. Общественность и государственные деятели реже видят возникающие угрозы от людей, которых они понимают и которым могут доверять, благодаря общему языку, религия, ценности, институты и культура.Они гораздо чаще видят угрозы происходящие из государств, чьи общества имеют разные культуры и, следовательно, которые они не понимают и не чувствуют, что им нельзя доверять. Теперь, когда марксистско-ленинский Совет Союз больше не представляет угрозы для свободного мира, и Соединенные Штаты больше не представляет собой противодействие угрозе коммунистическому миру, страны в обоих мирах все больше видеть угрозы, исходящие от культурно различных обществ.
Хотя государства остаются главными игроками в мировых делах, они также несут потери в суверенитет, функции.и мощность. Международные институты теперь отстаивают право судить и ограничивать действия государств на своей территории. В некоторых случаях, особенно в Европа, международные институты взяли на себя важные функции предыдущие !! выполнено государствами, и была создана мощная международная бюрократия, которая непосредственно на отдельных граждан. Во всем мире правительства штатов имеют тенденцию теряют власть также из-за передачи полномочий в подчинение, региональные власти. провинциальные и местные политические сущности.Во многих государствах, в том числе в развитых странах, существуют региональные движения. продвижение существенной автономии или отделения. Правительства штатов в значительной потеряли способность контролировать поток денег в страну и из страны и испытывают все большие трудности с контролем потоков идей, технологий, товаров и людей. Короче говоря, государственные границы становятся все более проницаемыми. Все эти разработки заставили многих увидеть постепенный конец тяжелого состояния «бильярдного шара», которое якобы было нормой со времен Вестфальского мирного договора в 1648 году, и возникновение разнообразных, сложный, многослойный международный порядок, больше напоминающий средневековый.
Чистый хаос. Ослабление государств и появление «несостоявшихся государств» способствуют к четвертому образу мира в анархии. Эта парадигма подчеркивает: распад государственная власть; распад государств; усиление племенных, этнических и религиозный конфликт; появление международной преступной мафии; беженцев, умножающихся на десятки миллионов; распространение ядерного и другого оружия массового уничтожения; распространение терроризма; массовые убийства и этнические чистки.Это изображение мир в хаосе был убедительно изложен и резюмирован в названиях двух проницательные работы, опубликованные в 1993 году: «Из-под контроля» Збигнева Бжезинского и Пандемониум Даниэля Патрика Мойнихана.
Как и парадигма состояний, парадигма хаоса близка к реальности. Он обеспечивает графический и точная картина многого из того, что происходит в мире, и в отличие от государств парадигмы, он подчеркивает значительные изменения в мировой политике, произошедшие с конец холодной войны.Например, на начало 1993 г. насчитывалось 48 этнических войн. происходящих во всем мире, и 164 «территориально-этнических претензиях и конфликтах, касающихся границы «существовали в бывшем Советском Союзе, 30 из которых были задействованы в той или иной форме конфликт. Тем не менее, она страдает даже больше, чем парадигма штатов, будучи слишком близкой к реальности. В мире может быть хаос, но он не лишен порядка. Образ универсального и недифференцированная анархия дает мало ключей к пониманию мира, к упорядочиванию событий и оценки их важности, для прогнозирования тенденций в анархии, для различать типы хаоса и их возможные причины и последствия, а также для разработки руководящих принципов для правительственных политиков.
Сравнение миров: реализм, экономия и предсказания
Каждая из этих четырех парадигм предлагает несколько разную комбинацию реализма и бережливость. У каждого также есть свои недостатки и ограничения. Возможно, это могут быть противодействовать, комбинируя парадигмы и утверждая, например, что мир вовлечены в одновременные процессы фрагментации и интеграции. Обе тенденции действительно существуют, и более сложная модель будет более приближена к реальности, чем попроще.Тем не менее, это приносит в жертву экономию в пользу реализма и, если следовать очень далеко, приводит к отказ от всех парадигм или теорий. Вдобавок, охватывая два одновременных противоположные тенденции, модель фрагментации-интеграции не может определить, обстоятельства, при которых преобладает одна тенденция и при каких обстоятельствах — другая. В Задача состоит в том, чтобы разработать парадигму, которая учитывала бы более важные события и обеспечивала лучшее понимание тенденций, чем другие парадигмы, на аналогичном интеллектуальном уровне абстракция.
Эти четыре парадигмы также несовместимы друг с другом. Мир не может быть оба едины и принципиально разделены между Востоком и Западом или Севером и Югом. Ни может ли национальное государство стать опорой международных отношений, если оно распадается и разрывается путем разрастания междоусобиц. В мире либо одно, либо два, либо 184 государства, либо потенциально почти бесконечное количество племен, этносов и национальностей.
Взгляд на мир с точки зрения семи или восьми цивилизаций позволяет избежать многих из них. трудности.Он не жертвует реальностью ради скупости, как одно- и двухмирный мир. парадигмы; тем не менее, он также не приносит в жертву экономию реальности, как государственность и хаос. парадигмы делают. Он обеспечивает легкую для понимания и понятную основу для понимания мир, отделяя важное от неважного среди умножение конфликтов, прогнозирование будущего развития и предоставление руководящих принципов для политики. Он также основан на других парадигмах и включает в себя их элементы. это более совместимы с ними, чем друг с другом.Цивилизационный подход для Например, утверждает, что:
* Силы интеграции в мире реальны и именно они создают противодействие культурному утверждению и цивилизационному сознанию.
* В некотором смысле мир состоит из двух, но центральное различие между Западом и доминирующая до сих пор цивилизация и все остальные, которые, однако, мало что ничего общего между ними. Короче говоря, мир разделен между западными один и незападное множество.
* Национальные государства были и останутся наиболее важными игроками в мировых делах, но их интересы, ассоциации и конфликты все в большей степени определяются культурными и цивилизационные факторы.
* Мир действительно анархичен, изобилует племенными и национальными конфликтами, но конфликты, представляющие наибольшую опасность для стабильности, — это конфликты между государствами или группами из разных цивилизаций.
Таким образом, цивилизационная парадигма представляет собой относительно простую, но не слишком простую карту для понимание того, что происходит в мире в конце двадцатого века.Нет парадигмы, однако хорошо навсегда. Модель мировой политики времен холодной войны была полезной и актуальной сорок лет, но в конце 1980-х устарели, и в какой-то момент цивилизационные парадигму постигнет та же участь. Однако для современного периода он обеспечивает полезное руководство, позволяющее отличить более важное от менее важного. Чуть менее половины из 48 этнических конфликтов в мире в начале 1993 г. Например, были между группами из разных цивилизаций.Цивилизационная перспектива приведет к тому, что генеральный секретарь ООН и госсекретарь США сосредоточат свои миротворческие усилия по этим конфликтам, которые имеют гораздо больший потенциал, чем другие перерасти в более широкие войны.
Парадигмы также генерируют прогнозы и являются важным тестом на валидность парадигмы и полезность — это степень, в которой прогнозы, сделанные на ее основе, оказываются более точными. точнее, чем у альтернативных парадигм. Статистическая парадигма, например, приводит Джон Миршеймер предсказывает, что «ситуация между Украиной и Россией созрела для разразилась конкуренция в сфере безопасности между ними.Великие державы, которые разделяют долгую и незащищенная общая граница, как между Россией и Украиной, часто переходит в конкуренция, вызванная опасениями по поводу безопасности. Россия и Украина могут преодолеть эту динамику и научатся жить вместе в гармонии, но было бы необычно, если бы они это сделали ». цивилизационный подход, с другой стороны, подчеркивает близость культурного, личностного и исторические связи между Россией и Украиной и смешение русских и Украинцев в обеих странах, и вместо этого сосредотачивается на линии цивилизационного разлома, которая отделяет православную восточную Украину от униатской западной Украины, что является центральным историческим фактом давние, которые в соответствии с «реалистической» концепцией государств как единых и Самоидентифицированные сущности Миршаймер полностью игнорирует.В то время как статистический подход подчеркивает возможность российско-украинской войны, цивилизационный подход минимизирует это и вместо этого подчеркивает возможность разделения Украины пополам, разделения, которое культурно факторы могут привести к предположению, что он может быть более жестоким, чем в Чехословакии, но гораздо менее кровавый, чем в Югославии. Эти разные предсказания, в свою очередь, приводят к разные приоритеты политики. Статистическое предсказание Миршаймера о возможной войне и России завоевание Украины побуждает его поддержать наличие у Украины ядерного оружия.А цивилизационный подход будет способствовать сотрудничеству между Россией и Украиной, призывает Украина откажется от ядерного оружия, окажет существенную экономическую помощь и другие меры по поддержанию единства и независимости Украины, а также спонсорство планирование действий на случай возможного распада Украины.
Многие важные события, произошедшие после окончания холодной войны, были совместимы с цивилизационная парадигма и ее можно было предсказать. К ним относятся: разрыв Советского Союза и Югославии; войны, идущие на их бывших территориях; Восход религиозного фундаментализма во всем мире; борьба внутри России, Турции, и Мексика над своей идентичностью; интенсивность торговых конфликтов между США и Японией; в сопротивление исламских государств давлению Запада на Ирак и Ливию; усилия Исламские и конфуцианские государства приобретают ядерное оружие и средства его доставки. их; Сохраняющаяся роль Китая как великой державы-аутсайдера; консолидация новые демократические режимы в одних странах, а в других — нет; и развивающиеся конкуренция вооружений в Восточной Азии.
Показана актуальность цивилизационной парадигмы для развивающегося мира. событиями, соответствующими этой парадигме, которые произошли в течение шестимесячного периода в 1993 г.
* продолжение и усиление боевых действий между хорватами, мусульманами и Сербы в бывшей Югославии;
* неспособность Запада оказать значимую поддержку боснийским мусульманам
или осудить зверства хорватов так же, как осуждались зверства сербов;
* нежелание России присоединяться к другим У.N. Члены Совета Безопасности в уговорить сербов в Хорватии заключить мир с хорватским правительством, и предложение Ирана и других мусульманских стран предоставить 18000 военнослужащих для защиты боснийских Мусульмане;
* обострение войны между армянами и азербайджанцами, турками и Иран требует, чтобы армяне отказались от своих завоеваний, размещение Турецкие войска и иранские войска пересекают границу Азербайджана, а Россия предупреждение о том, что действия Ирана способствуют «эскалации конфликта» и «доводит его до опасных пределов интернационализации»;
* продолжающиеся бои в Средней Азии между российскими войсками и моджахедами партизаны;
* конфронтация на Венской конференции по правам человека между Западом, во главе с У.Государственный секретарь С. Уоррен Кристофер, осуждая «культурные релятивизм »и коалиция исламских и конфуцианских государств, отвергающих« западные универсализм »;
* параллельная переориентация военных плановиков России и НАТО на «угроза с юга»;
* голосование, по-видимому, почти полностью цивилизационное, которое дало Олимпиада 2000 года в Сиднее, а не в Пекине;
* продажа компонентов ракет из Китая в Пакистан, в результате чего У.С. санкции против Китая и противостояние между Китаем и Соединенные Штаты по поводу предполагаемой поставки ядерной технологии в Иран;
* нарушение моратория и испытания ядерного оружия Китаем, несмотря на энергичные протесты США и отказ Северной Кореи от дальнейшего участия в ведет переговоры о собственной программе создания ядерного оружия;
* откровение о том, что Госдепартамент США следовал «двойному политика сдерживания, направленная как на Иран, так и на Ирак;
* сообщение У.С. Минобороны новой стратегии подготовка к двум «крупным региональным конфликтам», один против Северной Кореи, другой против Ирана или Ирака;
* призыв президента Ирана к союзу с Китаем и Индией, чтобы «мы могли последнее слово на международных мероприятиях »;
• новое немецкое законодательство, резко ограничивающее прием беженцев;
* соглашение между президентом России Борисом Ельциным и президентом Украины Леонид Кравчук о дислокации Черноморского флота и других вопросах;
* бомбардировка Багдада Соединенными Штатами, их практически единодушная поддержка западными правительствами, и его осуждение почти всеми мусульманскими правительствами как еще один пример «двойных стандартов» Запада;
* Соединенные Штаты объявили Судан террористическим государством и предъявили обвинение египетскому шейху. Омар Абдель Рахман и его последователи за сговор с целью «развязать городскую войну». терроризм против Соединенных Штатов «;
* улучшенные перспективы окончательного приема Польши, Венгрии, Чехия и Словакия в НАТО;
* президентские выборы в России 1993 г., которые продемонстрировали, что Россия действительно «разорванная» страна с ее населением и элитами, не уверенными должен присоединиться к Западу или бросить ему вызов.
Сопоставимый список событий, демонстрирующих актуальность цивилизационной парадигмы можно было составить почти за любой другой шестимесячный период начала 1990-х годов.
В первые годы холодной войны канадский государственный деятель Лестер Пирсон дальновидно указывал на возрождение и жизнеспособность незападных обществ. «Это было бы абсурдно, — предупреждал он, — предполагать, что эти новые политические общества грядут рождение на Востоке будет копией тех, с которыми мы на Западе знакомы.Возрождение этих древних цивилизаций примет новые формы ». международные отношения «в течение нескольких столетий» были отношениями между государств Европы, он утверждал, что «самые далеко идущие проблемы больше не возникают. между народами внутри одной цивилизации, но между цивилизациями сами «. Длительная биполярность холодной войны отсрочила события, которые Пирсон предвидел. Конец холодной войны высвободил культурные и цивилизационные силы, которые он определил в 1950-х годах, и широкий спектр ученые и наблюдатели признали и подчеркнули новую роль этих факторы глобальной политики.»[A] Насколько кто-либо интересуется современными мир обеспокоен, — мудро предупреждал Фернан Бродель, — и тем более Что касается любого, кто желает действовать в нем, то «платит» знать, как разбираться в карта мира, в котором сегодня существуют цивилизации, чтобы иметь возможность определять их границы, их центры и периферии, их провинции и воздух, которым там дышится, общие и частные «формы», существующие и объединяющиеся в них. Иначе что могут последовать катастрофические просчеты перспективы! »
и копия 1996 г., Сэмюэл П.ХантингтонSimon & SchusterВернуться к началу
Civilization.ca — Тайна майя
Первыми, кто заселил полуостров Юкатан, были охотники. и собиратели, прибывшие около 11 000 лет назад. Эти кочевые люди жили небольшими семейными группами. Около 2500 г. до н. Э. они начали выращивать кукурузы и отказались от кочевого образа жизни, чтобы поселиться в деревнях в окружении кукурузных полей.
Майя создали пахотные земли, используя технику «рубящего удара», чтобы расчистить леса.Они сажали кукурузу и второстепенные культуры, такие как фасоль, кабачки и табак. В высокогорье на западе они террасировали склоны на горных склонах; в низинах они очистили джунгли для посадка. Через два года они переехали на новые поля. места, позволяющие старым полям лежать под паром десять лет назад повторное их использование.
Они жили в небольших деревнях, состоящих из жилых домов, занятых расширенными семьями.Их дома с соломенной крышей обычно были однокомнатными. хижины со стенами из переплетенных деревянных шестов, покрытых засохшей грязью. Эти хижины использовались в основном для сна; ежедневные обязанности, такие как приготовление еды, заняли место на открытом воздухе в центральном коммунальном комплексе. Разделение труда между мужчинами и женщинами было четко определено: мужчины заботились о строительстве хижины и забота о кукурузных полях, и женщины готовили еду, одежду и заботились о домашних потребностях семьи.Эти древние методы ведения сельского хозяйства и семейные традиции сохранялись на протяжении веков и продолжают следовать сегодня во многих сельских общинах.
К среднему доклассическому периоду Верования и представления ольмеков о иерархические методы организации общества, вероятно, проникли население майя.Южные майя в горных долинах выбрали объединиться под руководством высокопоставленных вождей королей, но большая часть низменности Майя сопротивлялась давлению подчиниться, предпочитая конфедерации племен. которые не признавали никакой власти над своими деревенскими патриархами. В Поздний доклассический период засвидетельствован появление ahau , или высокий король, и рост царства по всей земле майя. В течение следующей тысячи лет принципы царствования преобладали в жизни майя.
В каждом царстве майя общество было организовано иерархически, включая короли, знать, учителя, писцы, воины, архитекторы, администраторы, ремесленники, купцы, рабочие и фермеры. Помимо столицы, отдаленные дочерние участки варьировались от крупных городов до деревень и фермерские хозяйства для расширенных семей.
Причин, по которым майя отошли от малого, может быть несколько. фермерские сообщества, управляемые местными властями в сложных королевствах классического периода.Находка способы сбора дождевой воды и создания большего количества пахотных земель для сельского хозяйства сыграли важную роль в достижении этих изменений. Значительный труд были организованы силы для строительства и обслуживания гидротехнических сооружений (водохранилищ, цистерны и каналы) и ухаживают за кукурузными полями. Эти нововведения устанавливают этап для увеличения производства продуктов питания, создания излишка, который привел к усиление торговли с соседними государствами и последующий рост населения. Необходимость правительства управлять сложности расширенного городского и сельского деятельность может частично объяснить, почему майя приняли царя как глава государства.
Все больше и больше пахотных земель занимали выращивание города, которые продолжали увеличиваться в размерах, частично из-за притока людей, прибывающих из-за пределов региона. Рост населения, засуха и неурожай могли привести к серьезным последствиям. нехватка продуктов питания и недоедание. Когда урожай не удался, люди могут были вынуждены переехать в другое место, чтобы выжить. Другие факторы в крах южных низменных городов около 900 г. н.э. мог быть:
- эскалация боевых действий позже в Классический период;
- высокая цена усиления войны;
- расходы на содержание королей и дворян, а также на строительство выше и более сложные храмы;
- и практика принятия простолюдинов за людей жертвоприношение (в ранней классике период, только короли и захваченные дворяне использовались как люди жертвы).
Северные майя также вступили в новую фазу, когда они попали под влияние их соседей-тольтеков и другие группы, обосновавшиеся на Юкатане. Эта эпоха продолжалась до прихода испанцев в 1541 году, который положил начало темному периоду были свидетелями сожжения книг майя и попыток уничтожить Религия майя.
.
 историко–антропологический
историко–антропологический А. Юрганов
А. Юрганов