Предмет психологии объект: works.doklad.ru — Учебные материалы
Объект, предмет и метод психологии как субъекта познания(Татенко В.А.)
Представление об объекте, предмете и методе науки составляет ее
теоретико-методологический фундамент. Метод науки не может
«родится» раньше ее предмета и наоборот, поскольку «вынашиваются»
они вместе. Разве что предмет науки первым «появляется на свет»,
а за ним — как его другое «я» — ее метод. Так, например, по
мнению А.Бергсона, поскольку субстанция психической жизни есть
чистая «длительность», она не может быть познана понятийно, путем
рассудочного конструирования, а постигается интуитивно. «Любой
закон науки, отражая то, что есть в действительности, вместе с
тем указывает и на то, как нужно мыслить о соответствующей сфере
бытия; будучи познанным, он в определенном смысле выступает и как
принцип, как метод познания» [7, c. 410]. Не случайно, поэтому,
при рассмотрении вопроса о предмете психологии актуализируется
проблема ее метода. При этом, как это уже бывало в истории,
определение предмета науки может зависеть от сложившегося
представления о том, какой метод считать подлинно научным.
Н.Н.Ланге пытался примирить обе крайности. По его мнению, «…в психологическом эксперименте личность исследуемая всегда должна давать (себе или нам) отчет о своих переживаниях, и лишь соотношение между этими субъективными переживаниями и объективными причинами и следствиями их, составляет предмет исследования» [2, c. 25].
И все же особый интерес в контексте рассмотрения парадигмы
«субъект-объект-предмет-метод» представляет позиция
К.А.Абульхановой, которая связывает представление об объекте
психологии с пониманием «качественного своеобразия
индивидуального уровня бытия» человека.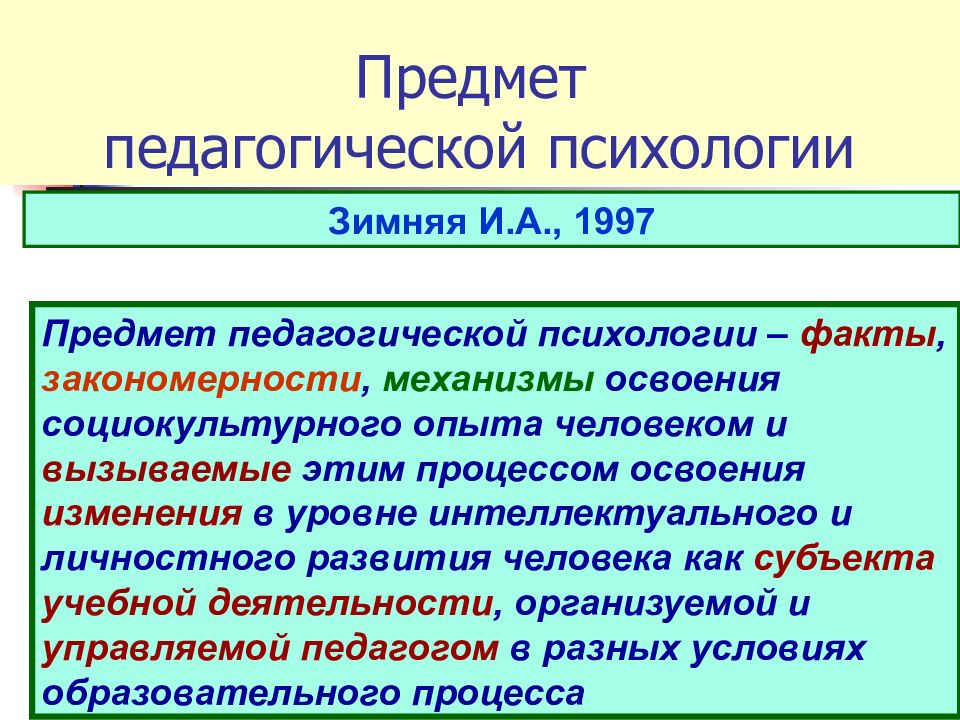 Предмет же определяется
ею как обусловленный природой объекта специфический способ
абстрагирования, с помощью которого психология исследует это
качественное своеобразие индивидуального бытия человека [См. 1,
c. 169). Уточняя свое представление о предмете психологии,
К.А.Абульханова специально подчеркивает, что под предметом
следует понимать «…не конкретные психологические механизмы,
раскрываемые психологическим исследованием, а лишь общие принципы
определения этих механизмов» (См. там же, с.211). Иными словами,
в системе данных определений «объект» психологии отвечает на
вопрос «Какой качественной спецификой обладает та реальность,
которую должна исследовать психология?». Предмет же определяется,
по сути, методологически и отвечает на вопрос «Как в принципе
следует эту реальность исследовать?». То есть наблюдается
своеобразный категориальный сдвиг традиционно понимаемого
предмета психологии на ее объект, а метода этой науки на ее
предмет. Однако при этом, как нам представляется, обнаруживаются
новые возможности содержательного разведения/сведения
категориальных оппозиционных пар «субъект-объект»,
«предмет-метод» психологической науки (см.
Предмет же определяется
ею как обусловленный природой объекта специфический способ
абстрагирования, с помощью которого психология исследует это
качественное своеобразие индивидуального бытия человека [См. 1,
c. 169). Уточняя свое представление о предмете психологии,
К.А.Абульханова специально подчеркивает, что под предметом
следует понимать «…не конкретные психологические механизмы,
раскрываемые психологическим исследованием, а лишь общие принципы
определения этих механизмов» (См. там же, с.211). Иными словами,
в системе данных определений «объект» психологии отвечает на
вопрос «Какой качественной спецификой обладает та реальность,
которую должна исследовать психология?». Предмет же определяется,
по сути, методологически и отвечает на вопрос «Как в принципе
следует эту реальность исследовать?». То есть наблюдается
своеобразный категориальный сдвиг традиционно понимаемого
предмета психологии на ее объект, а метода этой науки на ее
предмет. Однако при этом, как нам представляется, обнаруживаются
новые возможности содержательного разведения/сведения
категориальных оппозиционных пар «субъект-объект»,
«предмет-метод» психологической науки (см.
Рис. 1 Категориальное пространство самоопределения науки психологии
В чем смысл такого построения? Вероятно, прежде всего, в том, что в результате соотнесения представлений о психологии как субъекте познания с представлениями об ее объекте, предмете и методе, можно будет получить более цельную картину основных определений данной науки.
Попытаемся пунктирно наметить векторы, позволяющие увидеть эти категории в их содержательном соподчинении и взаимодополнении, «в их единстве, но не тождестве».
- «Психология и ее объект». Психология (если ее признавать
самостоятельной наукой) выступает субъектом познания.
Специфическим объектом для нее служит независимо существующая от
нее психическая реальность. Качественная особенность психологии
состоит в том, что она как субъект познания в принципе совпадает
со своим объектом: субъект познает самое себя путем созерцания и
созидания, через «самооткровение возможных самопревращений».

- «Субъект и предмет психологии». Это смысловой и целевой вектор психологии. Если свой объект психология по определению как бы находит в готовом виде, то свой предмет она конструирует и определяет для себя самостоятельно в зависимости от сложившихся теоретико-методологических установок (онтологических и гносеологических, аксеологических и праксеологических и др.), а также внешних условий (например, господствующей философской доктрины, политического режима, уровня культуры). В этом смысле можно говорить, что предмет психологической науки может претерпевать изменение в зависимости от характера социокультурных трансформаций.
- «Объект и предмет психологии».
 Если объект психологии
репрезентирует психическую реальность во всей ее полноте и
предполагаемой целостности как отдельное сущее, предмет этой
науки несет в себе представление о том, что составляет
квинтэссенцию психического, определяет его качественное
своеобразие. Полагая, что качество субъектности наиболее
адекватно репрезентирует сущностный потенциал психического и
обнаруживает его онтическую несводимость к иным реалиям, логично
утверждать, что именно понятие субъектности содержательно
конституирует предмет психологии, утверждая ее в статусе
самостоятельной науки.
Если объект психологии
репрезентирует психическую реальность во всей ее полноте и
предполагаемой целостности как отдельное сущее, предмет этой
науки несет в себе представление о том, что составляет
квинтэссенцию психического, определяет его качественное
своеобразие. Полагая, что качество субъектности наиболее
адекватно репрезентирует сущностный потенциал психического и
обнаруживает его онтическую несводимость к иным реалиям, логично
утверждать, что именно понятие субъектности содержательно
конституирует предмет психологии, утверждая ее в статусе
самостоятельной науки. - «Объект и метод психологии». Метод науки должен быть
релевантным той реальности, которую предполагается с его помощью
изучать. То есть, если объектом науки является психика, то метод
ее должен быть собственно психологическим, не редуцированным к
методам физиологии, социологии, философии и других наук. Именно
поэтому А.Пфендер основным методом психологии считал
«субъективный метод», который внутренне защищен от
субъективистских ярлыков и который не менее «объективен», чем
самые объективные методы, применяемые в науках о природе [См.

- «Субъект и метод психологии». Задача психологии как субъекта познания не только констатировать необходимость соответствия метода ее объекту, но и конституировать, открыть, произвести и применить его в научной практике. Потому, метод как и предмет является функцией субъекта, изменяющимся и развивающимся продуктом его творческих усилий. При этом важно выдерживать категориальную субординацию и не позволять методу определять и, тем более, подменять предмет психологии. Развитие методологии может стимулировать развитие теории, успех в разработке метода науки может обусловить новое видение ею своего предмета. Но только обусловить и не более.
- «Предмет и метод психологии». Эта пара в своем существовании
и развитии онтологически как бы зависит от объекта, а
гносеологически определяется субъектом познавательного процесса.
Предмет не статичен, он есть движение проникновения субъекта
познания в сущность психической жизни. Метод есть путь, по
которому субъект (психология) направляет это движение внутри
объекта (психики).

Итак, обращая взор на то, что составляет ее фундамент и делает ее самодостаточным субъектом познания, психология вряд ли может сегодня позволить себе нечеткость, двусмысленность в определении своего объекта

В своем исследовании мы придерживаемся традиционной ориентации,
отдавая предпочтение в определении предмета психологии
«сущностному» подходу, который в данной работе находит свою
содержательную конкретизацию в представлении о человеке как
субъекте психической жизни. Этот понятийно-категориальный
конструкт выполняет особую роль сущностно-предметной
линзы-матрицы, через которую психология как субъект всматривается
и проникает в свой объект. В этом смысле даже простейшие,
генетически исходные психические феномены могут быть адекватно
«распредмечены», если рассмотрение их производится в контексте
субъектно-психологической предметной парадигмы — как фрагменты
или моменты движения к субъектности — высшему сущностному
критерию определения качественного своеобразия психического.
Этот понятийно-категориальный
конструкт выполняет особую роль сущностно-предметной
линзы-матрицы, через которую психология как субъект всматривается
и проникает в свой объект. В этом смысле даже простейшие,
генетически исходные психические феномены могут быть адекватно
«распредмечены», если рассмотрение их производится в контексте
субъектно-психологической предметной парадигмы — как фрагменты
или моменты движения к субъектности — высшему сущностному
критерию определения качественного своеобразия психического.
Принцип субъектности составляет то «внутреннее условие» в научной психологии, через которое она «преломляет» противостоящую ей психическую действительность как объективно и независимо от нее существующее сущее.
Предметное значение категории субъектности заключается в том, что
в нее как в точку может сворачиваться и из нее же может
разворачиваться вся психическая вселенная. Она вбирает в себя,
«снимает в себе» все сущностные определения психического во всей
его полноте и многообразии проявлений.
«Восходи — нисходя», — учил известный индийский философ и психолог Шри Ауробиндо Гхош. Данная формула помогает наглядно представить связь, которая существует между объектом и предметом психологической науки. «Нисходя» в свой объект, психология погружается в бездонные глубины психической жизни, открывая там для себя все новые феномены, устанавливая новые закономерности, одновременно уточняя и проясняя открытое прежде. Однако, все эти результаты проникновений в глубины и просторы психического (что выступает предметом конкретных научных изысканий) она не только хранит для себя, не только делится ими с другими науками или дарует их общественной практике, но отправляет, образно говоря, «наверх», в «Лабораторию исследования сущности психического и предельных возможностей его развития». Почему именно так называется эта «Лаборатория»? Почему при определении сущности психического, возникает вопрос о высшем (предельно возможном) уровне развитии психики?
Высшая сущность психического открывается психологии не сразу и не
во всем. Не исключено, что до конца эта сущность никогда
постигнута и не будет, ибо тайны психики имеют тенденцию не
только скрываться, но и множиться по мере ее развития. Однако, в
зависимости от понимания предельной сущностной характеристики
психического как сущего получают определенную интерпретацию все
известные психические феномены. Так, сказав себе, что сущность
психического — в его способности отражать объективную реальность,
мы нашу психическую жизнь можем ограничить рамками познавательной
активности. Если прибавим к отражению еще и регуляцию, — то
психическое предстанет пред нами как механизм, позволяющий
человеку ориентироваться и приноравливаться к природной,
социальной среде, достигать равновесия с самим собой. Если на
новом уровне психологического познания сущностной чертой
психического устанавливается сознательная преобразовательная,
созидательная, творческая душевно-духовная деятельность человека,
то именно эта черта выступает главным критерием оценки имеющихся
знаний и главным ориентиром в последующих психологических
исследованиях.
Не исключено, что до конца эта сущность никогда
постигнута и не будет, ибо тайны психики имеют тенденцию не
только скрываться, но и множиться по мере ее развития. Однако, в
зависимости от понимания предельной сущностной характеристики
психического как сущего получают определенную интерпретацию все
известные психические феномены. Так, сказав себе, что сущность
психического — в его способности отражать объективную реальность,
мы нашу психическую жизнь можем ограничить рамками познавательной
активности. Если прибавим к отражению еще и регуляцию, — то
психическое предстанет пред нами как механизм, позволяющий
человеку ориентироваться и приноравливаться к природной,
социальной среде, достигать равновесия с самим собой. Если на
новом уровне психологического познания сущностной чертой
психического устанавливается сознательная преобразовательная,
созидательная, творческая душевно-духовная деятельность человека,
то именно эта черта выступает главным критерием оценки имеющихся
знаний и главным ориентиром в последующих психологических
исследованиях.
Куда же можно отнести с наибольшим правом последнюю причинность, вопрошал И.Кант, если не туда, где находится также высшая причинность, т.е. к тому существу, которое изначально содержит в себе достаточную причину для всякого возможного действия Применительно к теме нашего исследования последней и высшей причинностью в пространстве психической жизни выступает субъектность. И именно она есть высшим сущностным критерием, по которому мир психический отличается от всякого иного мира.
Последнее время в психологии получила развитие тенденция
разотождествления понятий деятельности и ее субъекта, стремление
представить их как единство, но не тождество. Это означает
требование за проявлениями любой деятельности видеть деятеля, за
актами творчества — творца. И, если действительно «сначала было
дело», то психологии не может быть не интересно, кто это дело
сделал, если поступок или подвиг, то кто их совершил, а если
слово, то кто его сказал, когда, кому и зачем.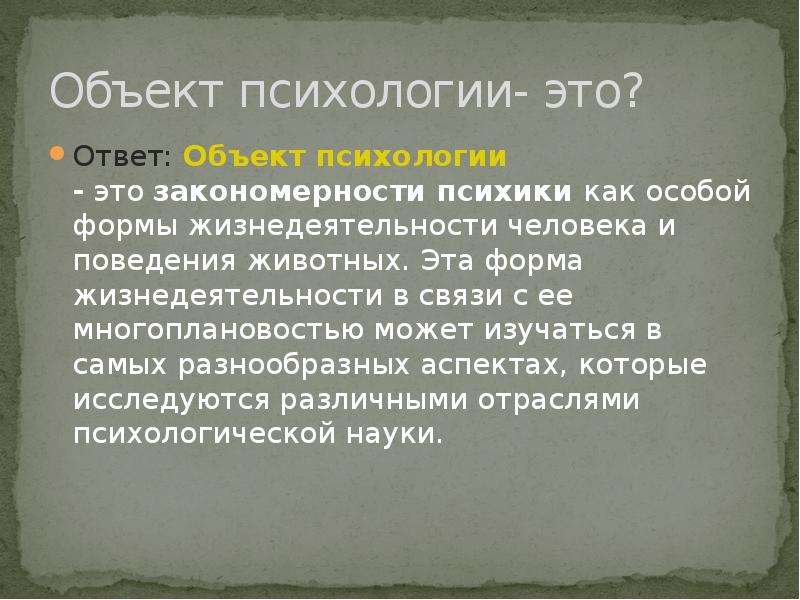 Не психика вообще,
а то в ней, что со временем достигает уровня сознающего себя
субъекта, является носителем, центратором и движущей силой
психической жизни. Он решает что, как, с кем, зачем и когда
следует делать. Он оценивает результаты своей активности и
интегрирует их в собственном опыте. Он избирательно и инициативно
вступает во взаимодействие с миром. Онтологический императив
«быть субъектом» есть общечеловеческим выражением суверенности
действительного человека, ответственного за результаты своих
деяний, изначально «виновного» во всем, что от него зависит
(Ж.-П.
Сартр) и не имеющего «алиби в бытии» (М.М.Бахтин).
Не психика вообще,
а то в ней, что со временем достигает уровня сознающего себя
субъекта, является носителем, центратором и движущей силой
психической жизни. Он решает что, как, с кем, зачем и когда
следует делать. Он оценивает результаты своей активности и
интегрирует их в собственном опыте. Он избирательно и инициативно
вступает во взаимодействие с миром. Онтологический императив
«быть субъектом» есть общечеловеческим выражением суверенности
действительного человека, ответственного за результаты своих
деяний, изначально «виновного» во всем, что от него зависит
(Ж.-П.
Сартр) и не имеющего «алиби в бытии» (М.М.Бахтин).
Потому, если говорить о своеобразии психической реальности,
сравнивая ее с иными формами бытия сущего, то именно субъектное
определение психической жизни человека венчает пирамиду ее
сущностных характеристик, а значит, имеет полное право
содержательно представлять предметное ядро психологической науки.
При этом другие, ранее или иначе сформулированные определения
предмета психологии не отбрасываются, а переосмысливаются и
сохраняются в субъектном его варианте в «снятом» виде.
«Восхождение» к субъектному уровню определения предмета психологии, с одной стороны, позволяет, а с другой, — требует переосмыслить все, доселе открытое психологией в ее объекте — психике. Появление новых пластов бытия в процессе развития приводит к тому, что и предыдущие выступают в новом качестве (С.Л.Рубинштейн). Это значит, что вся психика в ее становлении, функционировании и развитии, начиная с простейших психических реакций и заканчивая сложнейшими движениями души и духа, есть по сути развертывающаяся и утверждающая себя особого рода субъектность, воплощенная в форме свободного Я-творчества.
Субъектная специфика метода психологической науки состоит в том,
что она не только созерцает, не только исследует всеми доступными
ей средствами и способами наличную психическую реальность, но, в
конечном счете, на высших уровнях стремится постичь эту
реальность путем творения ее новых форм и тем самым восходит к
исследованию собственных возможностей научно-психологического
творчества (В.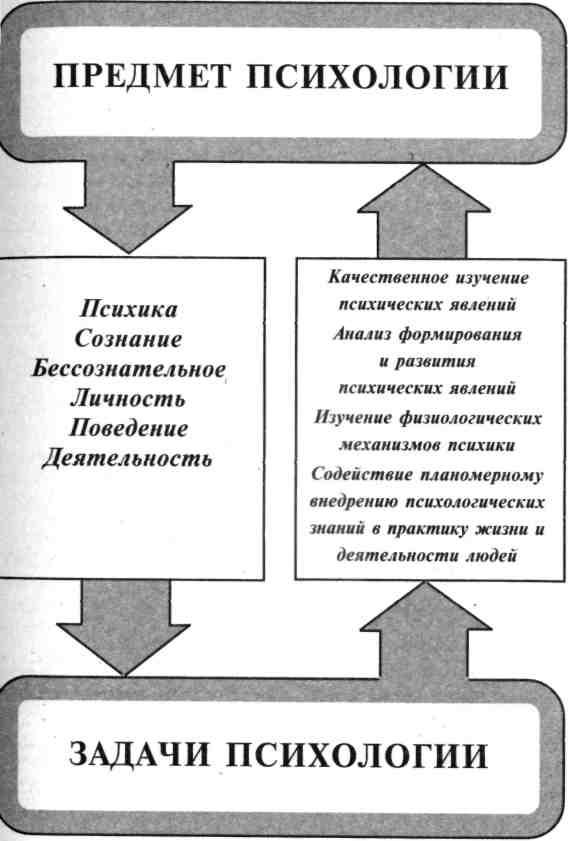 В.Рубцов).
В.Рубцов).
На этом пиковом уровне происходит как бы естественное сочленение изначально условно разобщенных представлений о психологии как субъекте познания, об ее объекте, предмете и методе. Это и есть самое себя познающая и творящая психика — высший субъектный синтез психологической науки и практики психической жизни.
Через подобного рода анализ и синтез происходит развитие представлений об объекте, предмете и методе психологии как субъекта познания. Началом, которое создает внутреннюю энергетику, задает динамику и определяет вектор этому самодвижению, выступает научное представление о субъектной природе психического.
Подлинно гуманистический и, непременно, оптимистический взгляд на
природу человека, вера в позитивную перспективу его личного и
исторического роста открывает, на наш взгляд, возможность и
делает необходимым субъектное истолкование предмета и метода
психологии как самостоятельной науки. Следует думать, что именно
при таком подходе психология сможет обнаружить присущую ей
значимость как для других наук, так и для себя самое.
- Абульханова-Славская К.А. О субъекте психической деятельности. — М.: «Наука», 1973.
- Ланге Н.Н. Психология экспериментальная / Энциклопедический словарь. Гранат. 7-е изд., т. 33. б/г. Цитируется по «Психологическая наука в России ХХ столетия: проблемы теории и истории. Под ред. А.В.Брушлинского. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1977.
- Пфендер А. Введение в психологию / Пер. с нем. Г.А.Давыдова. — С.-Петербург: Провинция, 1909.
- Татенко В.А. Предмет и метод психологии с позиций субъектного похода. В кн.. Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. Монография. — К.: «Просвіта», 1996, с. 311-373.
- Татенко В.О. Поняття про психіку. Предмет психології як науки // Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. — Вид. 5-те, стереотип. — К.: Либідь, 2002, с. 9-45.
- Татенко В.О. Ще раз про предмет психологічної науки /
Практична психологія та соціальна робота. — 2004, № 6, с.
 6-8.
6-8. - Предмет / Философская энциклопедия. Гл.ред. Ф.В.Константинов. — М.: «Советская Энциклопедия», 1967, т.4.
Татенко В.А.,
Примечания
1. Сведения об авторе: Татенко Виталий Александрович — доктор
психологических наук, профессор, член-корреспондент АПН Украины,
главный научный сотрудник Института социальной и политической
психологии АПН Украины.
Контактные телефоны: сл. 416-24-08, д. 456-02-54. Домашний адрес:
Украина, Киев — 03057, пер.Полевой 5, кв. 17.
2. Статья опубликована: Татенко В.А. Объект, предмет и метод
психологии как субъекта познания // Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Перспективи розвитку
соціогуманітарних наук у класичних університетах» (соціологія,
психологія, педагогіка): Зб. наук. Праць. — К.:
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004, с.
60-66.
См. также
Объект и предмет исследования в курсовой, дипломной и магистерской работе по психологии
Объект исследования – это указание на психологическое явление или феномен, которое будет изучаться в дипломной, магистерской или курсовой работе по психологии.
Предмет исследования – это какой-то частный ракурс рассмотрения объекта исследования.
И объект, и предмет диплома по психологии тесно связаны с темой работы.
Например, тема магистерской диссертации по психологии звучит как «Психологические детерминанты профессионального стресса у среднего медперсонала».
Определяя объект исследования, нужно обозначить широкое направление психологических исследований, в рамках которого будет проводиться и данное исследование. В данном случае объектом дипломной работы является «профессиональный стресс».
Но данная работа связана с частным аспектом этой широкой проблемы, а именно, с психологическими детерминантами профессионального стресса, то есть с психологическими чертами, которые детерминируют, влияют на формирование профессионального стресса. Причем нас интересует еще более узкая проблема – как проявляются детерминанты профессионального стресса у среднего медперсонала.
Таким образом, в данном примере формулировка объекта исследования будет звучать следующим образом: «психологические детерминанты профессионального стресса у среднего медперсонала».
Как видно, формулировка предмета исследования идентична теме работы. Чаще всего так и бывает.
Очень редко некоторые научные руководители требуют от студентов обозначать в качестве объекта исследования выборку испытуемых, принимающих участие в исследовании. Тогда, описывая объект исследования, нужно указать краткую характеристику выборки. Например, «Объект исследования – медсестры ГКБ №1 в количестве 30 человек». Более подробное описание испытуемых будет дано при описании выборки в соответствующем разделе введения.
Итак, как же правильно обозначить объект и предмет исследования в дипломной работе? Нужно сделать следующее:
- Внимательно посмотреть на тему работы.
- В формулировке темы нужно выделить термин, который обозначает максимально широкий психологический феномен, понятие. Например, мышление, эмоциональное выгорание, психологические защиты и т.п. Это будет объект исследования.
- Выявить частную и более узкую проблему, которую будет решать данное исследование в рамках объекта работы.
 Это и будет предмет исследования.
Это и будет предмет исследования.
Внимательное и вдумчивое отношение к формулировке объекта и предмета психологического исследования поможет студенту лучше уяснить себе суть работы. В данном случае внимательное отношение к формальным аспектам помогает работе над содержательными.
Надеюсь, эта статья поможет вам самостоятельно написать диплом по психологии. Если возникнет необходимость, обращайтесь (все виды работ по психологии; статистические расчеты). Заказать
Перечень всех учебных материаловГосударство и правоДемография История Международные отношения Педагогика Политические науки Психология Религиоведение Социология |
1.1. Объект и предмет психологии В широком смысле объектом познания психологии как науки является человек. Рис. 1. Место психологии в системе наук «по объекту познания» Наиболее важным является вопрос о предмете психологии. Термин «психология» в научном употреблении впервые появился в 16 в. Он является производным от двух греческих слов: psyche — душа и logos — слово, учение. Таким образом, в дословном переводе «психология» — наука о душе. |
24 Человек как объект и психика как предмет изучения психологии
Тема 3. Человек как объект и психика как предмет изучения психологии (предварительное системное представление)
Несмотря на сложность проблемы соотношения объекта и предмета исследования для любой науки, в психологии, как говорилось выше, принято главным объектом изучения считать человека, а главным предметом — его психику. С целью облегчить понимание психологической сущности человека, раскрываемой в последующих главах, и соблюдая основные принципы познания, дадим общее предварительное представление о человеке и его психике как сложных системах, подлежащих научному изучению.
С целью облегчить понимание психологической сущности человека, раскрываемой в последующих главах, и соблюдая основные принципы познания, дадим общее предварительное представление о человеке и его психике как сложных системах, подлежащих научному изучению.
Уровни психологической организации (макрохарактеристики) человека
Человек как субъект психической деятельности имеет многоуровневую организацию, что определяет и разные уровни и аспекты его психологического изучения. На каждом из этих уровней проявляется один из вариантов его сущности, что дает право говорить о нескольких ипостасях человека, только совокупность которых может дать более или менее целостное и полное представление о нем. (Между прочим, аналогичный подход в понимании сущности Бога демонстрирует христианский догмат о Божественной Троице, т. е. о Боге, едином в трех лицах: Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух святой.)
Научное оформление многоуровневости психологической организации человека придал Б. Г. Ананьев, представив ее как систему взаимосвязанных понятий: человек — индивид — субъект (деятельности) — личность — индивидуальность [18, 22].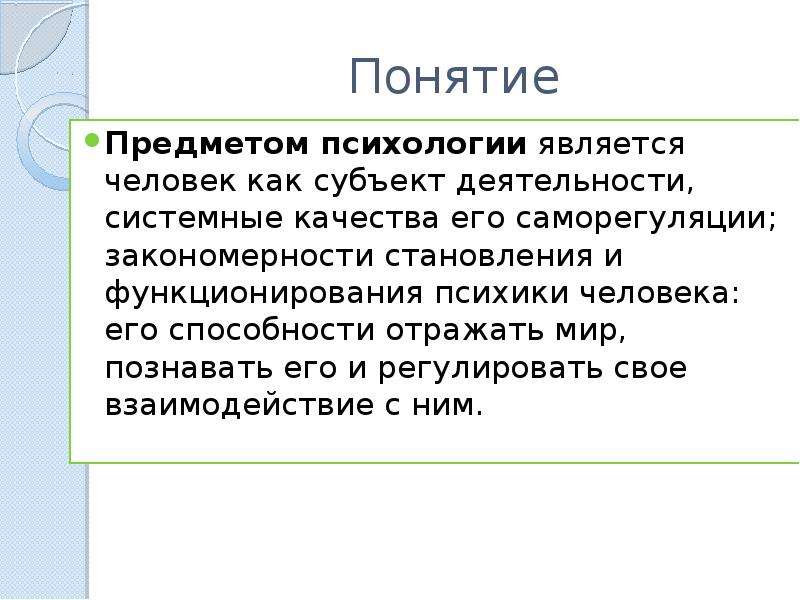 Взаимосвязь между этими понятиями в первую очередь предстает как иерархические отношения между ними. Иерархия (субординация) этих понятий, отраженная в последовательности их положения в общем ряду, имеет двойной смысл: условно можно говорить о временном и пространственном смыслах. Первый смысл заключается в том, что человек в своем онтогенетическом развитии последовательно проходит стадии от индивида до индивидуальности. Во втором смысле каждая последующая ипостась как более совершенный уровень организации включает в себя качества предыдущей, т. е. они находятся в отношениях соподчинения и включения. К настоящему времени вызрела идея дополнить этот ряд еще одной категорией — «универсум» [744]. Человек в своей психической деятельности раскрывается во всех перечисленных понятиях, которые в современной психологии нередко именуют «макрохарактеристиками» человека [166, 501].
Взаимосвязь между этими понятиями в первую очередь предстает как иерархические отношения между ними. Иерархия (субординация) этих понятий, отраженная в последовательности их положения в общем ряду, имеет двойной смысл: условно можно говорить о временном и пространственном смыслах. Первый смысл заключается в том, что человек в своем онтогенетическом развитии последовательно проходит стадии от индивида до индивидуальности. Во втором смысле каждая последующая ипостась как более совершенный уровень организации включает в себя качества предыдущей, т. е. они находятся в отношениях соподчинения и включения. К настоящему времени вызрела идея дополнить этот ряд еще одной категорией — «универсум» [744]. Человек в своей психической деятельности раскрывается во всех перечисленных понятиях, которые в современной психологии нередко именуют «макрохарактеристиками» человека [166, 501].
В зависимости от уровня рассмотрения изучению подлежат различные совокупности психических явлений, характерные для соответствующей ипостаси человека. Совокупности эти отличаются друг от друга и составом входящих в них психических феноменов, и структурой, т. е. взаимосвязью этих феноменов.
Совокупности эти отличаются друг от друга и составом входящих в них психических феноменов, и структурой, т. е. взаимосвязью этих феноменов.
Итак, самым общим понятием в этой иерархической лестнице является понятие «человек». Существует масса его определений. Но, как обычно в таких случаях, каждое определение отражает какую-то одну сторону (иногда несколько) явления, но не может охватить все стороны одновременно. (Кстати, напомним, что именно поэтому в современной науке действует и используется освещенный выше принцип дополнительности.) Например, очень точно характеризует отличие человека от животных такое определение: «Человек — единственное животное, которое знает свою бабушку». Не менее точен был В. Шекспир, подметив, что человеку в отличие от животного нужно не только необходимое, но и лишнее. Осознав все трудности формулировки исчерпывающих определений человека, примем за наиболее адекватную следующую дефиницию: человек — это биосоциальное существо, воплощающее, с одной стороны, высшую ступень развития жизни на Земле, а с другой, главный активный элемент общественно исторического развития.
С первой точки зрения современный человек предстает как биологическое существо, принадлежащее к типу позвоночных, классу млекопитающих, роду Нomo, виду Homo Sapiens (человек разумный). Он характеризуется особой телесной организацией, главными признаками которой являются прямохождение, наличие руки, высокоразвитого мозга и речевого аппарата. С общественной точки зрения он социальное существо, принадлежащее человеческому обществу в целом, определенным народностям, нациям, социальным группам. В этом ракурсе он характеризуется способностью к общению, к познанию внешнего мира и самого себя, к труду (как целенаправленному производству материальных или духовных ценностей).
Индивид (от лат. individuum — неделимое < in — не + dividen dus — подлежащий разделу) — макрохарактеристика человека, отражающая его природно-биологическую сущность как представителя вида Homo Sapiens. В этом понятии отражается индивидуально-биологическая сторона каждого человека как результат его филогенетического и онтогенетического развития. Филогенез — это историческое развитие организмов в русле эволюции жизни на Земле. Онтогенез — это индивидуальное развитие организма в русле его жизненного пути. Основные признаки индивида: 1) целостность анатомической и психофизиологической организации; 2) устойчивость во взаимодействии с внешним миром; 3) активность. Целостность означает системный характер связей между многообразными механизмами и функциями организма, реализующими жизненные (витальные) отношения со средой. Устойчивость определяет сохранность основных отношений индивида с действительностью и предполагает их пластичность, гибкость, вариативность. Активность обеспечивает способность индивида к самоизменению, сочетает зависимость от ситуации с преодолением ее воздействия на организм.
Филогенез — это историческое развитие организмов в русле эволюции жизни на Земле. Онтогенез — это индивидуальное развитие организма в русле его жизненного пути. Основные признаки индивида: 1) целостность анатомической и психофизиологической организации; 2) устойчивость во взаимодействии с внешним миром; 3) активность. Целостность означает системный характер связей между многообразными механизмами и функциями организма, реализующими жизненные (витальные) отношения со средой. Устойчивость определяет сохранность основных отношений индивида с действительностью и предполагает их пластичность, гибкость, вариативность. Активность обеспечивает способность индивида к самоизменению, сочетает зависимость от ситуации с преодолением ее воздействия на организм.
Понятие «индивид» применимо не только к человеку, но и к животным, когда они рассматриваются как отдельные особи в составе своих популяций. В качестве синонима термина «индивид» используют термин «индивидуум».
Рекомендуемые файлы
Субъект (от лат. subjectum — подлежащее) — макрохарактеристика человека, отражающая его соотношение с объективной реальностью, указывающая на него как на 1) носителя внутреннего мира (в форме сознания) и 2) источник активного познания и преобразования действительности. Субъект, действующий в объективном мире, противостоит ему благодаря своей сознательной активности. Активность субъекта в психологии обычно увязывается с его деятельностью. Психологическая активность обусловлена спецификой внутренних состояний субъекта в момент действия (в отличие от реактивности — обусловленной предшествующими состояниями). Она характеризуется произвольностью (действие субъекта по собственному почину), целенаправленностью (наличием цели действия субъекта), надситуативностью (выход за пределы исходных целей), устойчивостью деятельности по отношению к цели. Реализация человеком функций познания и преобразования действительности в контексте деятельности обусловила применение термина «субъект» обычно в связке с этим понятием: «субъект деятельности».
subjectum — подлежащее) — макрохарактеристика человека, отражающая его соотношение с объективной реальностью, указывающая на него как на 1) носителя внутреннего мира (в форме сознания) и 2) источник активного познания и преобразования действительности. Субъект, действующий в объективном мире, противостоит ему благодаря своей сознательной активности. Активность субъекта в психологии обычно увязывается с его деятельностью. Психологическая активность обусловлена спецификой внутренних состояний субъекта в момент действия (в отличие от реактивности — обусловленной предшествующими состояниями). Она характеризуется произвольностью (действие субъекта по собственному почину), целенаправленностью (наличием цели действия субъекта), надситуативностью (выход за пределы исходных целей), устойчивостью деятельности по отношению к цели. Реализация человеком функций познания и преобразования действительности в контексте деятельности обусловила применение термина «субъект» обычно в связке с этим понятием: «субъект деятельности».
Личность (от русск. личина) — это макрохарактеристика человека, отражающая его социальную сущность, указывающая на него как на субъекта социальных отношений и сознательной деятельности. Принято говорить, что личностью не рождаются, а становятся в процессе общения, научившись сравнивать себя с другими и выделять собственное «Я». Огромное влияние на процесс формирования личности оказывают воспитание и образование. Основными обобщающими, интегральными свойствами личности (ее макрохарактеристиками) являются темперамент, характер, способности и направленность. Личность может изменяться: прогрессивно развиваться или деградировать. По сочетанию ее свойств и особенностей различают личности гармоничные или односторонние, прогрессивные или реакционные, нравственные или преступные, здоровые или больные, нормальные или патологичные. Личность — явление многогранное, она является объектом изучения всех гуманитарных наук. В психологии личность изучается в двух главных аспектах.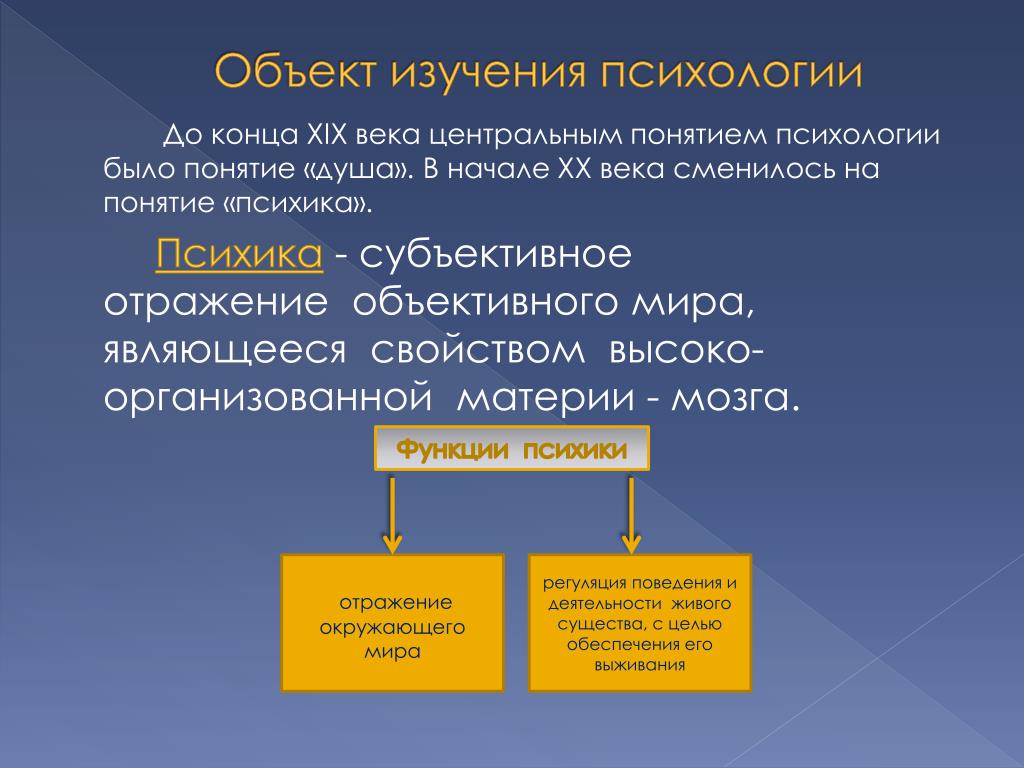 Первый — общепсихологический, в рамках которого изучается структура и общие свойства личности; деятельность как форма существования и проявления личности. То есть это в определенном смысле — индивидуализированный подход. Второй подход — социально-психологический. Здесь личность изучается в контексте общения и взаимодействия людей и различных групп друг с другом.
Первый — общепсихологический, в рамках которого изучается структура и общие свойства личности; деятельность как форма существования и проявления личности. То есть это в определенном смысле — индивидуализированный подход. Второй подход — социально-психологический. Здесь личность изучается в контексте общения и взаимодействия людей и различных групп друг с другом.
Индивидуальность (от лат. individuum — неделимое) — макрохарактеристика человека, отражающая его неповторимость со стороны социально значимых отличий от других людей. В этом понятии воплощена уникальность человека и как индивида, и как субъекта, и как личности. Индивидуальность (в психологическом смысле) проявляется в чертах характера и особенностях темперамента, специфике интересов, качествах психических процессов, особенностях интеллекта, своеобразии потребностей и способностей. Предпосылками формирования индивидуальности выступают анатомо-физиологические задатки, процессы образования и сознательного самовоспитания.
Универсум (от лат. universalis — общий, всеобщий) — макрохарактеристика человека, отражающая достижение им высшей степени духовного развития с ясным осознанием своего бытия и места в мире.
Субординационный характер представленных ипостасей человека не означает, что каждый конкретный человек находится на каком-то одном уровне своей психологической организации. Взрослому нормальному человеку (являющемуся объектом исследования общей психологии) одновременно присущи все указанные уровни. Тем самым следует признать, что рассматриваемые ипостаси человека находятся не только в иерархических отношениях, но и в отношениях сосуществования и взаимодействия, т. е. в координационных отношениях. Этот аспект психологической организации человека наглядно, компактно и в то же время с достаточной полнотой описывается с помощью нижеприводимой схемы (рис. 3.1). Такое описание человека было предложено В. А. Ганзеном, опиравшимся на разработанный им и уже упоминавшийся нами пентабазис СПВЭИ [166, с. 156].
156].
Рис. 3.1. Координационная схема психологической организации человека
(по В. А. Ганзену [166, с. 159])
Компоненты правой стороны схемы (личность и индивидуальность) отражают преимущественно социальную сущность человека, а компоненты левой стороны (индивид и субъект) — его биологическую основу. Верхняя часть схемы (субъект и индивидуальность) отражает дифференцирующие, разделяющие отношения человека в окружающей среде, нижняя (индивид и личность) — интегрирующие, объединяющие. Действительно, индивид — наименьшая единица в системе биологического вида, объединяющая и сохраняющая всю информацию о виде во времени (отношения «предки — потомки»). Как личность, человек вступает в контакт с расположенными в физическом и социальном пространстве другими людьми и различными социальными группами. То есть эти две ипостаси выражают объединяющую со средой (природной и социальной) во времени и пространстве сторону (тенденцию) человека как биосоциальной единицы. В то же время человек как субъект противостоит объективному миру, который он познает и преобразует, а как индивидуальность, противопоставляется другим людям. То есть эти две категории выражают отделяющую от природной и социальной среды сторону (тенденцию) человека как биосоциальной единицы.
В то же время человек как субъект противостоит объективному миру, который он познает и преобразует, а как индивидуальность, противопоставляется другим людям. То есть эти две категории выражают отделяющую от природной и социальной среды сторону (тенденцию) человека как биосоциальной единицы.
Функциональная структура психики человека
Если придерживаться наиболее признанной на сегодня в науке эволюционистской концепции развития жизни на Земле, то следует признать, что психика является мощным адаптивным механизмом, а ее глобальной, стержневой функцией является способствование выживанию организмов и биологических видов за счет повышения эффективности их взаимодействия с окружающим миром. Эффективность этого взаимодействия увеличивается благодаря повышению интенсивности и адекватности поведения индивида, наделенного психикой, а также благодаря увеличению доли совместных действий особей в общей жизнедеятельности вида. Этим трем факторам повышения выживаемости соответствуют три основные функции психики : стимуляция активности, психическое отражение и обеспечение коммуникации с себе подобными. Последнюю функцию (особенно применительно к человеку ) целесообразно обозначить как общение, включающее в себя не только коммуникативную (передача информации) составляющую, но и перцептивную (восприятие и понимание человека человеком), и интерактивную (обмен действиями) [24]..
Последнюю функцию (особенно применительно к человеку ) целесообразно обозначить как общение, включающее в себя не только коммуникативную (передача информации) составляющую, но и перцептивную (восприятие и понимание человека человеком), и интерактивную (обмен действиями) [24]..
Каждая из трех означенных функций представляет собой единство двух компонентов. Первая — активности и реактивности, вторая — познания (отождествляемого некоторыми исследователями с психическим отражением в целом) и регуляции, третья — взаимодействий и взаимоотношений. Специальных пояснений этим двуединствам здесь не приводим, поскольку все необходимые обоснования каждого из них представлены ниже в главе, посвященной общению и деятельности, и частично в заключительном разделе, а также в научной литературе [24, 79, 80, 166, 506]. Если каждую функцию представить в виде одной из ортогональных осей в трехмерном евклидовом пространстве, то получим каркас трехмерной модели функциональной структуры психики (рис.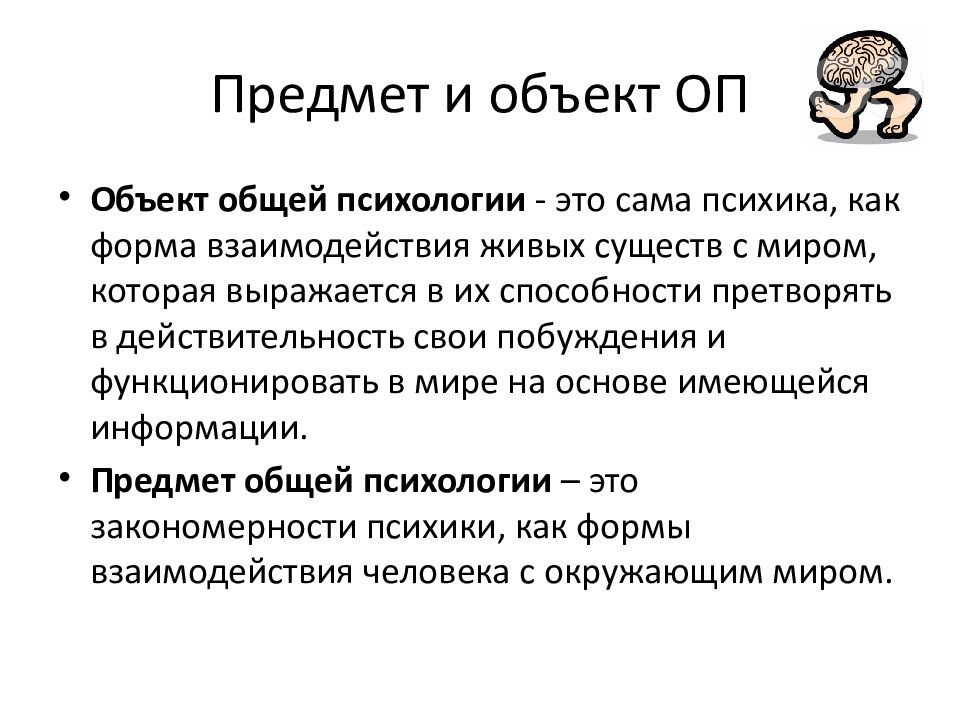 3.2).
3.2).
Рис. 3.2. Основные оси пространственной модели функциональной структуры психики
Представленная модель имеет фронтальную плоскость, образованную осями «активность» и «психическое отражение», горизонтальную плоскость, образованную осями «психическое отражение» и «общение», и сагиттальную плоскость, образованную осями «активность» и «общение».
В контексте нашего дальнейшего изложения первоочередной интерес представляет фронтальная плоскость модели, идея и первая редакция которой были предложены в 80-х гг. В. А. Ганзеном [166]. Ее последующая модернизация осуществлена в наших работах [498, 506, 520 и др.].
Строгость и стройность модели Ганзена предопределились опорой на четыре принципиальных положения. Первое состоит в учете дихотомической организации мира, а следовательно, и психики. Единство противоположностей, заключенное в реальных объектах и обеспечивающее как их равновесие, так и развитие, позволяет при анализе объектов реальности раздваивать их на пары (диады), а при синтезе — объединять их в единое целое. Область пересечения членов этих пар дает третий промежуточный элемент, который чаще всего можно рассматривать как границу между ними. Взаимодействие человека со средой есть целостное явление. Дихотомический подход позволяет выделить в этом взаимодействии такие первичные пары, как субъект — объект, отражение — регуляция, активное — реактивное поведение и т. д.
Область пересечения членов этих пар дает третий промежуточный элемент, который чаще всего можно рассматривать как границу между ними. Взаимодействие человека со средой есть целостное явление. Дихотомический подход позволяет выделить в этом взаимодействии такие первичные пары, как субъект — объект, отражение — регуляция, активное — реактивное поведение и т. д.
Второе положение, по сути являющееся частным проявлением первого, заключается в том, что психика рассматривается как система с двумя фундаментальными противоположными свойствами, присущими всем объектам реальности: неоднородностью и целостностью. Неоднородность (и соответственно тенденция к дифференциации частей психики как целого) выражается в существовании различных психических функций и проявляется в различных психических явлениях. Это дает возможность использовать при изучении и описании психики метод системного анализа. Целостность психики (и соответственно тенденция к объединению ее частей) заключается в неразрывном единстве всех ее функций и проявлений, что обеспечивает интеграцию всей внутренней психической жизни индивида и его непрерывную взаимосвязь с окружающим миром.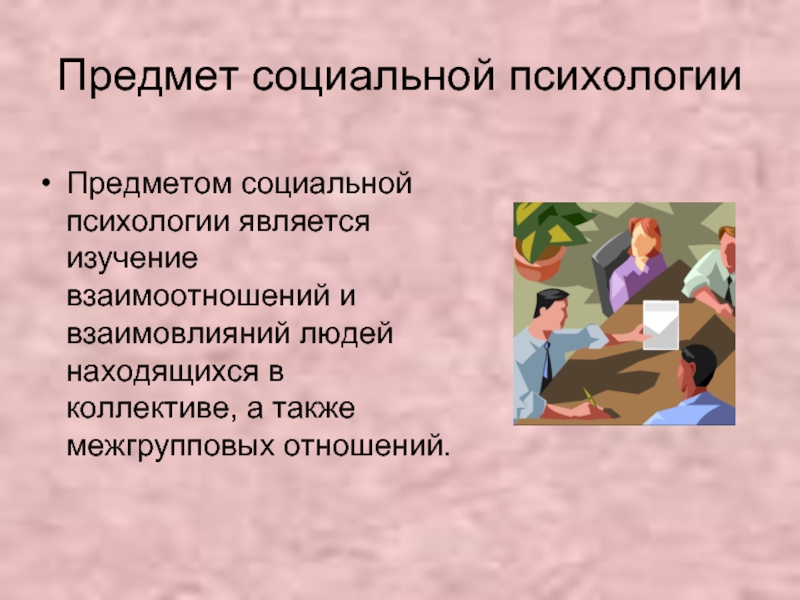 Это свойство психики дает возможность при ее изучении и описании применять системный синтез.
Это свойство психики дает возможность при ее изучении и описании применять системный синтез.
Таким образом, реализация указанных двух положений позволяет представить функциональную структуру психики как трехуровневое иерархическое образование, где уровнем наивысшей степени общности является уровень интеграции, раздвоение интегративной функции на психическое отражение и регуляцию дает второй субординационный уровень, а раздвоение функций отражения и регуляции на активные и реактивные формы дает третий уровень — уровень парциальных функций. Эта субординация может быть описана в общенаучных категориях, что представлено графически на рис. 3.3 а.
Рис. 3.3. Функциональная структура психики человека:
а) в общенаучных категориях; б) в психологических категориях.
(по В. А. Ганзену [167, с. 31])
Третье принципиальное положение — это использование базисного метода для структурирования информации, полученной при изучении психики. Идея метода состоит в соотнесении совокупности элементов описания объекта (в нашем случае психики) с совокупностью элементов выбранного базиса. Это соотнесение осуществляется путем выявления соответствия (или близости) характеристик описываемого явления компонентам базиса. Данный метод придает описаниям упорядоченность, устойчивость и относительную полноту. Важным качеством этого метода является «открытость» полученных с его помощью описаний, т. е. возможность внесения дополнений и коррекций без коренных изменений в целом. Именно это обстоятельство позволило в дальнейшем модернизировать рассматриваемую модель.
Идея метода состоит в соотнесении совокупности элементов описания объекта (в нашем случае психики) с совокупностью элементов выбранного базиса. Это соотнесение осуществляется путем выявления соответствия (или близости) характеристик описываемого явления компонентам базиса. Данный метод придает описаниям упорядоченность, устойчивость и относительную полноту. Важным качеством этого метода является «открытость» полученных с его помощью описаний, т. е. возможность внесения дополнений и коррекций без коренных изменений в целом. Именно это обстоятельство позволило в дальнейшем модернизировать рассматриваемую модель.
Четвертое важнейшее положение постулирует возможность исчерпывающего описания любого объекта действительности через пространственно временные и информационно энергетические показатели. Следуя дихотомическому принципу и опираясь на философский анализ категории «материя», пространство и время рассматриваются как диалектическая пара форм существования материи, а энергия и информация — как диалектическая пара условий способа существования материи, т. е. движения. Это позволяет ввести основополагающий для систематики свойств различных объектов базис, названный В. А. Ганзеном «пентабазисом СПВЭИ». Пентабазис включает в себя пять базовых частей: субстрат (С), пространство (П), время (В), энергия (Э), информация (И). Пространство, время, энергия и информация определяют неоднородность и многообразие проявлений (свойств) объектов, в том числе психики, что отмечалось при изложении принципа целостности. Субстрат символизирует синтез всех этих свойств в одном объекте, интеграцию частей в единое целое.
е. движения. Это позволяет ввести основополагающий для систематики свойств различных объектов базис, названный В. А. Ганзеном «пентабазисом СПВЭИ». Пентабазис включает в себя пять базовых частей: субстрат (С), пространство (П), время (В), энергия (Э), информация (И). Пространство, время, энергия и информация определяют неоднородность и многообразие проявлений (свойств) объектов, в том числе психики, что отмечалось при изложении принципа целостности. Субстрат символизирует синтез всех этих свойств в одном объекте, интеграцию частей в единое целое.
2 Факторы, влияющие на зрительное восприятие водителя в темное время суток — лекция, которая пользуется популярностью у тех, кто читал эту лекцию.
Целенаправленное применение перечисленных принципов позволило В. А. Ганзену представить функциональную структуру психики человека в наглядной форме в виде графической схемы, где каждая триада психологических понятий реализует какую-либо парциальную функцию психики на третьем уровне их конкретизации (реактивное познание, реактивную регуляцию, активное познание, активную регуляцию) и функцию интеграции.
Перцепция в форме ощущений и восприятий осуществляет реактивное отражение, так как эти процессы непроизвольны, безусловны, непосредственны, причинно-следственны. Иначе говоря, на этом уровне психического отражения инициатива во взаимодействии между субъектом и объектом принадлежит объекту как раздражителю, как причине возникновения психического процесса. Непосредственность означает прямое взаимодействие субъекта с объектом. Безусловность означает, что результат взаимодействия (ощущение) возникает независимо от воли субъекта; он не в состоянии его изменить или устранить. Причинно-следственность указывает на направление процесса — от объекта к субъекту: изменения в объективном мире вызывают изменения в субъективном мире, т. е. появление, изменение или исчезновение ощущения, но не наоборот (вспомним принципы объективности и детерминизма). Ощущения и восприятия позволяют ориентироваться в среде и отвечать на вопросы «что?» и «где?». Следовательно, они соотносятся с базисным понятием пространства. Мышление в образной (представления) и знаковой (речь) формах выполняет активное отражение, так как позволяет путем активных преобразований информации (в первую очередь путем логических рассуждений) проникнуть в сущность явлений, скрытую от непосредственного чувственного познания через ощущения и восприятия. Этот психический процесс сопоставим с информационной частью пентабазиса. Аффект реализует функцию реактивного приспособительного регулирования в форме эмоций и чувств. В них обобщен опыт индивида и предшествующих поколений, что позволяет соотнести аффект с базисным понятием времени. Воля выполняет активное регулирование через волевые действия, побудителями которых выступают мотивы. Воля как движущая сила сопоставима с понятием энергии. Интеграция производится сознанием и так называемыми «сквозными» процессами (память и внимание). Память объединяет информацию в одном хранилище, а внимание «связывает» субъекта с объектом психической деятельности.
Мышление в образной (представления) и знаковой (речь) формах выполняет активное отражение, так как позволяет путем активных преобразований информации (в первую очередь путем логических рассуждений) проникнуть в сущность явлений, скрытую от непосредственного чувственного познания через ощущения и восприятия. Этот психический процесс сопоставим с информационной частью пентабазиса. Аффект реализует функцию реактивного приспособительного регулирования в форме эмоций и чувств. В них обобщен опыт индивида и предшествующих поколений, что позволяет соотнести аффект с базисным понятием времени. Воля выполняет активное регулирование через волевые действия, побудителями которых выступают мотивы. Воля как движущая сила сопоставима с понятием энергии. Интеграция производится сознанием и так называемыми «сквозными» процессами (память и внимание). Память объединяет информацию в одном хранилище, а внимание «связывает» субъекта с объектом психической деятельности. Сознание олицетворяет собой высшего интегратора, в котором объединены все психические функции. Психика в целом функционирует в некоторой среде. На «входе» расположены первичные психические процессы — ощущения и эмоции. На «выходе» — действие и речь как явления, результирующие внутреннюю работу психики.
Сознание олицетворяет собой высшего интегратора, в котором объединены все психические функции. Психика в целом функционирует в некоторой среде. На «входе» расположены первичные психические процессы — ощущения и эмоции. На «выходе» — действие и речь как явления, результирующие внутреннюю работу психики.
Эту схему мы пока принимаем за исходную для системного изложения дальнейшего материала. Наложением на нее ряда дополнений и изменений можно получить более подробную схему функциональной структуры психики человека.
Страница 2 из 6 1.2. Многообразие подходов к проблеме предмета
|
Читать «Психология: Шпаргалка» — Коллектив авторов — Страница 1
Психология:
Шпаргалка
1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА. ПРЕДМЕТИ ОБЪЕКТ НАУКИ. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ. ДУША КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основе развития психологии лежит интерес к природе человеческого бытия, условиям его развития и формирования в человеческом обществе, особенностям отношений человека с другими людьми. Само название предмета в переводе с древнегреческого означает – наука о душе (по гречески psyche – душа, logos – наука).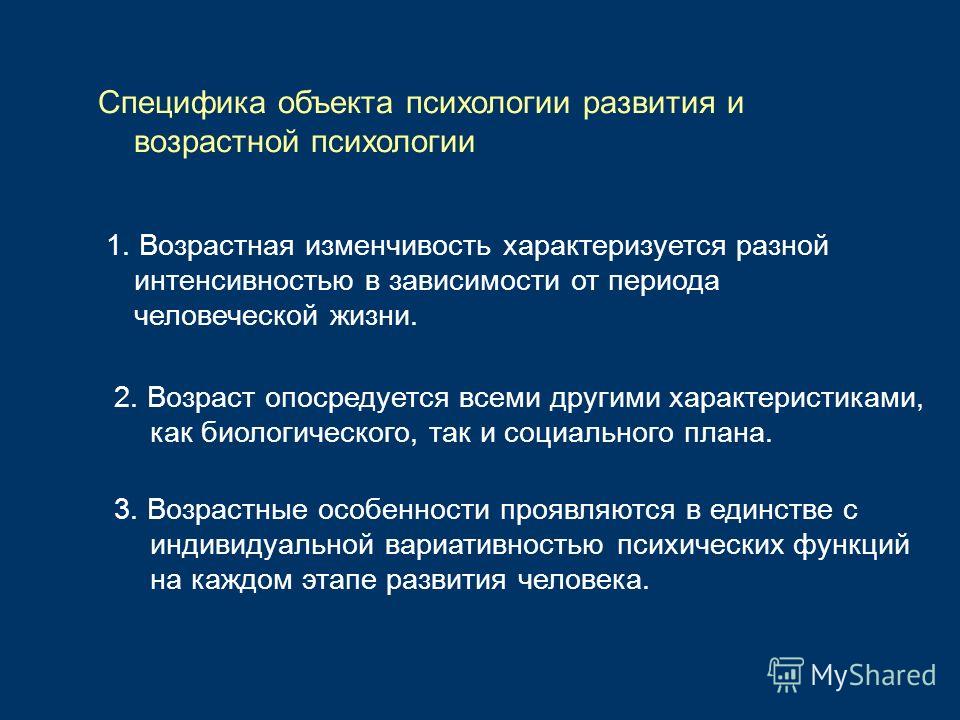
Предметом научного изучения в психологии являются конкретные факты психической жизни, которые характеризуются качественно и количественно. Но научная психология не ограничивается описанием психологического факта, она требует перехода от описания явлений к их объяснению. Это предполагает раскрытие законов, которым подчиняются эти явления. Следовательно, предметом изучения в психологии являются психологические законы.
Основная задача психологии – изучение законов психической деятельности в ее развитии. Область явлений, изучаемых психологией, – различные процессы состояния и свойства человека, имеющие разную степень сложности. Теоретическая работа включает сопоставление и соединение накапливаемых знаний, их систематизацию. Ее главная цель – раскрыть сущность изучаемых явлений. Поэтому возникают методологические проблемы. Б.Ф. Ломовым были выдвинуты главные категории психологии: отражение, деятельность, личность, общение, понятия «социальное» и «биологическое». Выявление связей социальных и природных свойств человека – еще одна задача психологии.
Исследование системы психических явлений, направленных на раскрытие объективных законов, которым они подчиняются, имеет важное значение для создания научной базы психологии, решения общественных задач и т. д.
Во все времена предметом психологии была душа человека. В разное время в это понятие вкладывался разный смысл. В эпоху Античности душа понималась как первооснова тела, т. е. душа – это основа мира, из которой состоит все живое. Главная задача души – придание телу активности, так как, по представлениям ученых-психологов, тело является инертной массой, которую приводит в движение именно душа.
В эпоху Средневековья душа стала предметом богословия. Поэтому в область исследования входило изучение видов активности тела и всего чувственного познания мира. Волевое поведение, логическое мышление считались прерогативой божественной воли, а не материальной души.
В Новое время психология стремилась стать объективной, рациональной, т. е. основанной на доказательствах, на разуме, а не на вере.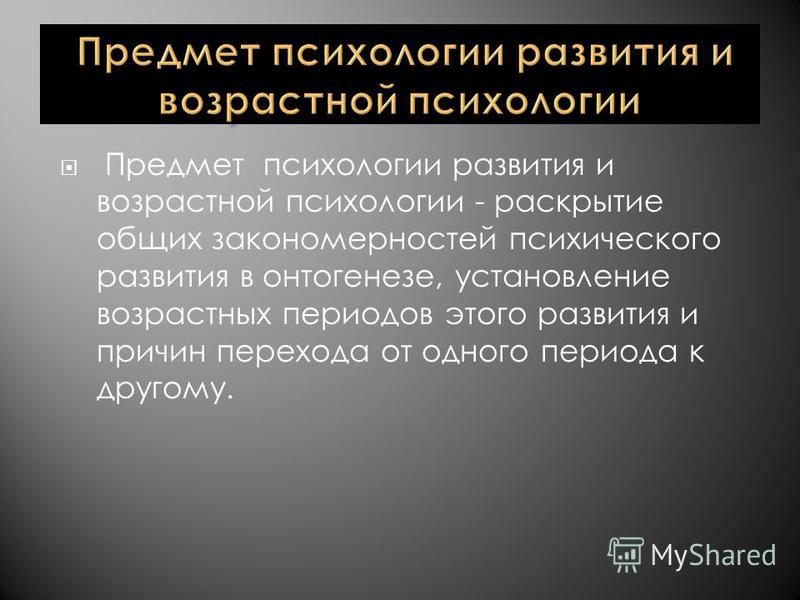 Поэтому предметом психологии становится сознание. Это привело к тому, что уже к XVIII в. предметом психологии стало изучение познавательных процессов. Но поведение человека, эмоциональные процессы, личность не вошли в этот предмет.
Поэтому предметом психологии становится сознание. Это привело к тому, что уже к XVIII в. предметом психологии стало изучение познавательных процессов. Но поведение человека, эмоциональные процессы, личность не вошли в этот предмет.
Благодаря развитию биологии, а также теории эволюции Ч. Дарвина, работам Г. Спенсера и других исследователей психология отошла от философии, соединив себя с естественными дисциплинами. Теперь кроме познавательных процессов в предмет психологии входят и поведение, и эмоциональные процессы.
2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИИ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
Психология прошла длительный путь развития, в котором можно выделить следующие этапы:
I – донаучный – до VII–VI вв. до н. э.
Это период, когда еще не существовало различных научных исследований психики, ее содержания и функций. В это время все представления о душе основывались на мифах и легендах, на сказаниях, религиозных обычаях и традициях.
II – научный, начинается на рубеже VII–VI вв.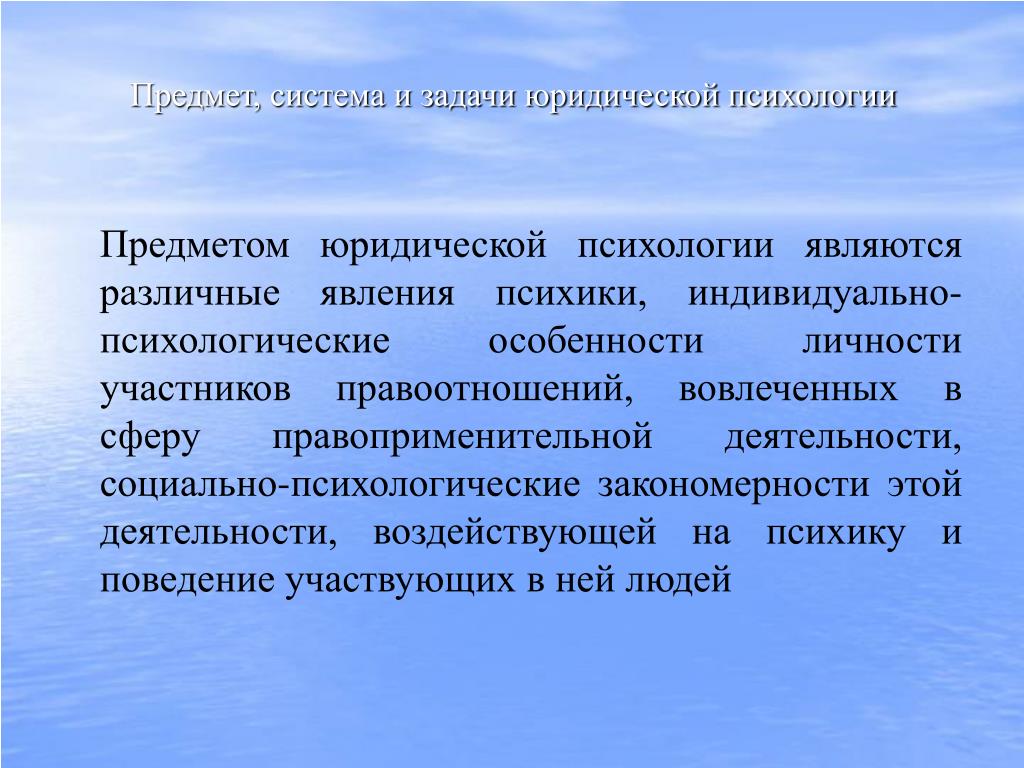 до н. э. В этот период психология развивалась под влиянием философии. Этот этап получил название «философского периода». Душа рассматривается как источник активности тела, обладает функциями познания и регуляции поведения. Специальных методов исследования пока еще нет. Используются методы других наук – философии, медицины, математики. Главные достижения – определение основных проблем психологии, связанных с исследованием познания, активности души и т. д.
до н. э. В этот период психология развивалась под влиянием философии. Этот этап получил название «философского периода». Душа рассматривается как источник активности тела, обладает функциями познания и регуляции поведения. Специальных методов исследования пока еще нет. Используются методы других наук – философии, медицины, математики. Главные достижения – определение основных проблем психологии, связанных с исследованием познания, активности души и т. д.
III – ассоцианистическая психология (конец XVIII – начало XIX вв.). Предметом психологии в этот период является сознание, которое состоит из ощущений, чувств и представлений. Для исследования психики используются логика, естественные науки. Появляется первая психологическая школа, возникают концепции об адаптационной функции психики, развитие теории рефлекса.
IV – экспериментальная психология (середина XIX – начало XX в.). Основное достижение – это главным образом появление первых симптомов методологического кризиса.
V – методологический кризис и разделение психологии на отдельные школы (10-30-е гг. XX в.). Психология делится на несколько предметов: вначале – элементы психики (структурализм), функции психики (функционализм), далее основные предметы – поведение, структуры психики (гештальтпсихология), высшие психические функции и деятельность (советская психология). Появляются такие новые методы, как психоанализ и проективные методы.
VI – дальнейшее развитие психологических школ (1940–1960 гг.). Возникают направления психологии, которые делают акцент на внутренний мир человека, его сущность (гуманистическая психология). В центре внимания – интеллект человека. Среди методов исследований появляются такие, как опросники.
VII – современная психология (вторая половина XX в.). Совершенствование экспериментальных методов исследования психики.
3. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ
Основными методами психологического исследования являются наблюдение и эксперимент.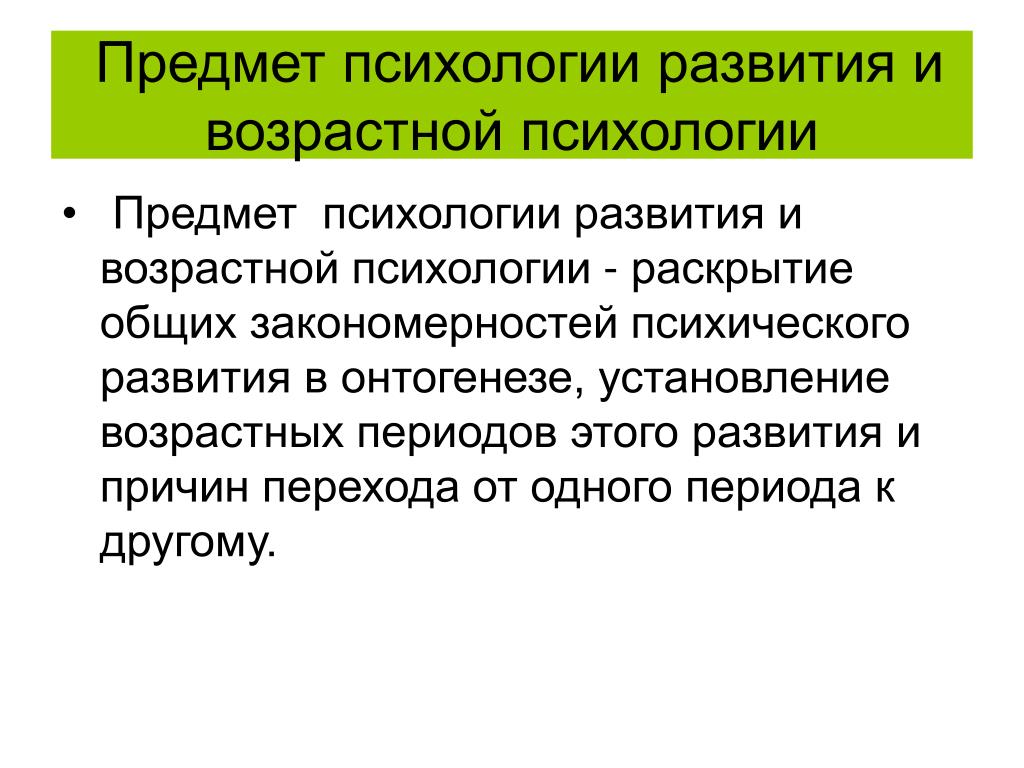 Очень популярны анкеты, тесты и анализ творческой деятельности.
Очень популярны анкеты, тесты и анализ творческой деятельности.
Самонаблюдение (интроспекция) – один из первых психологических методов. Это выбор метода для исследования душевных явлений, достоинством которого является способность непосредственного, прямого наблюдения за мыслями, переживаниями, стремлениями человека. Недостаток метода – его субъективность. Трудно проверить полученные данные и повторить результат.
Самый объективный метод – эксперимент. Существуют лабораторный и естественный виды эксперимента. Достоинство метода: высокая точность, возможность изучить факты, не доступные глазу наблюдателя, специальными приборами.
Большое распространение имеют лонгитюдные и «срезовые» исследования. Они применяются тогда, когда изучается определенная группа людей в течение длительного периода времени.
В психологии существует и формирующий эксперимент при анализе. Испытуемых разделяют на контрольную и экспериментальную группы, а работа проводится только с экспериментальной группой. Уровень развития изучаемого параметра замеряется в обеих группах до начала и в конце эксперимента. Затем анализируется разница между показателями. На основании этого анализа и делается вывод об эффективности формирующего воздействия.
Уровень развития изучаемого параметра замеряется в обеих группах до начала и в конце эксперимента. Затем анализируется разница между показателями. На основании этого анализа и делается вывод об эффективности формирующего воздействия.
Анкеты используются в психологии для получения данных у большой группы испытуемых. Существуют открытые и закрытые типы анкет. В открытом типе ответ на вопрос формируется самим испытуемым, в закрытых анкетах испытуемым надо выбрать один из вариантов предложенных ответов.
Интервью (или беседа) проводится с каждым испытуемым отдельно, поэтому не дает возможности получить подробную информацию так же быстро, как при использовании анкет. Но данные беседы позволяют зафиксировать эмоциональное состояние человека, его отношение, мнение к некоторым вопросам.
На рубеже XIX–XX вв. появился новый метод – тест. Его автор – английский ученый Ф. Гальтон. Для диагностики поступающих в школу детей он разработал серию вопросов разной степени сложности и на основании ответов определял уровень интеллекта, отсеивая детей с отставанием или задержкой умственного развития. Для каждого возраста разработаны вопросы, соответствующие уровню.
Для каждого возраста разработаны вопросы, соответствующие уровню.
Объект и предмет психологии. Задачи психологии
Предмет психологии как науки изменялся на протяжении ее исторического развития.
Функции психики – отражение окружающего мира и регуляция поведения и деятельности живого существа в целях обеспечения его выживания, осознание человеком своего места в окружающем мире.
Специфика психического отражения состоит в том, что психические явления – это субъективные отражения объективной действительности. Субъективное отражение неизбежно связано с преобразованием информации, поступающей извне, в соответствии с той позицией, которую занимает данный человек: в каждый акт отражения включается накопленный им опыт, как бы спрессованный специфический путь его индивидуального развития.
Изучая психику, современная
научная психология в круг своего
рассмотрения включает как собственно
психические явления, так и психологические
факты. К психическим явлениям относят
субъективные переживания или элементы
внутреннего опыта субъекта: психические
процессы, состояния и свойства.
Под психологическими фактами понимаются различные проявления психики – акты поведения, телесные и неосознаваемые психические процессы, психосоматические явления, продукты деятельности людей и др. Психические явления принято разделять на три большие группы: психические процессы, психические состояния и психические свойства. Они взаимосвязаны между собою, переходят один в другой, оказывают друг на друга взаимное влияние.
Психический процесс характеризуется как функциональная система в действии. Выделяют:
· процессы психической регуляции
(мотивационные процессы, которые инициируют,
определяют интенсивность и временную
организацию и направленность поведения.
Центральным моментом мотивационного
процесса является принятие решения и
выбор варианта действия, который позволяет
достичь наилучшего результата. Произвольную
регуляцию поведения и деятельности человека
обеспечивают процессы контроля. Они обычно
следуют за мотивационной активацией
и принятием решения.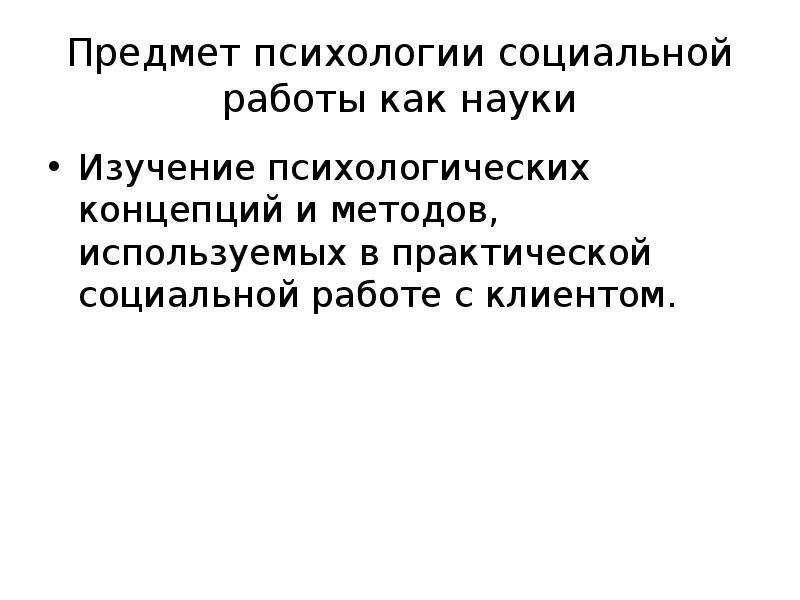 Благодаря им возможно
выполнение действия и достижение необходимого
результата;
Благодаря им возможно
выполнение действия и достижение необходимого
результата;
· когнитивные процессы, которые обеспечивают отражение мира и преобразование информации. К ним относятся ощущения, восприятие, память, мышление, речь, воображение, внимание;
· эмоциональные процессы, которые осуществляют избирательное отношение человека к внешним и внутренним воздействиям. Психологическая функция эмоций – оценка явлений окружающей действительности и результатов поведения и деятельности, которая проявляется в форме эмоционального переживания.
Психические состояния – определившийся в данное время относительно устойчивый уровень психической деятельности, который проявляется в повышенной или пониженной активности личности. К психическим состояниям относят проявления эмоций (радость, тревога, гнев и т.д.), проявление внимания (сосредоточенность, рассеянность), воли (решительность, растерянность), мышления (сомнение) и т.д.
Психические свойства – это устойчивые образования,
обеспечивающие определенный качественно-количественный
уровень деятельности и поведения, типичный
для данного человека. Психические свойства
– это сложные структурные образования
личности, к которым относят направленность
личности (систему интересов, убеждений,
потребностей, ценностей), темперамент,
характер, способности. Психические свойства
характеризуют человека в системе его
субъективных отношений к себе, к людям
и к миру в целом, проявляясь в каждом из
его поступков, деяний, поведении, стилях
деятельности, способах общения и взаимодействия.
Психические свойства
– это сложные структурные образования
личности, к которым относят направленность
личности (систему интересов, убеждений,
потребностей, ценностей), темперамент,
характер, способности. Психические свойства
характеризуют человека в системе его
субъективных отношений к себе, к людям
и к миру в целом, проявляясь в каждом из
его поступков, деяний, поведении, стилях
деятельности, способах общения и взаимодействия.
Психология как наука развивается в условиях крайнего плюрализма, при наличии разных точек зрения по поводу многих фундаментальных вопросов, в т.ч. и проблемы предмета психологии. Тем не менее, для обозначения явлений, изучением которых вы будете заниматься, необходимо дать общее определение. Психология – многоотраслевая область научного знания, предметом изучения которой являются закономерности психики как особой формы жизнедеятельности человека и поведения животных.
Психология, как любая
наука, решает теоретические и практические
задачи. Основными ее задачами являются:
качественное изучение принципов и
закономерностей
Основными ее задачами являются:
качественное изучение принципов и
закономерностей
Психологи, как и представители
других наук, делятся на две категории.
Одних психологов интересуют теоретические
аспекты. Они наблюдают психические
явления и психологические
Практический психолог решает множество повседневных задач и вопросов. Но главной целью его деятельности является психическое и психологическое здоровье населения.
4. Объект психологии.
Объект психологии.
Каждая
наука имеет свой предмет, свое
направление познания и с bow конкретный объект исследования
Объект — далеко не весь предмет, а только тот аспект предмета, иногда совсем незначительный, который исследуется субъектом науки, т.е. ученым. Объект — это только аспект предмета, который включен в тот или иной процесс духовного освоения, в познавательную деятельность субъекта. Причем другая часть предмета, и нередко весьма значительная, неизбежно остается за пределами процесса познания.
Учет
этого различия особенно важен
для понимания специфики
С учетом
этого различия предмет и 
Объект психологии — это закономерности психики как особой формы жизнедеятельности человека и поведения животных. Эта форма жизнедеятельности в связи с ее многоплановостью может изучаться в самых разнообразных аспектах, которые исследуются различными отраслями психологической науки.
Они имеют
в качестве своего объекта: нор
Масштабность
предмета психологии и
Наличие
несоизмеримых психологических
теорий также порождает проблем Для
бихевиориста объектом изучения является
поведение, для христианского психолога
— живое знание греховных страстей и пастырское
искусство врачевания их. для психоаналитика
— бессознательное и т.д.
Для
бихевиориста объектом изучения является
поведение, для христианского психолога
— живое знание греховных страстей и пастырское
искусство врачевания их. для психоаналитика
— бессознательное и т.д.
Естественно
встает вопрос: возможно ли говорить
о психологии как единой науке,
Сегодня
психологи считают, что 
Важнейшим
итогом развития любой науки
является создание своего
Каждая
наука имеет свой комплекс, набор
категорий, свой
- психические процессы — это понятие означает, что современная психология рассматривает психические явления не как что-то изначально данное в готовом виде, а как нечто формирующееся, развивающееся, как динамичный процесс, порождающий определенные результаты в виде образов, чувств, мыслей и т.п.;
- психические состояния — бодрости или подавленности, работоспособности или усталости, спокойствия или раздражительности и т.
 п.;
п.; - психические свойства личности — с с общая направленность на тс или иные жизненные цели, темперамент, характер, способности. присущие человеку на протяжении длительного периода его жизни, например трудолюбие, общительность и т.п.;
- психические новообразования — приобретенные в течение жизни знания, умения и навыки, которые являются результатом активности индивида.
Конечно, указанные психические феномены существуют не отдельно, не изолированно. Они тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Так. например, состояние бодрости обостряет процесс внимания, а состояние подавленности приводит к ухудшению процесса восприятия
Объектом психологии можно
считать психическую
Существует много различных
точек зрения на то, что изучает психология.
Психология должна отвечать на вопрос
о том, почему носитель психики ведёт себя так или иначе (поведение
животных исследует раздел психологии
«зоопсихология» и раздел зоологии «этология»). Для описания того теоретического конструкта, которым можно объяснить поведение
человека, существуют разные названия,
наиболее частое из которых —психика. Однако, например, бихевиористы отверга
Для описания того теоретического конструкта, которым можно объяснить поведение
человека, существуют разные названия,
наиболее частое из которых —психика. Однако, например, бихевиористы отверга
5. Задачи психологии.
Главной задачей психологии является познание психического путем раскрытия тех предметных связей, из которых психические явления впервые возникли и стали определяться как объективные факты. Поэтому психологическое познание понимается сегодня как опосредованное познание психического через раскрытие его существенных связей с окружающим миром.
При
таком понимании сущности психического
становится очевидным, что из всех наук
о человеке самой практичной является психология. Ведь
изучая ее. можно многое обнаружить и
в окружающем мире и в себе самом, и в других
людях.
Растущий
интерес к внутреннему
Работники,
занятые в сфере современного
производства, все в большей степени
осознают свою деятельность не
только как использование
Акио Морита — руководитель известной японской
электротехнической компании — утверждает,
что «успешным предприятие
могут сделать только люди».
Таким образом, для того чтобы
быть успешным, современный работник,
бизнесмен, менеджер, любой специалист
должен обеспечивать своей
Психология: когда субъект — объект
Одно неправильное представление о господствующей психологии кажется неизбежным: за исследованиями и статистикой, чтобы что-либо узнать, должен существовать воспринимающий субъект. Субъект и объект образуют базовую пару философских противоположностей в истории идей; путаница между ними только усиливается, когда субъект является объектом науки.
Работа Юнга проникла в суть этой проблемы, хотя его сравнительный метод сегодня остается почти таким же непонятым, как и столетие назад.Его понимание начинается с фактов восприятия.
Как он показал в работе Психологические типы , аргумент всегда вращался вокруг проекции более или менее экстравертных и интровертных точек зрения. Эти два взгляда на мир определяют то, как мы его воспринимаем. Чтобы получить более ясное представление об их влиянии на психологию, важно общее описание того, как мы воспринимаем, Юнгом:
Чтобы получить более ясное представление об их влиянии на психологию, важно общее описание того, как мы воспринимаем, Юнгом:
Интроверт «… ориентирован на фактор восприятия и познания, который реагирует на чувственный стимул в соответствии с субъективным расположением человека.Например, два человека видят один и тот же объект, но никогда не видят его таким образом, чтобы получаемые ими изображения были абсолютно идентичными. Помимо переменной остроты органов чувств и личного уравнения, часто существует радикальное различие, как по характеру, так и по степени, в психической ассимиляции перцептивного образа. “
Хотя экстраверт делает акцент на конкретном мире объектов, из-за субъективной природы восприятия описание Юнга применимо к обеим точкам зрения:
– Различие в случае единственной апперцепции, конечно, может быть очень тонким, но в общей психической экономии оно дает о себе знать в высшей степени, особенно в том воздействии, которое оно оказывает на эго. “
“
Научный метод начался с изучения объектов теми, кто интересовался так называемой объективностью. Проекции текли только в одном направлении; повторение, проверка и предсказание уменьшили субъективные эффекты отдельных точек зрения до такой степени, что определенные физические процессы можно было считать более или менее объективными, хотя и не хватало достаточного понимания субъективности восприятия. Юнг предупредил:
« Мы не должны забывать — хотя экстраверт слишком склонен к этому, — что восприятие и познание не являются чисто объективными, но также и субъективно обусловленными.Мир существует не только сам по себе, но и так, как мне кажется. На самом деле, по сути, у нас нет абсолютно никакого критерия, который помог бы нам сформировать суждение о мире, не ассимилируемом субъектом. ”Восприятие относится к субъективному суждению, которое не поддается количественной оценке.
Юнг объяснил, что из-за этого субъективного фактора «абсолютное познание» невозможно. Мы объективны настолько, насколько позволяют наши чувства. Объективность связана не только с ограничениями органов чувств (даже если они искусственно усилены), но и с личными суждениями о том, что мы воспринимаем и для каких целей.Помимо этих бессознательных предпосылок, простое накопление информации — это «эффект, который она оказывает на эго».
Мы объективны настолько, насколько позволяют наши чувства. Объективность связана не только с ограничениями органов чувств (даже если они искусственно усилены), но и с личными суждениями о том, что мы воспринимаем и для каких целей.Помимо этих бессознательных предпосылок, простое накопление информации — это «эффект, который она оказывает на эго».
Это «… позиция интеллектуального высокомерия, сопровождаемая грубостью чувств, нарушение жизни, столь же глупое, сколь и самонадеянное. Переоценивая нашу способность к объективному познанию, мы подавляем важность субъективного фактора, что просто означает отрицание предмета. Но в чем суть? Субъект — это сам человек, субъект — мы. Только больной ум может забыть, что у познания должен быть предмет, и что нет никакого знания и, следовательно, никакого мира, если только не было сказано «Я знаю», хотя этим утверждением уже было выражено субъективное ограничение всего знания.
– Это относится ко всем психическим функциям: у них есть субъект, который так же необходим, как и объект. Для нашего нынешнего экстравертного чувства ценностей характерно то, что слово «субъективный» обычно звучит как упрек… размахивая, как оружие, над головой любого, кто не безгранично убежден в абсолютном превосходстве объекта. »Товарный поезд объективной науки закрутил психологию в вопиющее противоречие:
Для нашего нынешнего экстравертного чувства ценностей характерно то, что слово «субъективный» обычно звучит как упрек… размахивая, как оружие, над головой любого, кто не безгранично убежден в абсолютном превосходстве объекта. »Товарный поезд объективной науки закрутил психологию в вопиющее противоречие:
– Под субъективным фактором я понимаю психологическое действие или реакцию, которые сливаются с эффектом, производимым объектом, и таким образом порождают новые психические данные. ”Так же точно, как мы отождествляем образы с вещами, они одновременно являются личными, коллективными, субъективными и объективными. Вот палка, которая болтает яблоком перед научным психологом:
– Поскольку субъективный фактор с древнейших времен и у всех народов оставался в значительной степени постоянным, а элементарные восприятия и познания почти всегда одинаковы, это реальность, которая так же твердо установлена, как и внешний объект. Если бы это было не так, никакая постоянная и неизменная реальность была бы просто немыслима, и любое понимание прошлого было бы невозможным. Таким образом, в этом смысле субъективный фактор является таким же неотъемлемым элементом, как протяженность моря и радиус Земли. “
Таким образом, в этом смысле субъективный фактор является таким же неотъемлемым элементом, как протяженность моря и радиус Земли. “
Факт есть факт, правда? Только когда мы получим более широкое представление о том, насколько рациональное и иррациональное может быть относительным по отношению к воспринимающей среде. Грандиозные представления о «теории всего» рано или поздно натолкнутся на эти ограничения:
– Точно так же субъективный фактор имеет всю ценность как фактор, определяющий мир, в котором мы живем, фактор, который ни в коем случае нельзя исключать из наших расчетов.Это еще один универсальный закон, и тот, кто опирается на него, имеет такое же надежное, постоянное и действенное основание, как и человек, который полагается на объект. Но точно так же, как объект и объективные данные не остаются неизменными навсегда, будучи скоропортящимися и подверженными случайностям, субъективный фактор также подвержен вариациям и индивидуальным опасностям. По этой причине его стоимость также является относительной. “
“
Для примера того, как сравнительный метод Юнга может быть применен для поиска субъективного значения за пределами интеллекта, читайте дальше.
границ | Тело как субъект в иллюзии четырех рук
Целью данной статьи является философский взгляд на феноменологическое различие между «телом как объектом» и «телом как субъектом» (Merleau-Ponty, 1945/1962; Legrand, 2010). Согласно этой точке зрения, можно испытать собственное тело или часть тела либо как объект , либо как субъект , но не может испытать его как оба одновременно . Мерло-Понти однажды дал хорошую иллюстрацию:
. «Я могу левой рукой ощущать свою правую руку, когда она касается объекта, правая рука как объект не является правой рукой, когда она касается: первая — это система костей, мышц и плоти, сброшенная на точка пространства, вторая стреляет через пространство, как ракета, обнажая внешний объект на своем месте.В той мере, в какой оно видит мир или касается его, мое тело, следовательно, нельзя ни увидеть, ни потрогать »(1945/1962, 105).
Идея состоит в том, что при прикосновении к правой руке воспринимается как объект , то есть как система костей и мышц в определенном месте, которую можно увидеть или потрогать. Это переживание тела как объекта. Когда та же самая правая рука касается чего-либо, она воспринимает как субъект , который выполняет активное движение. Или, в случае всего тела, тело воспринимается как телесный субъект, который воспринимает мир и действует в нем.
Два коротких замечания относительно понятия «субъект» в этой статье: во-первых, субъект в сознательном состоянии — это тот, который обладает перспективой от первого лица (1PP) в этом состоянии. В этом отношении мы согласны с Легран, когда она говорит, что 1ПП «привязан к себе в смысле привязанности к точке зрения переживающего, воспринимающего, действующего субъекта» (2007a, стр. 584). Во-вторых, мы также согласны с Леграном (2006, 2010) в том, что субъект сознательного состояния не является картезианским эго; скорее, это, по сути, телесное «я». С этой точки зрения, «тело» в «теле-как-субъект» толкуется как «испытывающее тело» и «телесный агент». Следовательно, переживание тела как субъекта — это переживание на уровне человека.
С этой точки зрения, «тело» в «теле-как-субъект» толкуется как «испытывающее тело» и «телесный агент». Следовательно, переживание тела как субъекта — это переживание на уровне человека.
Мерло-Понти подчеркивал, что переживание тела как субъекта фундаментально отличается от переживания того же самого тела как объекта: «Я наблюдаю за внешними объектами своим телом, я обращаюсь с ними, исследую их, хожу вокруг них, но само мое тело это вещь, которую я не наблюдаю: для того, чтобы иметь возможность сделать это, мне нужно было бы использовать второе тело, которое само было бы ненаблюдаемым »(1945/1962, стр.104). Это говорит о том, что я могу воспринимать свое тело как субъект только тогда, когда оно , а не как объект. Эти два типа переживаний не могут иметь место в одном и том же теле или части тела одновременно , то есть они взаимоисключающие.
Чтобы сформулировать эту точку зрения, рассмотрим то, что Мерло-Понти называл «двойными ощущениями»: «Когда я сжимаю две руки вместе, это не вопрос двух ощущений, которые ощущаются вместе, когда один воспринимает два объекта, расположенных рядом, а вопрос неоднозначного установка, в которой обе руки могут чередовать роли «прикосновения» и «прикосновения». «Под« двойными ощущениями »имелось в виду то, что, переходя от одной роли к другой, я могу идентифицировать руку, к которой прикасается, как ту же руку, которая через мгновение будет касаться» (1945/1962, стр. 106) . В этом случае обе мои руки сжимают друг друга и нажимают одновременно. Идея состоит в том, что даже в этом случае переживания прикосновения и прикосновения несовместимы, поэтому они чередуются между двумя руками. По словам самого Мерло-Понти, «две руки никогда не находятся одновременно в отношениях прикосновения и прикосновения друг к другу» (1945/1962, стр.106). Принимая во внимание эту идею, точку зрения Мерло-Понти можно сформулировать следующим образом:
«Под« двойными ощущениями »имелось в виду то, что, переходя от одной роли к другой, я могу идентифицировать руку, к которой прикасается, как ту же руку, которая через мгновение будет касаться» (1945/1962, стр. 106) . В этом случае обе мои руки сжимают друг друга и нажимают одновременно. Идея состоит в том, что даже в этом случае переживания прикосновения и прикосновения несовместимы, поэтому они чередуются между двумя руками. По словам самого Мерло-Понти, «две руки никогда не находятся одновременно в отношениях прикосновения и прикосновения друг к другу» (1945/1962, стр.106). Принимая во внимание эту идею, точку зрения Мерло-Понти можно сформулировать следующим образом:
«Тело как объект и тело как субъект — это два разных и несовместимых вида опыта, так что они не могут иметь место одновременно в одном и том же теле или части тела; скорее, между двумя способами переживания может быть только изменение ».
Мы назовем эту точку зрения Тезис об экспериментальном исключении .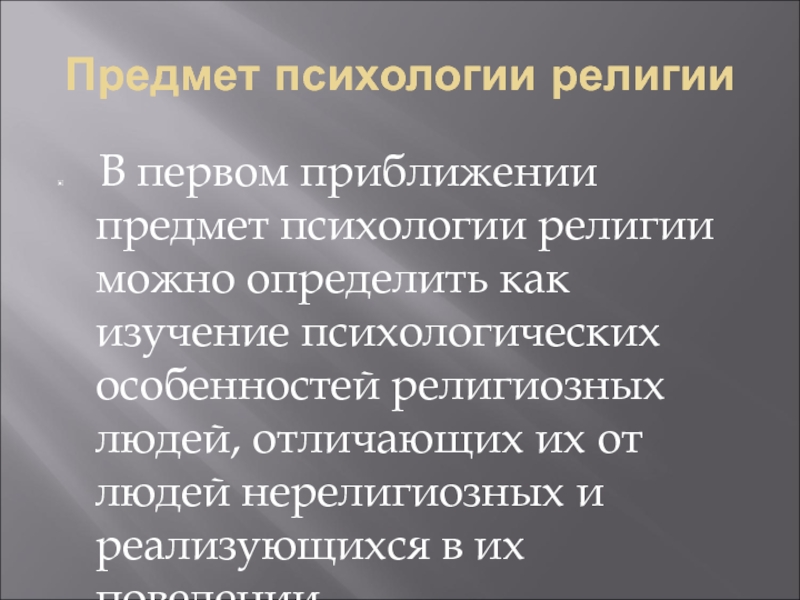
Что касается тела как субъекта, Мерло-Понти далее сказал: «Что мешает ему когда-либо быть объектом… это то, благодаря чему существуют объекты.Он не ощутим и не видим, поскольку это то, что видит и касается. Таким образом, тело не является еще одним из внешних объектов… тело больше не воспринимается как объект мира, а как наше средство связи с ним »(1945/1962, стр. 105, 106). В другом месте Мерло-Понти сказал: «Я перемещаю внешние объекты с помощью своего тела, которое захватывает их в одном месте и перемещает в другое. Но само мое тело я двигаюсь напрямую, я не нахожу его в одной точке объективного пространства и не переносю в другую, мне не нужно его искать, оно уже со мной »(1945/1962, с.108). В этих отрывках Мерло-Понти объяснил, чем переживания тела и части тела отличаются от переживаний внешних объектов. Он думает, что воспринимающее тело (или касающаяся руки) не воспринимается как объект, потому что это средство, с помощью которого мы взаимодействуем с окружающей средой. Тело — это, так сказать, канал, через который нам могут поступать внешние объекты. Следовательно, поскольку мы воспринимаем внешние объекты через тело, само тело не является объектом восприятия.Эти соображения можно принять в поддержку тезиса об экспериментальном исключении.
Тело — это, так сказать, канал, через который нам могут поступать внешние объекты. Следовательно, поскольку мы воспринимаем внешние объекты через тело, само тело не является объектом восприятия.Эти соображения можно принять в поддержку тезиса об экспериментальном исключении.
Это различие между «телом как объектом» и «телом как субъектом» было разработано и защищено несколькими философами, которые выполнили междисциплинарные работы между феноменологией и когнитивной наукой (Галлахер, 2005, 2012; Захави, 2005, с. 2014; Legrand, 2006, 2007а, б, 2010). Согласно Леграну, случай тела-как-объекта — это когда чье-то тело «воспринимается как интенциональный-объект , то есть как объект, на который направлен интенциональный акт сознания» (Легран, 2010, стр.187). Например, когда я смотрю на свое тело в зеркало, я воспринимаю свое тело как объект видения. Напротив, в случае тела как субъекта , а не воспринимает тело как какой-либо интенциональный объект. Используя тот же пример: хотя мое внимание сосредоточено на изображении тела в зеркале, я все же неявно ощущаю себя тем, кто смотрит в зеркало. Это переживание себя как воспринимающего субъекта иллюстрирует ощущение тела как субъекта (Legrand, 2010, стр.188). Следуя Мерло-Понти (1945/1962), Легран считает, что тело-как-объект и тело-как-субъект — это фундаментально разные и несовместимые способы переживания: «По определению, тело- как-субъект само по себе отсутствует . -как-интенциональный-объект »(Legrand, 2010, с. 189, выделено нами, см. также 193). Одно и то же тело или часть тела не могут находиться в обоих режимах одновременно; это может быть либо одно, либо другое.
Это переживание себя как воспринимающего субъекта иллюстрирует ощущение тела как субъекта (Legrand, 2010, стр.188). Следуя Мерло-Понти (1945/1962), Легран считает, что тело-как-объект и тело-как-субъект — это фундаментально разные и несовместимые способы переживания: «По определению, тело- как-субъект само по себе отсутствует . -как-интенциональный-объект »(Legrand, 2010, с. 189, выделено нами, см. также 193). Одно и то же тело или часть тела не могут находиться в обоих режимах одновременно; это может быть либо одно, либо другое.
В этой статье мы оспариваем изложенную выше точку зрения Мерло-Понти и Леграна.Недавно мы разработали серию экспериментов, которые вызывали «иллюзию четырех рук», так что участники чувствовали себя так, как будто у них есть дополнительная пара рук (Chen et al., 2018). После описания экспериментов мы показываем, что ключевой компонент иллюзии четырех рук исключает «альтернативный счет» телесного опыта. Он представляет собой убедительный аргумент в пользу того, что переживания тела как объекта и тела как субъекта не всегда несовместимы друг с другом, и, следовательно, представляет собой важный контрпример против тезиса об исключении опыта. Мы утверждаем, что здоровый субъект может одновременно ощущать одни и те же части тела как как субъект, так и как объект. Затем будет сделано несколько замечаний по поводу других потенциальных контрпримеров. Наша цель не в том, чтобы уничтожить различие между телом как объектом и телом как субъектом, а показать, что оно не так жестко, как предполагают феноменологи.
Мы утверждаем, что здоровый субъект может одновременно ощущать одни и те же части тела как как субъект, так и как объект. Затем будет сделано несколько замечаний по поводу других потенциальных контрпримеров. Наша цель не в том, чтобы уничтожить различие между телом как объектом и телом как субъектом, а показать, что оно не так жестко, как предполагают феноменологи.
Иллюзия четырех рук
Экспериментальные установки сочетают в себе 1PP и вид от третьего лица (3PP).Участник носил налобный дисплей (HMD), соединенный со стереокамерой, расположенной рядом с экспериментатором. Сидя лицом к лицу, и участник, и экспериментатор кладут руки на стол. После того, как участник надел шлем, на тыльной стороне всех четырех рук была прикреплена цветная бирка. Эксперимент 1 представлял собой пассивное четырехстороннее условие; Эксперимент 2 представлял собой активное четырехручное состояние без тактильных раздражений. Для нашей цели ключевым был Эксперимент 3 — активное участие четырех рук с тактильной стимуляцией (рис. 1).С помощью HMD участник перенял визуальный 1ПП экспериментатора, как если бы это был его / ее собственный 1ПП. Участник видел через HMD изображение четырех рук: руки экспериментатора (с красными метками) были видны из принятой 1PP, так что они выглядели так, как если бы участник смотрел прямо на свои руки (в дальнейшем, 1PP- руки), а собственными руками участника (с синими метками) от принятой 3ПП в обратном направлении (180 °) (далее — 3ПП-руки). Все четыре руки чистили синхронно в течение 60 с.Затем и участника, и экспериментатора просили постучать по столу указательными пальцами примерно раз в секунду. Примерно через 15 с участнику было дано указание прекратить постукивание, после чего последовал перерыв на 10 с, а затем был повторен тот же цикл постукивания. Во время этих двух циклов постукивания, включая перерыв между ними, все четыре руки продолжали чистить щеткой синхронно. В синхронном режиме экспериментатор постукивал указательными пальцами синхронно по отношению к участнику, так что участник видел, как все четыре руки действуют в одном и том же порядке.В асинхронном режиме экспериментатор намеренно постукивал указательными пальцами асинхронно по отношению к движениям пальцев участника с разницей во времени в пределах примерно 0,4–0,6 с. Каждое условие сопровождалось измерениями коэффициента отражения проводимости кожи (SCR) на руках экспериментатора и испытуемого, а также анкеты, представленной на HMD. Вся процедура заняла около 180 с.
Рисунок 1 . Постановка иллюзии с четырьмя руками. В эксперименте 3 руки экспериментатора были видны через HMD из принятой 1PP с красными метками, а собственные руки участника были видны через HMD из принятой 3PP (180 ° в обратном направлении) с синими метками.И участник, и экспериментатор постукивали указательными пальцами и получали тактильную стимуляцию. Для измерения SCR два одноразовых электрода из пеноматериала были прикреплены к внутренней стороне левой ладони участника. Провода аккуратно подкладывались под руку участника. Таким образом, и электроды, и провода не будут видны участнику через HMD. Этот рисунок и его описания взяты из работы Chen et al. (2018).
Отличительной особенностью эксперимента 3 было то, что он включал как «кинестетическое ощущение движения» (субъект ощущает свое собственное активное движение посредством кинестезии и проприоцепции), так и «визуальное ощущение движения» (движение, которое участник видит через HMD. ), которые были интегрированы в синхронном состоянии.Вот основные экспериментальные результаты: по сравнению с экспериментами 1 и 2 мы обнаружили, что иллюзия четырех рук была вызвана в синхронных условиях эксперимента 3. Средние значения ключевого утверждения анкеты (Q7, таблица 1) были значительно выше в синхронное состояние, чем в асинхронном состоянии. Шестьдесят восемь процентов участников в синхронном режиме положительно ответили, что у них на 2 рук больше . Это было подтверждено различными анализами. Во-первых, различные статистические сравнения показали, что в этом состоянии индуцировалось как чувство собственности 1PP-рук, так и чувство собственности 3PP-руками.Во-вторых, по сравнению с экспериментами 1 и 2, чувство принадлежности к телу и чувство свободы действий рук 1PP были значительно сильнее в эксперименте 3. Вместе эти результаты предполагают, что иллюзия четырех рук была успешно вызвана в эксперименте 3. Синхронизация постукивание пальцами и синхронная тактильная стимуляция вместе способствовали возникновению иллюзии четырех рук.
Таблица 1 . Заявления анкеты.
Оспаривание тезиса об исключении опыта
Как упоминалось выше, согласно Мерло-Понти и Леграну, субъект не может ощущать свое собственное тело или части тела одновременно как объект и как субъект.В этом разделе мы выступаем против этой точки зрения. Мы утверждаем, что в случае иллюзии четырех рук переживание тела как объекта и переживание тела как субъекта могут иметь место одновременно. Точнее, в синхронных условиях Эксперимента 3, 1PP-руки одновременно воспринимались и как объект намерения, и как осуществляющие действие. Это привело к новому опыту, в котором опыт тела как объекта и опыт тела как субъекта совместимы друг с другом и не чередуются, так что это представляет собой серьезную проблему для тезиса об исключении опыта.Давайте уточним.
Относительно легко объяснить, почему 1ПП-руки воспринимались как объект. В иллюзии с четырьмя руками 1PP-руки были объектами видения участников. Субъективный опыт участников с 1PP-руками соответствует описанию Мерло-Понти тела как объекта, который можно наблюдать или обрабатывать: «Правая рука как объект — это… система костей, мышц и плоти, сброшенных в точку. космоса »(1945/1962, с. 105). По словам Леграна, когда участники наблюдали за 1PP-руками через HMD, их было , а не отсутствующих как преднамеренных объектов.Скорее, 1PP-руки были «приняты как интенциональный объект , то есть как объект, на который направлен намеренный акт сознания» (Legrand, 2010, с. 187). Таким образом, во время иллюзии 1ПП-руки воспринимались как объект.
Сложнее обстоит дело с тем, были ли 1PP-руки также испытаны как субъекты. Три набора соображений позволяют предположить, что ответ положительный. Во-первых, когда участники испытали иллюзию четырех рук, они не только чувствовали, что 1PP-руки были их руками, но также чувствовали, что тактильные ощущения находятся в этих руках.Что еще более важно, участники также чувствовали, что могут контролировать 1PP-руки. Эти результаты идеально соответствуют описанию Мерло-Понти тела-как-субъекта, согласно которому «правая рука, когда она касается… стреляет через пространство, как ракета, обнажая внешний объект на своем месте» (1945/1962, стр. 105). Например, благодаря синхронному и активному движению пальцев участники экспериментов с 1PP-руками выявили поверхность и расположение стола, по которому они постучали. 1PP-руки воспринимались как субъекты, потому что участники испытывали синхронизированное кинестетическое ощущение движения и визуальное ощущение движения в этих руках.Субъективные переживания участников 1PP-рук также соответствуют характеристикам тела как субъекта Леграна: «тело, как оно действует и воспринимает, то есть тело как точка конвергенции действия и восприятия» (2006, с. с. 108, курсив оригинала). Легран поддерживает пример Мерло-Понти, упомянутый выше, и говорит: «Парадигматический пример — это опыт прикосновения руки как касания (в отличие от руки как прикосновения), которая не является объектом опыта, а переживается как субъект соответственно. с предметом, которого коснулись »(2010, с.189, курсив оригинала). Следовательно, данные, собранные в синхронных условиях Эксперимента 3, убедительно свидетельствуют о том, что участники испытывали 1PP-руки как субъекты.
Во-вторых, опыт участников с 1PP-руками полностью соответствовал другим характеристикам Леграна восприятия тела как субъекта: (1) Легран характеризует «испытывающий субъект» как «переживающее тело» (2010, стр. 191) и «телесный агент» (2007b, стр. 503), и говорит, что «воспринимающее я соответствует телу как субъекту» (2010, стр.188). Испытывая синхронные тактильные ощущения и выполняя постукивающие действия, участники, испытавшие иллюзию четырех рук, ощущали себя воспринимающим «я», а также испытывающим телом и телесным агентом. (2) Легран говорит: «Переживание касающейся руки… соответствует тому, что я здесь называю дорефлективным телесным сознанием. На этом уровне тело… является субъектом опыта, и оно переживается как таковое »(2007b, стр. 499). Опыт участников с 1PP-руками соответствовал тому, что она называет «дорефлективным телесным сознанием», и, следовательно, было переживанием тела как субъекта в соответствии с описанием Леграна здесь.(3) Легран также говорит: «Чье-то тело-субъект-в-мире всепроникающе переживается, поскольку оно структурирует любой опыт, привязывая его к пространственно-временному положению тела переживающего» (2010, с. 190) . Это было хорошо проиллюстрировано опытом участников «субъективного тактильного местоположения»: из-за визуальных манипуляций в нашем эксперименте синхронные тактильные стимуляции ощущались так, как если бы они находились на руках, видимых из 1PP участников.
В-третьих, Келли (2002) дает довольно иную интерпретацию примера Мерло-Понти касания правой руки левой рукой.В интерпретации Келли «тело как субъект» определяется в терминах «двигательной интенциональности». По словам Келли, наиболее важной чертой моторной интенциональности является то, что телесная активность, которая демонстрирует моторную интенциональность, «не имеет в своей основе того вида автономного репрезентативного содержания, к которому субъект мог бы иметь отношение» (2002, стр. 390). . То есть различие между содержанием и отношением не применяется к двигательной интенциональной деятельности, такой как захват объекта. Мы хотели бы сделать два замечания, чтобы предположить, что наша точка зрения относительно опыта рук 1PP на самом деле совместима с интерпретацией Келли.
(1) Подумайте, как Келли характеризует минимальное требование для применения различия содержания / отношения:
«Один стандартный способ охарактеризовать состояние убеждений — это суждение, состоящее из концепций, которыми обладает субъект, пользующийся верой. Если Салли считает, что прорезь ориентирована, например, под 45 °, тогда мы можем сказать, что Салли обладает концепциями [прорезь] и [ориентирована под 45 °]. Как минимум это означает, что она способна развлечь по крайней мере некоторые другие мысли, связанные с этими концепциями — например, мысли о прорезях, которые не ориентированы под углом 45 °, и мысли о вещах, отличных от прорезей, которые так ориентированы.Утверждение, состоящее из понятий [прорезь] и [ориентация под 45 °], представляет собой представление о том, как устроен мир, к которому Салли относилась с верой (2002, стр. 387) ».
Есть веские причины считать, что участники, испытавшие иллюзию четырех рук, не соответствовали этому минимальному требованию. Иллюзия с четырьмя руками была новой иллюзией, о которой впервые сообщили Чен и др. (2018), и все участники были наивными испытуемыми. Эта иллюзия была непроизвольной и дала участникам новый опыт.Следовательно, можно с уверенностью предположить, что участники не обладали такими понятиями, как [у меня четыре руки], [тело с четырьмя руками] или [субъективное тактильное расположение] и т. Д., Чтобы применить эти концепции к себе, когда иллюзия впервые возникла. им. Таким образом, был, по крайней мере, период времени, в течение которого они не были способны поддерживать некоторые другие относящиеся к делу мысли, и, следовательно, у них не было «того вида автономного репрезентативного содержания, к которому субъект мог бы иметь отношение».
(2) Келли использует различные случаи, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения относительно того, почему различие содержания / отношения не применимо к двигательной интенциональной деятельности.Если мы рассмотрим характеристики этих случаев Келли, мы увидим, что переживания 1PP-руки в иллюзии четырех рук также соответствуют этим характеристикам. Например, при обсуждении хватательной деятельности Келли говорит, что «понимание всего объекта, которое у меня есть, когда я хватаю его, это не понимание, которое я могу получить независимо от моей телесной активности по отношению к нему» (2002, стр. 385) , и что «наше телесное понимание само по себе является своего рода пониманием объекта» (2002, стр.386). Точно так же, когда участники испытывали иллюзорные чувства собственности и свободы воли в руках 1PP, этот опыт воплощал своего рода понимание того, что руки 1PP воспринимались как субъекты. Опыт 1PP-рук как субъекта не был независимым от чувства собственности участников и чувства свободы воли. Мы не утверждаем, что наши взгляды и цели совпадают с точкой зрения Келли. В то время как обсуждения Келли в основном касаются телесного понимания внешних объектов, мы сосредотачиваемся на субъективном опыте 1PP-рук, вовлеченных в иллюзию четырех рук.Тем не менее, наша точка зрения совместима с интерпретациями Келли.
Комментируя случай непредсказуемого открытия двери, Келли говорит: «Иногда мне кажется, что я могу вспомнить, например, как потянулся, чтобы ухватиться за дверную ручку, даже если я не осознавал этого, когда на самом деле выполнял активность… двигательная интенциональность подобна этому даже для нормальных субъектов, иными словами, она по существу раскрывает нам мир, но не может быть захвачена в процессе этого »(2002, с.389). Келли также цитирует отчет пациента по имени Шнайдер, упомянутого Мерло-Понти: «Я воспринимаю движения как результат ситуации, последовательности самих событий… Я почти не осознаю какой-либо добровольной инициативы. … Все происходит независимо от меня »(2002, с. 390). Теперь рассмотрим наш случай. Исследование Chen et al. (2018) показали, что иллюзия четырех рук — это настоящая телесная иллюзия. Это означает, что это субъективный опыт, вызванный экспериментальной установкой, а не концептуальное суждение.Участники знали о движении своих пальцев и о том, что они видели через HMD, но они не знали, почему и как иллюзия возникла с ними, включая иллюзорные чувства собственности и действия рук 1PP. Что еще более важно, иллюзия возникла непроизвольно. Они, так сказать, «почти не подозревали о какой-либо добровольной инициативе» и чувствовали, что «все происходит независимо от меня». В связи с этим мы думаем, что их опыт соответствует описанию Келли двигательной интенциональности.
Вместе вышеперечисленные соображения убедительно подтверждают, что в иллюзии четырех рук 1PP-руки воспринимались как субъекты. Важно отметить, что 1PP-руки могут восприниматься как субъекты только потому, что участники продолжали наблюдать за ними. Идея изменения, заложенная в тезисе об исключении опыта, здесь не применима. Чтобы понять этот момент, рассмотрим кинестетическое ощущение движения и визуальное ощущение движения, задействованные в Эксперименте 3. Для тех участников, которые испытали иллюзию четырех рук, помимо получения синхронных тактильных стимулов, их опыт 1PP-рук имел следующие особенности.С одной стороны, участники испытали активное движение пальцев через кинестезию и проприоцепцию по отношению к своим настоящим рукам. С другой стороны, они также заметили активное движение пальцев относительно рук, если смотреть со стороны принятой 1ПП (1ПП-видимое движение). Кинестетическое ощущение движения было частично уловлено видением движения руки 1PP. Оба были испытаны одновременно и были интегрированы друг с другом. Если бы кинестетическое ощущение движения и визуальное ощущение движения не были связаны таким образом, участники не чувствовали бы себя так, будто 1ПП-руки были их руками и что они могли бы их контролировать.Это означает, что участники не будут воспринимать 1PP-руки как субъект , если 1PP-руки не будут также испытаны как объекты зрения. Это показывает, что интегрированный опыт рук 1PP не может быть объяснен без учета изменений. Синхронное состояние эксперимента 3 создало ситуацию, когда можно одновременно испытать одни и те же части тела, то есть 1PP-руки, и как субъект и как объект. В этом случае два способа переживания несовместимы.Следовательно, тезис об исключении опыта был нарушен опытом рук 1PP в иллюзии четырех рук. Pace Merleau-Ponty, не всегда верно, что «в той мере, в какой оно видит мир или касается его, мое тело, следовательно, нельзя ни увидеть, ни потрогать» (1945/1962, стр. 105). Мы обсудим это далее в следующем разделе.
Наше утверждение состоит в том, что в случае иллюзии четырех рук чувство принадлежности к телу, субъективное тактильное местоположение и чувство свободы действия в руках 1PP вместе составляют контрпример против тезиса об исключении опыта.Есть две важные оговорки: во-первых, мы не делаем более широкого заявления о том, что любого кейса в совокупности будет достаточно для ощущения тела как субъекта, пока задействованы эти три компонента. Мы только утверждаем, что для тех участников, которые испытали иллюзию четырех рук, их опыт 1PP-рук представляет собой переживание тела как субъекта. Чтобы опровергнуть тезис об экспериментальном исключении, нам нужен один-единственный контрпример, а не более широкое утверждение. Во-вторых, наша точка зрения состоит в том, что для того, чтобы чувство принадлежности к телу, субъективное тактильное расположение и чувство свободы действий составили одновременное переживание тела как объекта и тела как субъекта, эти три компонента должны быть связаны в определенном способ: они не только происходят одновременно, но также они должны быть интегрированы способом, установленным нашей экспериментальной установкой, так, чтобы 1PP-руки не воспринимались как субъекты, если они также не воспринимались как объекты зрения в то же время.
Возражения и ответы
В этом разделе мы рассматриваем некоторые потенциальные возражения: во-первых, защитник тезиса об исключении опыта может обратиться к случаю «двойных ощущений» Мерло-Понти, чтобы ответить на наш аргумент. Как описано во введении, идея этого случая состоит в том, что, хотя обе мои руки физически сжимают друг друга и нажимаются одновременно, опыт нажатия и давления все еще несовместим с точки зрения опыта, так что их роли чередуются между две руки.Защитник может применить эту идею к иллюзии четырех рук и сохранить следующую позицию: хотя участники испытывали иллюзорное чувство свободы действий в руках 1PP и в то же время наблюдали за ними с принятой 1PP, на эмпирическом уровне . ощущение тела как субъекта и ощущение тела как объекта оставались несовместимыми и чередовались в субъективных переживаниях участников. Если это так, поскольку они не были испытаны одновременно, тезис об исключении опыта все еще остается в силе.
Мы не согласны. Без эмпирической поддержки эта защита была бы просто основана на концептуальном положении. Мы думаем, что визуальный и агентивный опыт рук 1PP не чередовался способом, предложенным этой защитой. Не только то, что они происходили одновременно, но и то, что они были интегрированы на опыте, чтобы внести свой вклад в иллюзию четырех рук. Мы можем согласиться с тем, что простая временная одновременность не исключает возможности изменения. Мы считаем, что именно интеграция этих переживаний препятствует идее эмпирической несовместимости в этом описании.Вышеупомянутая защита не признает ключевого различия между делом Мерло-Понти и нашим. То есть он недооценивает важную роль, которую видение играет в иллюзии четырех рук. Как и во многих иллюзиях полного тела (Эрссон, 2007; Ленггенхагер и др., 2007; Петкова и Эрссон, 2008), визуальной перспективой участников манипулировали определенным образом. Ни один из иллюзорных эффектов, включая иллюзорное чувство собственности, агентства и т. Д., Не может быть вызван без визуальной манипуляции. В нашем эксперименте методологическая интеграция визуальных манипуляций, тактильной стимуляции и движений пальцев связала ощущение тела как объекта и чувство тела как субъекта вместе в опыте 1PP-рук.Как мы утверждали выше, участники не будут воспринимать 1PP-руки как субъекты, если те же руки не будут также восприниматься как объекты зрения. Это делает неправдоподобным интерпретацию переживаний участников как чередующихся между субъектом и объектом. Напротив, такая методологическая интеграция не фигурировала в соображениях Мерло-Понти. Видение не играет особой роли ни в его примере касания правой руки левой рукой, ни в его случае «двойных ощущений».Таким образом, вышеприведенная защита на самом деле не показывает, что случай 1PP-рук может быть согласован с эмпирической несовместимостью, и, следовательно, не спасает тезис об экспериментальном исключении от нашего аргумента, основанного на иллюзии четырех рук.
Во-вторых, некоторые философы могут задаться вопросом, насколько надежно данные и статистика наших анкет могут рассказать нам о субъективном опыте участников. Это методологический вопрос, касающийся взаимосвязи между когнитивными или рефлексивными суждениями, измеренными с помощью анкет, и субъективными или дорефлективными переживаниями иллюзии.Вот наши ответы: (1) хотя не было необходимой связи между когнитивными суждениями и субъективным опытом, все участники наших экспериментов были здоровыми субъектами. Кажется неправдоподобным утверждать, что должен быть фундаментальный разрыв между их суждениями в анкетах и их субъективным опытом. (2) Как говорит Захави: «Отражение ограничено тем, что пережито до рефлексии. Он подотчетен фактам опыта и не самореализируется по сути.Отрицание того, что рефлексивное самоприписывание убеждений основано на каких бы то ни было экспериментальных доказательствах, является неправдоподобным »(Захави, 2014, стр. 36; см. Также его 2005, стр. 95–96). Мы приветствуем это замечание, поскольку оно предполагает, что когнитивные суждения участников были ограничены и, следовательно, могли раскрыть их субъективный опыт рук 1PP. (3) Результаты нашего опроса были подтверждены измерениями SCR (Chen et al., 2018). Широко признано, что участники не могут добровольно повлиять на SCR, поэтому они могут предоставить объективные доказательства для анкет.
В-третьих, рассмотрим другую характеристику Леграна тела как субъекта в примере Мерло-Понти: «тело переживается как субъект в соответствии с вещами в мире, воспринимаемыми как объект. Парадигматический пример — это переживание прикосновения руки (по сравнению с прикосновением руки), которое не является объектом опыта, но воспринимается как субъект в корреляции с объектом, которого коснулись »(Legrand, 2010, стр. 189). Здесь Легран предполагает, что существует корреляционная связь между ощущением прикосновения руки и ощущением прикосновения руки.Основываясь на этой характеристике, можно поднять следующую критику: поскольку 1ПП-руки на самом деле были руками экспериментатора, а не участников, участники на самом деле не воспринимали объект через 1ПП-руки. Таким образом, в нашем случае нет корреляционной связи.
Мы так не думаем. Когда Легран говорит о корреляционной взаимосвязи в примере Мерло-Понти, фраза «вещи в мире, воспринимаемые как объект» относится к правой руке в состоянии прикосновения.Теперь, как указано выше, мы думаем, что кинестетическое чувство движения участников было частично захвачено видением движения 1PP-рукой, так что, когда они постукивали по столу своими указательными пальцами, они чувствовали себя так, как будто они постукивали рукой. 1ПП-руки. Хотя 1PP-руки на самом деле были руками экспериментатора, это не мешало участникам ощущать эти руки, как если бы они владели ими и могли ими управлять. Иллюзорные ощущения свободы действий и владения 1PP-руками были вызваны интеграцией кинестетического и визуального ощущения движения пальцев, а также ощущением внешних тактильных стимулов и наблюдением за синхронным прикосновением ко всем четырем рукам.Таким образом, опыт 1PP-рук был интегрированным опытом, в котором 1PP-руки воспринимались как субъекты, коррелятивно с теми же руками, которые воспринимались как объекты, в то время как они одновременно воспринимались как объекты зрения. В этом смысле 1PP-руки воспринимались как субъекты «в соответствии с вещами в мире, воспринимаемыми как объект», и первое не могло бы возникнуть без второго.
Наконец, можно возразить, что, даже если наш контрпример успешно опровергнет тезис об исключении опыта, он может оказаться тривиальным.Предположим, я просто стучу по столу обеими руками и смотрю на них. Тогда я мог бы легко испытать владение и свободу действий своими собственными руками, и в то же время испытать те же руки как намеренные объекты визуального осознания. Почему бы не использовать это как более простой контрпример? Если это так, то запутанная установка нашего эксперимента и приведенные выше обсуждения опыта работы с 1PP-рукой начинают казаться излишними.
Для обсуждения назовем описанную выше ситуацию «обычным случаем».«В обычном случае испытуемый не носит шлем и не производит никаких визуальных и тактильных манипуляций. Движение пальцев собственных рук и визуальное восприятие тех же рук происходят одновременно. Если мы рассмотрим пример Мерло-Понти касания правой руки левой рукой, мы увидим, что это тоже тип обычного случая: «Я могу левой рукой чувствовать свою правую руку, когда она касается объекта. ” В этом примере тактильное ощущение правой руки и движение одной и той же руки происходят одновременно.Мерло-Понти говорит, что «в той мере, в какой он видит мир или касается его, мое тело, следовательно, нельзя ни увидеть, ни коснуться». Он мог легко применить это утверждение к обычному случаю и сказать: поскольку мои руки стучат по столу, их нельзя ни увидеть, ни потрогать. С точки зрения Мерло-Понти, обычный случай можно охарактеризовать с точки зрения эмпирической несовместимости тела как объекта и тела как субъекта. Эти соображения показывают, что для защитника тезиса об исключении опыта это не будет считаться контрпримером против тезиса, если два опыта просто имеют место одновременно на одном и том же теле или частях тела.В этой статье мы только стремимся показать, что существует по крайней мере один подлинный контрпример против тезиса об экспериментальном исключении. Итак, для нашей цели мы можем допустить, что точка зрения Мерло-Понти работает в обычном случае.
Основное различие между обычным случаем и субъективным опытом 1ПП-рук в иллюзии четырех рук (назовем это «экспериментальным случаем») заключается в следующем: в обычном случае мои движения пальца и мои собственные визуальные ощущения руки не интегрированы, как в экспериментальном случае.Они происходят только одновременно, но каждое может происходить без другого: я могу стучать руками по столу, не наблюдая за ними, и могу смотреть на свои руки, не касаясь их. Восприятие нажатия и визуальное восприятие отделимы друг от друга. В этом отношении экспериментальный случай был совсем другим. Как было предложено выше, движения пальцев участников и их видение движения 1ПП-руки не только происходили синхронно, но и интегрировались, так что их опыт владения, действия и субъективного тактильного расположения 1ПП-рук не происходил, если только те же руки не возникали. также были объектами их видения.В экспериментальном случае утверждение Мерло-Понти неприменимо: 1ПП-руки не могут восприниматься как мои и касаются мира, не будучи видимыми. Напротив, визуальное восприятие рук 1PP было одной из причин, по которой они воспринимались как мои и касались мира. Учетная запись изменения здесь не работает. Следовательно, экспериментальный случай нельзя заменить обычным.
Есть еще одно важное различие между обычным и экспериментальным случаями.Как было предложено выше, различие содержания / отношения неприменимо к экспериментальному случаю. Напротив, это различие, кажется, применимо к обычному случаю. В отличие от иллюзии с четырьмя руками, простукивание в обычном случае не является чем-то новым. Можно с уверенностью предположить, что субъект уже обладает такими понятиями, как [мои руки], [указательные пальцы], [взгляд вниз] и т. Д., И способен развлекать некоторые другие мысли, связанные с этими понятиями, например, мысли о постукивании с помощью пальцы ног, а не указательные, и мысли о том, чтобы смотреть на живот, а не на руки и т. д.Таким образом, репрезентативное содержание, задействованное в обычном случае, относится к тому типу, к которому «субъект может иметь отношение» (Kelly, 2002, p. 390).
Заключительные замечания: насколько нам известно, иллюзия четырех рук представляет собой первый контрпример в литературе, который ставит под сомнение точку зрения Мерло-Понти на тело-как-объект и тело-как-субъект. Как только это будет установлено, откроется возможность того, что различные эмпирические исследования телесных иллюзий могут также предоставить другие контрпримеры против тезиса об исключении опыта.Учитывая огромное разнообразие экспериментальных установок, которые использовались при исследовании телесных иллюзий, любые другие потенциальные контрпримеры следует рассматривать в каждом конкретном случае. Хотя полное обсуждение этого вопроса выходит за рамки данной статьи, мы хотели бы сделать следующие замечания.
Во-первых, не все телесные иллюзии бросают вызов тезису об исключении опыта. В стандартной иллюзии резиновой руки (RHI) (Botvinick and Cohen, 1998; Tsakiris and Haggard, 2005) испытуемые наблюдали, как фальшивую руку поглаживают синхронно с их собственной невидимой рукой.Поскольку фальшивая рука была пассивно затронута и являлась объектом видения, это было всего лишь переживание тела как объекта. В качестве вариантов RHI участники Ehrsson (2009) наблюдали, как две фальшивые руки гладят синхронно относительно их собственной скрытой руки, а участники Guterstam et al. (2011) видели, как их настоящую руку, прилегающую к резиновой руке, гладили синхронно друг с другом. Испытуемые в обоих этих двух исследованиях чувствовали себя так, как будто у них две правые руки. Опять же, поскольку две правые руки просматривались и касались пассивно, они были объектами зрения и осязания.Следовательно, эти варианты RHI включают только переживания тела как объекта. Аналогичным образом, в исследовании иллюзии полного тела Ленггенхагером и соавт. (2007) участники наблюдали за своим виртуальным телом спереди и пассивно получали тактильные стимулы сзади. Как описывает это Легран, «в« ленггенхагеровских »ВТО (Ленггенхагер и др., 2007) человек воспринимает свое тело как объект как находящееся в месте, где биологического тела нет (то же самое касается RHI)» (2010, с. 193). Мы согласны. Таким образом, тезис об исключении опыта остается неизменным в отношении этих исследований.
Во-вторых, более многообещающие случаи можно найти в других вариантах экспериментов RHI, в которых задействовано агентство. Калькерт и Эрссон (2012) сообщают, что в активном конгруэнтном состоянии чувство свободы воли было сильнее, когда резиновая рука воспринималась как часть тела. Даммер и др. (2009) также предполагают, что чувство владения телом было сильнее, если RHI был вызван активным движением. В исследовании Riemer et al. (2013), проприоцептивный дрейф был сильнее у активно движущихся RHI, чем у RHI без движения.Два момента вместе предполагают, что эти случаи представляют собой потенциальную угрозу для точки зрения Мерло-Понти: (i) И чувство принадлежности к телу, и чувство свободы выбора положительно задействованы в примере Мерло-Понти касания правой руки левой рукой. (ii) Как и в нашем контрпримере, в этих случаях владение телом, активное движение и визуальный опыт фальшивой руки были интегрированы таким образом, что иллюзорное чувство собственности и действия не могло возникнуть без того, чтобы участники смотрели на резиновую руку.
Однако есть важная оговорка. Отношения между собственностью тела и агентством могут значительно варьироваться в зависимости от экспериментальной установки. Например, в других условиях того же исследования Калькерт и Эрссон (2012, стр. 1, 9–12) обнаружили, что «пассивные движения уничтожили чувство свободы воли, но оставили нетронутым владение, а неконгруэнтное позиционирование модельной руки уменьшило владение, но не устранило свободу воли ». Основываясь на этих выводах, Калькерт и Эрссон предполагают, что чувство принадлежности к телу и чувство свободы воли могут быть разделены.Также Walsh et al. (2011, стр. 3019) сообщают, что «активные конгруэнтные движения (т.е. произвольные движения) создают иллюзию, которая была такой же или более слабой, чем иллюзия, создаваемая пассивными конгруэнтными движениями». В отличие от примера Мерло-Понти, в этих случаях владение телом и агентство не внесли положительного вклада в опыт RHI. Чувство владения телом, чувство свободы воли и визуальный опыт фальшивой руки в этих случаях не были интегрированы так, как в нашем контрпримере. Не очевидно, будут ли они угрожать точке зрения Мерло-Понти.Следовательно, мы думаем, что, вероятно, не все телесные иллюзии, связанные с движением руки, подрывают тезис об исключении опыта.
В заключение: с одной стороны, мы не утверждаем, что иллюзия четырех рук является единственным случаем, в котором одни и те же части тела могут одновременно восприниматься как как объект, так и как субъект. Мы только утверждаем, что наш контрпример — первый из описанных в литературе. С другой стороны, точка зрения Мерло-Понти не может быть опровергнута какими-либо телесными иллюзиями.Между этими двумя сторонами мы подозреваем, что тезис об экспериментальном исключении может быть опровергнут некоторыми другими экспериментальными случаями. Учитывая многообразие явлений, о которых сообщается в этой области исследований, возможно, что потенциальные контрпримеры появятся в разной степени. Случай с иллюзией четырех рук представляет собой сильный контрпример, потому что он объединяет владение телом, действие, субъективное тактильное местоположение и видение, которые связаны с переживаниями как тела как объекта, так и тела как субъекта, и исключает точка зрения, что переживания субъектов переключаются между двумя способами переживания.Этот случай дает полезную основу для сравнения с другими потенциальными. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы проверить, могут ли и как именно другие экспериментальные случаи повлиять на тезис об исключении опыта.
Заключение
Возможно, что тело как объект и тело как субъект могут быть испытаны одновременно. Для протокола: мы не думаем, что различие между телом как субъектом и телом как объектом должно быть уничтожено. Мы только утверждаем, что это различие не так жестко, как предполагают феноменологи.Опыт тела как объекта и опыт тела как субъекта , а не взаимоисключают. Положительный вывод состоит в том, что, поскольку различие не является жестким, наша точка зрения открывает возможность того, что нейробиологические исследования тела как объекта, например, исследования владения телом, могут пролить свет на тело как субъект. С одной стороны, как один из нас предложил в другом месте, не следует считать само собой разумеющимся, что нейробиологическое объяснение тела как объекта может автоматически применяться к телу как субъекту (Liang, 2016).С другой стороны, как показано в случае с иллюзией четырех рук, эти два типа переживаний себя также не полностью не связаны между собой. Следовательно, будущая задача будет заключаться в проведении междисциплинарных исследований для дальнейшего изучения взаимосвязи между ощущением тела как объекта и ощущением тела как субъекта.
Взносы авторов
CL написал эту рукопись. Y-TL, W-YC и H-CH помогли улучшить ранние версии рукописи.
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Благодарности
Это исследование было поддержано Министерством науки и технологий Тайваня (проект: MOST 104-2410-H-002-205-MY3).
Сноски
Список литературы
Галлахер, С. (2005). Как тело формирует разум . Оксфорд: Clarendon Press.
Google Scholar
Галлахер, С. (2012). «Взгляд от первого лица и невосприимчивость к ошибкам из-за неправильной идентификации», в Сознание и субъективность , ред.Мигуэнс и Г. Прейер (Франкфурт: издательство Philosophical Analysis Ontos), 187–214. DOI: 10.1515 / 9783110325843.245
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Heydrich, L., Dodds, T. J., Aspell, J. E., Herbelin, B., Bülthoff, H.H., Mohler, B.J., et al. (2013). Визуальный захват и опыт обладания двумя телами — свидетельства двух разных техник виртуальной реальности. Фронт. Psychol. 4: 946. DOI: 10.3389 / fpsyg.2013.00946
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Калькерт, А., и Эрссон, Х. Х. (2012). Движение резиновой рукой, которая ощущается как ваша собственная: разделение собственности и свободы воли. Фронт. Гм. Neurosci . 6:40. DOI: 10.3389 / fnhum.2012.00040
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Кюле, Л. (2017). Недостатки в научном изучении телесного осознания. Philos. Психол . 30, 571–593. DOI: 10.1080 / 09515089.2017.1311999
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Легран, Д.(2006). Телесное Я: сенсомоторные корни дорефлективного самосознания. Phenomenol. Cogn. Sci. 5, 89–118. DOI: 10.1007 / s11097-005-9015-6
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Легран Д. (2007b). Дорефлексивное самосознание: о том, чтобы быть телесным в мире. Янус Хэд 9, 493–519.
Google Scholar
Легран Д. (2010). «Я без тела? тело, телесное сознание и самосознание », Handbook of Phenomenology and Cognitive Science (London: Springer), 180–200.DOI: 10.1007 / 978-90-481-2646-0_10
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Лян, К. (2016). «Я как субъект и эмпирическая собственность», в Open MIND: Philosophy and the Mind Sciences in 21st Century , Vol. 2, ред. Т. Метцингер и Дж. М. Виндт (Лондон: MIT Press), 957–975.
Google Scholar
Лян, К., Чанг, С. Ю., Чен, В. Ю., Хуанг, Х. К., и Ли, Ю. Т. (2015). Владение телом и эмпирическое владение иллюзией прикосновения к себе. Фронт. Psychol. 5: 1591. DOI: 10.3389 / fpsyg.2014.01591
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Мерло-Понти, М. (1945/1962). Феноменология восприятия . Пер. пользователя C. Smith. Лондон: Рутледж.
Google Scholar
Проссер, С., Реканати, Ф. (ред.). (2012). Иммунитет к ошибкам из-за неправильной идентификации: новые очерки. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Прайор, Дж. (1999).Невосприимчивость к ошибкам из-за неправильной идентификации. Philos. Вверх. 26, 271–304.
Google Scholar
Цакирис М. и Хаггард П. (2005). Возвращение к иллюзии резиновой руки: зрительно-тактильная интеграция и самоатрибуция. J. Exp. Psychol. Гм. Восприятие. Выполнять. 31, 80–91. DOI: 10.1037 / 0096-1523.31.1.80
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Уолш, Л. Д., Мозли, Г. Л., Тейлор, Дж. Л., и Гандевия, С. К. (2011).Проприоцептивные сигналы способствуют возникновению чувства владения телом. J. Physiol. 589, 3009–3021. DOI: 10.1113 / jphysiol.2011.204941
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Захави, Д. (2005). Субъективность и самость: исследование от первого лица . Кембридж: MIT press.
Google Scholar
Захави, Д. (2014). Я и Другое: исследование субъективности, сочувствия и стыда . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Google Scholar
Субъект и объект психологии
Субъект — категория, обозначающая некоторую целостность, изолированную от мира предметов в процессе человеческой деятельности и познания. Один и тот же объект может быть предметом различных исследований.
В социологии подобъект означает определенную реальность, не зависящую от исследователя. А под предметом — свойства, стороны, взаимосвязи и процессы данной реальности, выделенные для целенаправленного изучения.
Очертание объекта и объекта было спланировано Имманулом Кантом.
Итак, объект — это часть объективного мира, а под субъектом — то, что в нем подлежит изучению. Понятие объекта шире по объему, чем понятие субъекта, поскольку субъект — объектная часть. В окончательном виде объекту и субъекту можно дать следующую формулировку:
Объект — это кусок объективного, т.е. существующий независимо от ума исследователей в реальности.
Предмет специфичен для научного ракурса, аспекта объекта, специфичного для данной отрасли науки и ставит под сомнение его категориальный аппарат, используемые методы исследования.
Каковы объект и предмет психологии как науки? В 1912 г. Г. И. Челпанов в учебнике «Психология» дает определение: «Психология есть учение о душе».
В 1926 г. К. Н. Корнилов в своем первом учебном пособии говорит: «Психология изучает не душу, а проявления души, психология — это наука о законах психической деятельности человека».
В одном из самых популярных учебников «Атлас психологии» М. В. Гамезо и И. А. Домашенко определяют психологию как науку, изучающую процессы активного отражения объективной реальности человека в виде ощущений, восприятий, мыслей, чувств и других процессов и явлений. психики.
Сравнивая приведенные выше определения, можно увидеть, что психика — это объект психологии, и различные ее проявления как объект.Поэтому позднее, на рубеже веков (20-21), появляется следующее определение психологии:
Психология — это наука и система знаний о законах, механизмах, психических фактах и явлениях в жизни человека.
В данном случае четко обозначен объект психологии — психика, а предмет, факты, закономерности и механизмы психики выделены.
Среди разнообразных проявлений психики выделяют психические процессы, психические состояния и психические свойства личности.
Различают когнитивные, эмоциональные, регулирующие психические процессы. Основная функция познавательных процессов — отражение свойств внешнего мира и внутренних особенностей организма. Познавательные процессы информируют о свойствах и явлениях окружающего мира, они являются источником разнообразных знаний и помогают открывать законы развития природы и общества. Познание имеет два уровня: образный и логический. Зрительные познавательные процессы — ощущение, восприятие, представление.Процессы логического познания включают мышление.
В эмоциональных психических процессах отражаются человеческие отношения. Они окрашивают жизнь человека с разными оттенками опыта (положительным или отрицательным). Гамма человеческих эмоций разнообразна, например, счастье, удивление, горе, страдание и т. Д.
Основным назначением регуляторных процессов является регулирование поведения и деятельности человека, обеспечивающее избирательное и целенаправленное реагирование. Регулирующие процессы включают процессы внимания и воли.
Кроме того, выделяются так называемые интегративные или посредством психических процессов, которые участвуют в ходе всех психических процессов, к ним относятся: речь, которая действует как 2-я сигнальная система и связывает сенсорное и логическое познание и память, которая может быть образной. , логичный и эмоциональный. Кроме того, память связывает настоящее и прошлое в сознании человека, обеспечивая целостность личности.
Психические состояния — это относительно устойчивые явления психической деятельности, характеризующие психику в целом.Их можно рассматривать как фон, на котором протекают психические процессы. Они могут поддерживать активную деятельность, а могут и не одобрять ее. Это состояния работоспособности, утомления, стресса, аффекта и т. Д.
Психические свойства — это устойчивые образования, обеспечивающие определенный уровень поведения и деятельности, характерный для данного человека. К психическим свойствам относятся темперамент, характер, способности человека, направленность его личности.
Общая психология — это отрасль психологической науки, которая изучает наиболее общие закономерности, выявленные психологией, методы исследования этой психологии, теоретические принципы, которых она придерживается, основные научные концепции, которые вошли в ее использование.
Субъекты изучения общей психологии:
Познавательная и практическая деятельность;
Общие закономерности психических процессов: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление, психическая саморегуляция;
Дифференциально-психологические особенности личности человека;
Характер, темперамент, преобладающие мотивы поведения и др .;
Фундаментальные проблемы:
Сущность и содержание психического, возникновение и развитие психики в фило и онтогенезе.
Главной задачей психологии как науки является раскрытие закономерностей возникновения, развития и течения психической деятельности человека, развитие его психических свойств, выявление жизненного смысла психики и тем самым содействие в ее реализации. мастерство, его целенаправленное формирование в соответствии с потребностями общества.
Психология как наука о субъекте и компорентации, выходящая за рамки разума и поведения
Следуя этому аргументу, некая имплицитная метафизика, состоящая из дуалистической онтологии с обратной связью с естественнонаучным методом, будет лежать в основе стойкого дуализма в психологии.Понятно, что идентификация психологии как естествознания, вероятно, была вызвана больше ее престижем, чем ее собственной сложностью, как подразумевается ее изучением. Пора переосмыслить психологию как науку о человеке (социальную, культурную, поведенческую) без «комплекса». Для этого следует поднять онтологический вопрос о месте психологии в плюралистической онтологии, а не в дуалистической или монистической.
Место психологии в плюралистической онтологии
Альтернативой дуализму является не монизм, на самом деле вариант самого дуализма, а плюрализм, как уже было предложено Уильямом Джеймсом в James 1909 в A Pluralistic Universe .Тезис Джеймса представляет собой защиту плюралистического против монистического взгляда (Джеймс 1909/1977; Вендт и Слайф 2009).
Плюралистическая онтология не сводит реальность к двум субстанциям (дуализм) или к одной (монизм). Реальности имеют множество форм: эмпирические (боль, чувства, мысли), физические (электроны, атомы, клетки, организмы, пишущие машинки, планеты), институциональные (языки, культуры, системы семейных отношений, коллективные воображения, мировоззрения) и абстрактные (математика, теоремы, теории, геометрия).Не все из них связаны со всеми другими, и некоторые не сводятся к другим. Зубная боль так же реальна, как и пишущая машинка (Скиннер, 1945). Расстояние между двумя телами само по себе не материально. Невозможно создать геометрию без рисования линий, но, например, структура многогранника не сводится к нарисованным линиям и не выводится из них. Хотя вся реальность имеет аспект или физический момент ( повредил зуб в случае зуба боль , прямые линии, образующие двумерный многогранник , воспринимаются , однако, как трехмерный куб), материя не должна следует путать с физической телесностью.«Материя» здесь имеет смысл, аналогичный реальному , будь то физический, экспериментальный или концептуальный. Но без какой-либо физической материальности ничего не существовало бы, поэтому материализм отдается предпочтение как философское учение, а не, например, идеализм, спиритизм или простой прагматизм. Примат физического материализма можно признать не последним словом.
Материализм в упомянутой здесь давней традиции — это философский материализм, разработанный испанским философом Густаво Буэно (1972, 1990, 2016).Философский материализм основан на идее материи и различает три жанра материальности, как указано ниже.
Идея материи не научная, а философская. Тот факт, что наука, как правило, нейробиология, объявляет себя монистическим материалистом (все является физико-химическим), является не нейробиологическим открытием, а философской идеей. Идея онтологической общей материи заменяет идею «Быть единым и нематериальным » онтологической (элеатско-аристотелевской) традиции.Вопреки традиции философский материализм отрицает чистый нематериальный дух. В этом смысле идея материи отрицательная (отрицание нематериального), но положительная в смысле утверждения бесконечного множественности, «для которой наименование онтологической общей Материи более уместно, чем Бытие . «(Буэно, 2016, стр. 45). Следовательно, идея материи не обязательно подразумевает «физическую материю», но, в конце концов, всего лишь из жанров материальности.
Понятие материи характеризуется тремя атрибутами: множественность, прерывность и совместное определение. О множественности материи уже говорилось, когда ее неоднородность сравнивали с монизмом. Прерывность подчиняется принципу Платона symploke ( Sophist , 251e 253e).
Идея symploke , согласно которой «ничто не изолировано от всего остального, но не все связано со всем остальным, иначе ничего нельзя было бы узнать», Буэно берет за начало своей плюралистической онтологии.Этот принцип аргументирует несводимость различных категорий реальности, даже если они имеют общие элементы, такие как, например, нейробиология и психология или социология и история. Таким образом, триумфальный марш Наполеона на Йену 14 октября 1806 года может служить примером. Даже когда определенные нейрофизиологические и психологические состояния Наполеона как личности являются частью его действий, ни его гормональное, ни психологическое состояние (например, самооценка) не объясняют исторический факт.Исторические причины, подчеркнутые историками, объясняют это, а не какие-либо физиологические или психологические причины. Гегель сказал, что видел «Мировой дух верхом» в записи Наполеона. Совместное определение относится к отношениям влияния между частями реальности. Совместное определение лежит в основе непрерывной эволюции мира и историко-культурных изменений.
Онтологическая множественность организована в философской традиции в три плана, царства или мира: Мир, Душа, Бог, которые философский материализм обрабатывает соответственно как роды материальности, M 1 , M 2 и M 3 .M 1 относится к физическому телу, от электронов до планет, M 2 относится к субъекту с его субъективностью и поведенческой активностью, а M 3 относится к объективному миру (абстрактному, например математике, и сверхиндивидуальному, например, социальные институты и материальная культура). «Куб Неккера» предлагает пример, включающий три жанра материальности (Bueno 2016, pp. 233–244). Начнем с того, что неоднозначное восприятие, из которого состоит это явление, было бы ярким примером M 2 : куб воспринимается , бестелесным, трехмерным твердым телом.M 1 — прямые линии, проведенные на двухмерной плоскости. M 3 будет геометрическими законами, которые организуют структуру многогранников с их преобразованиями, поворотами и т. Д. Таким образом, воспринимаемый «куб Неккера» является, прежде всего, бестелесным содержанием M 2 , но в то же время материалом с M 1 частей, состоящих, с одной стороны, из множества соединенных линий, нарисованных на ней, а с другой — задействованных нейрофизиологических коррелятов. Точно так же в рамках своей субъективности как перцептивного феномена он по-прежнему объективен (M 3 ), поскольку одна и та же фигура (и никакая другая) может быть навязана в любой момент, например, группе людей в экспериментальном сеансе. .Однако «куб Неккера» как психологическая реальность (M 2 ) не только не сводится и не выводится из M 1 или M 2 , но и составляет феномен, которым он является.
Доктрина трех жанров материальности имеет сходство с трехсторонними онтологиями, встречающимися на протяжении всего двадцатого века, особенно с Симмелем, Поппером и Пенроузом. Назначение трехчастной онтологии исходит из потребности в третьем жанре или мире вместе с двумя наиболее очевидными субъектом и объектом (душа, мир).Роль, представленная Богом в традиционной метафизике, упала, его позиция теперь возвращается к постулированию абстрактных, надиндивидуальных реальностей, имманентных миру.
Таким образом, Джордж Зиммель в своей работе 1910 года Hauptprobleme der Philosophie ( Основные проблемы философии ) должен вернуться в «третье царство» идеального содержания (объективного, надличностного), чтобы понять и поддерживать нередуктивные отношения между субъектом и объект (Зиммель 2006). Карл Поппер представляет Мир 3 как третий мир, относительно автономный от двух других миров, физического (Мир 1) и ментального (Мир 2) в отношении проблемы разума и тела (Popper and Eccles 1977).Мир 3 также согласуется с собственной предрасположенностью Поппера «к объективности и к тому, что люди в своей работе занимаются чем-то, выходящим за пределы самих себя, и тем самым превосходят самих себя, будь то в искусстве, науке или мысли». (Бойд, 2016, с. 17). Роджер Пенроуз также обсуждал три мира: платоновский мир математических форм, физический мир и ментальный мир (Penrose 1994).
Трехсторонняя онтология по сравнению с дуалистической необходима по трем причинам. Во-первых, из-за упомянутой выше проблемной дихотомии дуализма.Во-вторых, из-за редукционистского монизма (обычно физикалистского), к которому, кажется, движется дуализм, когда не предполагается плюралистическая онтология, и, в-третьих, из-за абстрактного объективного статуса научного знания (M 3 ). Третий жанр, M 3 , также представляет культуру как надиндивидуальную институциональную реальность, рассматриваемую с этой точки зрения как условие возможности самих психологических реальностей.
Философский материализм противостоит всякому овеществлению или ипостаси, а также всякой редукции в пользу диалектических совместно определяющих отношений между различными материальностями, а не просто взаимодействий (Bueno 1972).Совместная детерминация в отношении понятия катализа относится к отношениям взаимной взаимности при наличии благоприятных контекстов (катализаторов), таких как, например, различительный стимул по отношению к оперантному поведению (см. Ниже). Совместное определение предлагается как альтернатива линейной причинности. Место психологии («Мир 2», M 2 ) — в медиаресурсах физико-телесного («Мир 1», M 1 ) и надиндивидуального институционального («Мир 3», M 3 ) реалии.Психология как субъективно-поведенческий материал, далеко не сводимый, с одной стороны, к биофизическому, а с другой — к культурному или «объективному духу», участвует в обеих реальностях и является посредником между ними. Недаром психологию называют лиминальной наукой (Valisner 2013, p. 137; Valsiner 2014b, p. 6). Важно признать лиминальный характер психологии с целью осознать ее посредническую роль как науки об интенциональных интерактивных процессах.
Психологическая материальность, таким образом, будет играть роль посредника, настраивая человеческий мир.Это относится, прежде всего, к поведенческой опосредованной характеристике оперантного субъекта, «оперантное поведение» которого понимается как изначально намеренное и значимое. Поведенческое посредничество подчеркивает практический эффективный инструментальный аспект человеческой деятельности (по сравнению с «ментальным»). Это посредничество, предложенное Поппером, можно назвать «биопсихологическим» (Doria 2012). «Семиотическое материальное посредничество» было бы столь же возможным (Doria 2012).
Идея опосредования — поведенческого, биопсихологического, семиотического — подразумевает диалектические, двусторонние и взаимно конституирующие отношения между культурой (Мир 3, M 3 ) и субъектом (ментальный мир, M 2 ), включая телесный субъект (М 1 ).Условно (обманчиво) можно сказать, что культура запечатлена в разуме и мозге, а разум и мозг, в свою очередь, действуют в мире. Но нельзя сказать, что разум или мозг действуют и думают, не подвергаясь мереологической ошибки (Bennett and Hacker 2003), которая состоит в приписывании части функций, которые относятся к целому, в данном случае индивидууму, человек или предмет. Посредничество предполагает целостный субъект, который не несет мир внутри (закодирован или представлен) или действует из внутри (разум, мозг), но является субъектом , расположенным в -в мире.Он относится к субъекту, постоянно меняющемуся в пределах своего постоянства, всегда в медиа-разрешении , на границе необратимого времени (Valsiner 2016).
Посредничество действует на границе между субъектом и миром, граница, которая также является временной между здесь-настоящим и сопутствующим будущим, предполагаемым и предсказываемым. Интернализация находит переосмысление за пределами чрезмерно используемой дихотомии «внешнее / внутреннее». Согласно Зиттуну и Гиллеспи:
Интернализация — это не вставка «внутрь» того, что было «наружу»: во-первых, семиотическое руководство действует на границе «я» и мира; во-вторых, он позволяет направлять внутренний поток опыта через семиотическую конфигурацию, которая теперь инициируется сама собой.[…] Строго говоря, нет ничего, что становится интернализированным, скорее, есть внешний мир, который производит опыт. Этот опыт называется «внутренним» просто потому, что он недоступен для наблюдателей, он имеет частные квалиа, которые невозможно уловить с точки зрения наблюдателя. (Зиттун и Гиллеспи, 2015, стр. 484).
Психология не только опосредует, но и конститутивно участвует как в физико-материальных (физиологических), так и в культурных и абстрактных («объективный дух») онтологических жанрах.Это относится к трехмерной онтологии психологических явлений.
Трехмерная онтология психологических явлений
Учитывая место психологии (M 2 ) в середине и по отношению к другим реальностям (M 1 , M 3 ) в соответствии с онтологией трех жанров Далее следует упомянуть о тройной размерности психологических явлений. Важно сделать это вообще, чтобы осознать, что не все является психологическим (что было бы разновидностью редукционизма), равно как и то, что является психологическим, отдельно от физического (M 1 ) или институционального (M 3 ). ).Это относится к тому, как психологические явления более или менее заметно или релевантно участвуют в непсихологических аспектах (M 1 и M 3 ). Несколько трилогий по-своему предполагают эту тройную размерность. Они находятся в Ортега-и-Гассете как жизненной силы, души и духа (Ортега-и-Гассет 1924/1966), в Мерло-Понти как физического, жизненного (виртуального) и человеческого порядка (Мерло-Понти 1942/1963; Томпсон 2007 , стр. 74), в Бинсвангере как umwelt («по всему миру»), eigenwelt («собственный мир») и mitwelt («с миром») (Binswanger 1958; Sullivan 2015, pp.28–31), а у Штрассера — bios, pathos и logos (Strassers 1977).
Фрейд и Скиннер также имеют свою версию . По Фрейду это была бы трилогия id, эго, суперэго . Скиннер, который ссылается на Фрейда в этом отношении, подчеркивает, что «человеческое поведение является совместным продуктом 1) случайностей выживания, ответственных за естественный отбор вида, и 2) случайностей подкрепления, ответственных за репертуар, приобретенный его членами, включая 3) особые обстоятельства, поддерживаемые развитой социальной средой »(Скиннер, 1981, стр.502).
Стоит упомянуть недавнее восстановление этой трилогии в ее классических терминах тело, душа и дух (Weger and Wagemann 2015b), по аналогии с Ортега-и-Гассет (1924/1966). Излишне говорить, что понятия души и духа далеки от картезианской или спиритуалистической коннотации. Напротив, они хорошо согласуются с обсуждаемой здесь концепцией, даже если не рассматриваются в рамках философского материализма. Что касается нас, концепция Ортега-и-Гассета будет снова рассмотрена в отношении онтологических аспектов, которые мы хотим показать.
Ортега-и-Гассет предложил создать «тектонику человека», описывающую его топографию в терминах живучести , душ и духа . Жизнеспособность относится к той «части нашей психики, которая живет в теле», «внутреннему телу» или живому телу с его жизненной силой и часто неясными скрытыми причинами. Душа относится к «области чувств и эмоций, желаний, импульсов и аппетитов». Дух — это понимание и воля, «рациональные действия» с соблюдением «норм и объективных требований».
Эта тектоника человеческой психики важна по трем причинам. В первую очередь потому, что подчеркивает двойной телесно-витальный (биос) и предметно-концептуальный (логос) корень психики (пафос). Во-вторых, это позволяет выйти за пределы дихотомии внутреннего и внешнего и ее имплицитного дуализма, рассматривая частные события как вложенные процессы, которые составляют составную часть нашей деятельности в мире . Познания не будут отдельной реальностью, а будут частичными процессами, которые связаны с другими частями того, что человек делает, и с аспектами текущей ситуации (Westerman and Steen 2007).В-третьих, он обеспечивает структуру личности, на которой психологический редукционизм выходит за рамки. Если не рассматривать плюралистическую онтологию (тригенерическую), это легко приведет к редукционистскому психологизму, а сегодня еще чаще — к цереброцентризму, как если бы все возникло снизу вверх в предполагаемой (необъяснимой) растущей нейронной сложности.
Позвольте мне две цитаты из Ортеги-и-Гассета о взаимодействии этих трех измерений, о том, что все они интимны, но наиболее личным является эмпирическое (душа, пафос).Два других измерения могут стать безличными либо потому, что они являются объективными действиями, которые все мы будем делать так же, потому что они составляют часть общей нормативности (дух, логос), либо в результате «впадения» в общие телесные процессы (жизнеспособность, биос).
Я мыслю в той мере, в какой я позволяю соблюдать законы логики в себе, и я формирую деятельность своего разума в соответствии с бытием вещей. Следовательно, чистое мышление в принципе одинаково у всех людей.То же самое и с нашей волей. Если бы он функционировал строго, приспосабливаясь к тому, что «должно быть», мы все хотели бы одного и того же. Таким образом, наш дух не отличает нас от других до такой степени, что некоторые философы подозревали, что может существовать единый универсальный дух, для которого наш собственный — лишь мгновение или пульсация. Когда мы думаем или желаем, мы отказываемся от своей индивидуальности и начинаем участвовать в универсальном мире, в котором все другие духи текут и участвуют, как и наш. Так что даже как самая личная часть нас — если понимать человека как источник собственных поступков — дух, строго говоря, живет не сам по себе, а из Истины, Закона и т. Д., объективного мира, который поддерживает его и из которого он получает свой особый контекст. Другими словами, дух не покоится на себе, но имеет свои корни и принципы в этом универсальном, внесубъективном мире. Дух, который действует для себя и для себя, по-своему, по вкусу и темпераменту, будет не духом, а душой (Ortega y Gasset 1924/1966, p. 86)
Наше тело, говорит Ортега-и-Гассет, не живет само по себе и не от себя.Виды и наследование — это внеиндивидуальные способности, которые действуют на тело каждого человека. Таким образом, индивидуальная жизнеспособность все еще будет участником потока надиндивидуальной, «космической» жизненности до такой степени, что не будет недостатка в обстоятельствах, в которых тело, так сказать, преобладает над индивидуальностью. В этом отношении Ортега-и-Гассет ссылается на ситуации максимального телесного возбуждения, такие как опьянение, оргазм и оргиастические танцы, как «приносящие с собой растворение индивидуального осознания и восхитительное уничтожение в космическом единстве.«Смех и плач могут быть включены сюда как пределы человеческого поведения, когда кажется, что само тело берет на себя контроль и отвечает за одно, согласно исследованию немецких антропологов и философа Гельмута Плесснера (1970).
Преобладание духа и тела имеет тенденцию деиндивидуализировать нас и в то же время приостанавливать жизнь нашей души. Наука и оргия освобождают нас от эмоций и желаний и вытесняют нас из замкнутого пространства, в котором мы все жили, сталкиваясь со всеми остальными, потерянными в самих себе, и превращают нас в неиндивидуальные области, будь то превосходство Идеального или неполноценность другого. Жизненно-космическое.Тогда душа или психика становится центром индивидуума, частной оболочкой по отношению к остальной вселенной, которая в некотором роде является общественной областью. Поскольку душа или психика не полностью совпадают ни с космической жизненной силой, ни с объективным духом, они представляют индивидуальную эксцентричность. Мы чувствуем себя личностями из-за загадочной эксцентричности нашей души. Потому что против природы и духа душа — это всего лишь эксцентричная жизнь (Ортега-и-Гассет, 1924/1966, стр. 88-90).
Существенная человеческая эксцентричность — всегда занять определенную позицию, не совпадая полностью с самим собой — в равной степени подчеркивается адуалистической антропологией Плесснера (Plessner 1970).
Дискурсивная психология и воплощение за пределами субъектно-объектных двоичных файлов: за пределами субъектно-объектных двоичных файлов
«Дискурсивная психология оказалась исключительно плодотворной в демонстрации того, как люди используют разговор для выполнения« психологических »вещей, таких как запоминание, распознавание, суждение и т. Д. Теперь у нас есть коллекция, которая делает один важный шаг вперед и показывает нам, как они делают эти вещи — и многое другое — с помощью жестов, движений и ориентации тела. Очень желанный вклад в наше понимание психологии в повседневной жизни.» — Чарльз Антаки, профессор языка и социальной психологии, Университет Лафборо, Великобритания Более тридцати лет дискурсивная психология бросает серьезный вызов когнитивистским подходам к психологии, демонстрируя актуальность дискурсивных практик для понимания психологических тем и социального взаимодействия. Однако вопросам воплощения — внутренним, сенсорным и физическим аспектам психологии — пока уделяется гораздо меньше внимания. Эта книга — первый текст, в котором рассматриваются теоретические и аналитические проблемы, возникающие при взаимодействии тел для дискурсивной психологии.В книге собраны международные эксперты, каждый из которых рассматривает разные тематические области и условия взаимодействия, чтобы исследовать воплощение как социальный объект. Авторы рассматривают проблему субъект-объектных отношений и то, как «внутренние» психологические субъектные состояния конструируются и разыгрываются по отношению к объектным состояниям посредством воплощенных дискурсивных практик. Как телесные процессы становятся особыми формами воплощения через социальное взаимодействие и внутри него? Как тела психологизируются как социальные объекты? Выходя за рамки дуализмов субъекта / объекта, которые конструируют «внутреннее» и «внешнее» психологическое состояние, книга продвигает вперед современную теорию и анализ в рамках дискурсивной психологии.Таким образом, дискурсивная психология и воплощение является важным ресурсом для исследователей социальных наук, работающих в области дискурса, социального взаимодействия и «обращения к телу». Салли Виггинс — адъюнкт-профессор психологии Университета Линчёпинга, Швеция. Ее исследовательские интересы сосредоточены на приемах питания в повседневном социальном взаимодействии, и ранее она написала учебник под названием «Дискурсивная психология» и опубликовала множество эмпирических статей и глав в книгах по дискурсивной психологии.Карин Освальдссон Кромдал — адъюнкт-профессор социальной работы Университета Линчёпинга, Швеция. Она публиковала статьи о личности и социальном взаимодействии в основном в институциональных учреждениях, таких как дома временного содержания для проблемной молодежи, телефон доверия и взаимодействие службы экстренной помощи, а также консультации по социальной работе.
Что такое объект и субъект в психологии? — MVOrganizing
Что такое объект и субъект в психологии?
Субъект — это существо, обладающее уникальным сознанием и / или уникальным личным опытом, или сущность, которая имеет отношения с другой сущностью, существующей вне себя (называемой «объектом»).Субъект — это наблюдатель, а объект — это наблюдаемая вещь.
Что является объектом изучения?
Полный объект исследования должен отвечать ряду обязательств, необходимых для любого исследования. Таким образом, объект исследования формулирует вопрос исследования, формулирует утверждение, формулирует совместно сгенерированную информацию, способствует методам совместного производства знаний и предлагает систему (ы) информации.
Какая польза от изучения психологии?
Изучение психологии помогает вам понять себя и других, что может быть чрезвычайно полезным и привести к лучшим и прочным отношениям с семьей, друзьями и коллегами.
Почему психология важна в образовании?
Диплом по психологии может привести к успешной карьере, которая будет иметь значение для жизни людей. Психология преподавания и обучения помогает нам понять социальные, эмоциональные и когнитивные процессы, которые составляют обучение на протяжении всей жизни.
Чем интересна общественная психология?
Психология сообщества фокусируется на социальных проблемах, социальных институтах и других условиях, которые влияют на людей, группы и организации.Психология сообщества как наука стремится понять взаимосвязь между условиями окружающей среды и развитием здоровья и благополучия всех членов сообщества.
Что такое концепция позитивной психологии?
Позитивная психология — относительно новая форма психологии. Он подчеркивает положительное влияние на жизнь человека. Это могут быть сильные стороны характера, оптимистические эмоции и конструктивные институты. Эта теория основана на убеждении, что счастье происходит как от эмоциональных, так и от ментальных факторов.
Какие бывают сообщества?
Ричард Миллингтон определяет пять различных типов сообществ:
- Проценты. Сообщества людей, разделяющих общие интересы или увлечения.
- Действие. Сообщества людей, пытающихся добиться перемен.
- Место. Сообщества людей, объединенных географическими границами.
- Практика.
- Обстоятельства дела.
Какие бывают 7 типов сообществ?
Различные типы сообществ
- Проценты.Сообщества людей, разделяющих общие интересы или увлечения.
- Действие. Сообщества людей, пытающихся добиться перемен.
- Место. Сообщества людей, объединенных географическими границами.
- Практика.
- Обстоятельства дела.
Какие три типа сообществ?
Три типа сообществ: сельские, городские и пригородные.
- Сельский. Сельские поселения располагаются там, где дома разбросаны очень далеко друг от друга.Многие думают, что сельские общины — это сельскохозяйственные угодья.
- Городской. Городские сообщества расположены в городах.
- Пригород. Пригородные районы представляют собой смесь городской и сельской местности.
Каковы характеристики сообщества?
Некоторые характеристики сообщества могут дать ключ к разгадке степени его социальной сплоченности и предвидеть проблемы, которые могут возникнуть. Эти характеристики включают историю сообщества и его отношения с другими, его нынешнюю социальную структуру, его культурные ценности и то, как оно само себя управляет.
Что такое сообщество для детей?
Сообщество — это группа людей, живущих в определенной местности. Сообщество может состоять из большой или небольшой группы людей. Земельный участок общины также может быть большим или маленьким. Слово сообщество также может означать группу людей с общими интересами, которые могут жить вместе, а могут и не жить.
Сколько у нас способов общения?
четыре
Объективных и субъективных факторов, определяющих наше внимание
Объективных и субъективных факторов, определяющих наше внимание!
Это правда, что внимание — это избирательная деятельность, и воля нашего ума очень важна для определения нашего внимания.Но, несмотря на это, есть некоторые факторы в объектах, а также в самом человеке, которые могут влиять на наше внимание.
Эти факторы, определяющие наше внимание, делятся на два типа:
(a) Объективные факторы и
(b) Субъективные факторы,
1. Объективные факторы :Эти факторы относятся к конкретным аспекты объектов, которые присущи объектам.
а. Движение:Движущийся объект привлекает наше внимание легче, чем неподвижный объект.Например, мигающий свет привлекает наше внимание, чем немигающий свет. Движущееся транспортное средство привлекает наше внимание больше, чем остановленное транспортное средство.
б. Интенсивность:Более интенсивный свет, звук или запах привлекает наше внимание легче, чем менее интенсивный. Например, лампа высокого напряжения будет наблюдаться быстрее, чем лампа низкого напряжения, очень яркий цвет, чем тусклый цвет, или очень громкий звук, чем нормальный звук.
г. Новинка:Новые виды предметов быстро привлекают наше внимание.Рекламные агентства очень эффективно перенимают эту технику. Например, платье последней моды, туфли, ручка и т. Д.
d. Размер:Большой или меньший объект привлекает внимание людей очень легко, чем средний уровень любого объекта, например, человек на 7 футов выше, карлик на 2 дюйма, очень толстый человек, очень огромное многоэтажное здание. может быстро привлечь наше внимание.
e. Изменить:Изменение в окружающей среде быстро привлекает наше внимание.Например, регулярный звук движущихся часов не привлекает нашего внимания, но движение останавливается, наше внимание отвлекается.
Наше внимание привлекает экспонат, помещенный на новом месте, радио, проигрывающее песню, останавливается из-за отключения электричества.
ф. Повтор:Когда стимул предъявляется повторно, наше внимание отвлекается, например, повторный сигнал пожарной бригады или скорой помощи.
г. Ясность:Объект или звук, которые можно ощутить, явно привлекают наше внимание, чем нечеткие стимулы.Например, в ночное время наше внимание явно привлекают видимые звезды и планеты.
ч. Цвета:Цветные объекты привлекают наше внимание легче, чем черные или белые объекты.
i. Контраст:Привлекает внимание объект, разительно отличающийся от своего фона. Например, черное пятно на белой рубашке
2. Субъективные факторы :Эти факторы относятся к отдельным людям.Это присуще людям. Наше внимание определяется множеством субъективных факторов.
Это:
а. Интерес:Интересующие нас объекты сразу привлекают наше внимание. Например, при движении по дороге спортсмена привлекает магазин, в котором размещены спортивные товары. Человек, которому интересен конкретный певец, сразу отвлечет его внимание, как только он послушает его голос.
б. Мотивы:Мотивы — это мощные силы, которые заставляют нас отвлекать внимание.Например, гостиница привлечет внимание голодного человека, потому что у него есть тяга к еде.
г. Мысленный набор:Наш настрой или готовность ума очень важны при работе с любым стимулом. Например, когда человек находится в фантазии, он может не слушать ни одного звонка. С другой стороны, если он с нетерпением ждет телефонного звонка, он немедленно его выслушает.
г. Эмоциональное состояние:Нарушение внимания при эмоциональном состоянии.Это также влияет на наше восприятие. Например, когда человек сильно возбужден из-за страха, он может не слушать или не понимать, что говорят другие.
e. Habits:Наше внимание автоматически переключается на то, к чему мы привыкли. Например, курильщик помнит о курении, даже если он занят какой-либо работой. Человек, привыкший принимать пищу в определенное время, запоминает ее в нужное время.


 Если объект психологии
репрезентирует психическую реальность во всей ее полноте и
предполагаемой целостности как отдельное сущее, предмет этой
науки несет в себе представление о том, что составляет
квинтэссенцию психического, определяет его качественное
своеобразие. Полагая, что качество субъектности наиболее
адекватно репрезентирует сущностный потенциал психического и
обнаруживает его онтическую несводимость к иным реалиям, логично
утверждать, что именно понятие субъектности содержательно
конституирует предмет психологии, утверждая ее в статусе
самостоятельной науки.
Если объект психологии
репрезентирует психическую реальность во всей ее полноте и
предполагаемой целостности как отдельное сущее, предмет этой
науки несет в себе представление о том, что составляет
квинтэссенцию психического, определяет его качественное
своеобразие. Полагая, что качество субъектности наиболее
адекватно репрезентирует сущностный потенциал психического и
обнаруживает его онтическую несводимость к иным реалиям, логично
утверждать, что именно понятие субъектности содержательно
конституирует предмет психологии, утверждая ее в статусе
самостоятельной науки.
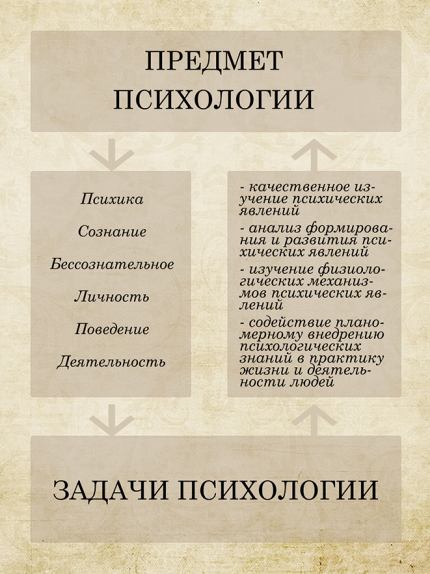
 6-8.
6-8. Это и будет предмет исследования.
Это и будет предмет исследования. Но изучением человека в его многообразных проявлениях и связях с миром (объектами живой и неживой природы) в течение веков занималось множество наук, а на современном этапе проблема человека является общенаучной и охватывает почти все разделы знаний. Классификации наук, изучающих человека, и поиску «места» психологии в системе других наук посвящены труды многих учёных (рис. 1).
Но изучением человека в его многообразных проявлениях и связях с миром (объектами живой и неживой природы) в течение веков занималось множество наук, а на современном этапе проблема человека является общенаучной и охватывает почти все разделы знаний. Классификации наук, изучающих человека, и поиску «места» психологии в системе других наук посвящены труды многих учёных (рис. 1). Кроме того, «увидеть», «ухватить», «измерить» душу невозможно, как и экспериментировать с нею. Если вместо «душа» мы будем говорить «психика», то положение существенно не изменится: психика так же «ускользает» от непосредственного исследования, как и душа, и доказать её существование как самостоятельной реальности также сложно.
Кроме того, «увидеть», «ухватить», «измерить» душу невозможно, как и экспериментировать с нею. Если вместо «душа» мы будем говорить «психика», то положение существенно не изменится: психика так же «ускользает» от непосредственного исследования, как и душа, и доказать её существование как самостоятельной реальности также сложно. Она свойственна не только человеку. Выделяют три стадии или уровня развития психики животных, зависящих от развитости нервной системы и органов чувств: стадия элементарной сенсорной психики, стадия перцептивной психики и стадия человекоподобного интеллекта . Поскольку человек является не только биологическим существом, но и существом социальным, его психика — качественно иная по сравнению даже с высокоразвитыми животными. Человеку свойственен высший уровень развития психики — сознание, формирование которого стало возможным благодаря языку как продукту общественно-исторического развития.
Она свойственна не только человеку. Выделяют три стадии или уровня развития психики животных, зависящих от развитости нервной системы и органов чувств: стадия элементарной сенсорной психики, стадия перцептивной психики и стадия человекоподобного интеллекта . Поскольку человек является не только биологическим существом, но и существом социальным, его психика — качественно иная по сравнению даже с высокоразвитыми животными. Человеку свойственен высший уровень развития психики — сознание, формирование которого стало возможным благодаря языку как продукту общественно-исторического развития. п.), требующей научных, т.е. объективных и достоверных, знаний о психике человека, позволяющих прогнозировать его поведение в тех или иных ожидаемых обстоятельствах.
п.), требующей научных, т.е. объективных и достоверных, знаний о психике человека, позволяющих прогнозировать его поведение в тех или иных ожидаемых обстоятельствах. Научное познание с необходимостью требует перехода от описания явлений к их объяснению. Последнее предполагает раскрытие законов, которым подчиняются эти явления. Поэтому предметом изучения психологии вместе с психологическими фактами становятся психологические законы. Но знание закономерных связей само по себе не раскрывает конкретных механизмов, посредством которых закономерность может проявляться. А потому предметом изучения психологии (нередко совместно с другими науками — физиологией, биофизикой, биохимией, кибернетикой и т.д.) являются и механизмы психической деятельности.
Научное познание с необходимостью требует перехода от описания явлений к их объяснению. Последнее предполагает раскрытие законов, которым подчиняются эти явления. Поэтому предметом изучения психологии вместе с психологическими фактами становятся психологические законы. Но знание закономерных связей само по себе не раскрывает конкретных механизмов, посредством которых закономерность может проявляться. А потому предметом изучения психологии (нередко совместно с другими науками — физиологией, биофизикой, биохимией, кибернетикой и т.д.) являются и механизмы психической деятельности.
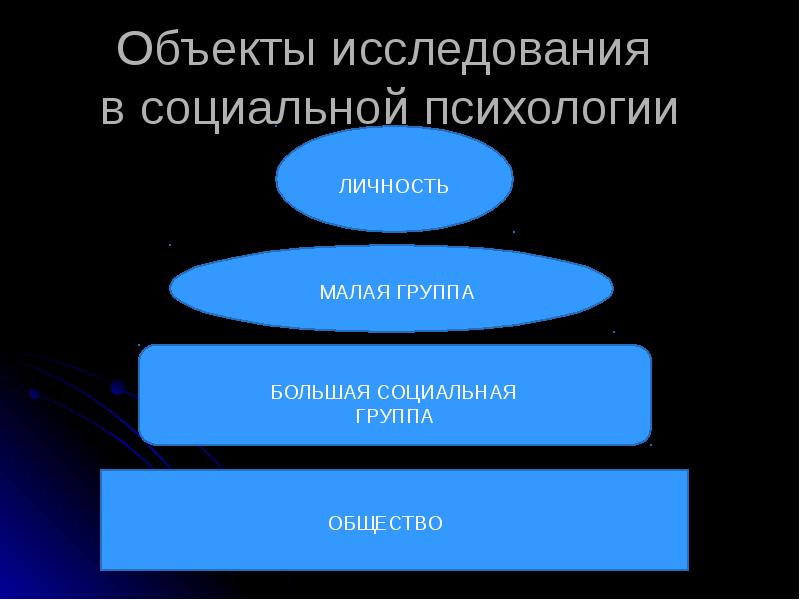
 Мы еще только начинаем более или менее ясно осознавать тот факт, что нечто, понимаемое нами как психическое, является объектом научного исследования» [Юнг, 1994, с. 12-13]. Здесь лишь заметим, что психика может исследоваться разными науками, поэтому при организации комплексного междисциплинарного исследования важно учитывать различия в трактовке предмета (этому важнейшему методологическому вопросу современной психологии мы планируем посвятить специальную работу).
Мы еще только начинаем более или менее ясно осознавать тот факт, что нечто, понимаемое нами как психическое, является объектом научного исследования» [Юнг, 1994, с. 12-13]. Здесь лишь заметим, что психика может исследоваться разными науками, поэтому при организации комплексного междисциплинарного исследования важно учитывать различия в трактовке предмета (этому важнейшему методологическому вопросу современной психологии мы планируем посвятить специальную работу). Вундт вводит понятие непосредственного опыта в качестве предмета психологии для того, чтобы провозгласить психологию самостоятельной наукой, отличной от философии.
Вундт вводит понятие непосредственного опыта в качестве предмета психологии для того, чтобы провозгласить психологию самостоятельной наукой, отличной от философии. П. Павлова, увидевшего в условном рефлексе все богатство душевной жизни, или М. Вертгеймера, который в стробоскопическом эффекте («фи»-феномене) усмотрел реальность существования феноменального поля.
П. Павлова, увидевшего в условном рефлексе все богатство душевной жизни, или М. Вертгеймера, который в стробоскопическом эффекте («фи»-феномене) усмотрел реальность существования феноменального поля. Отметим, что этот подход к анализу предмета при всей его актуальности разработан в наименьшей степени. Попытка такого анализа была предпринята нами ранее в ряде работ [Мазилов, 1998, 2001, 2004, 2007, 2007а], и далее мы остановимся на перспективах этого подхода более подробно.
Отметим, что этот подход к анализу предмета при всей его актуальности разработан в наименьшей степени. Попытка такого анализа была предпринята нами ранее в ряде работ [Мазилов, 1998, 2001, 2004, 2007, 2007а], и далее мы остановимся на перспективах этого подхода более подробно.
 е. соотносимого с ней фрагмента действительности, аспектов и уровней его рассмотрения, составляет центральную задачу. Эта задача не имеет раз и навсегда найденного решения, она постоянно уточняется (видоизменяется) по мере развития самой науки» [Гинецинский, 1994, с. 61]. Обсуждая вопрос об определении предмета психологии, автор отмечает: «Для определения предметной области психологии в общем можно воспользоваться пространственным представлением о положении этой области среди предметных областей других наук. Тогда для того чтобы определить предмет психологии, нужно очертить внешние (экс- тернальные) границы ее предметной области и показать ее внутреннюю (интернальную) расчлененность, поскольку сама психология может быть представлена также как совокупность (система) входящих в нее частных, научных дисциплин. Прочерчивание внешних и внутренних границ предметной области психологии вместе с тем являет собой пример неявного (имплицитного) определения предмета. Поэтому в дополнение к ним следует предложить и вариант явного (эксплицитного) его определения.
е. соотносимого с ней фрагмента действительности, аспектов и уровней его рассмотрения, составляет центральную задачу. Эта задача не имеет раз и навсегда найденного решения, она постоянно уточняется (видоизменяется) по мере развития самой науки» [Гинецинский, 1994, с. 61]. Обсуждая вопрос об определении предмета психологии, автор отмечает: «Для определения предметной области психологии в общем можно воспользоваться пространственным представлением о положении этой области среди предметных областей других наук. Тогда для того чтобы определить предмет психологии, нужно очертить внешние (экс- тернальные) границы ее предметной области и показать ее внутреннюю (интернальную) расчлененность, поскольку сама психология может быть представлена также как совокупность (система) входящих в нее частных, научных дисциплин. Прочерчивание внешних и внутренних границ предметной области психологии вместе с тем являет собой пример неявного (имплицитного) определения предмета. Поэтому в дополнение к ним следует предложить и вариант явного (эксплицитного) его определения. В качестве такового может выступать характеристика содержания понятий, которые используются для ее наименования в целом. Таким образом, мы приходим к разграничению трех вариантов определения предмета психологии: имплицитное экстернальное, имплицитное интернальное и эксплицитное» [Гинецинский, 1994, с. 61].
В качестве такового может выступать характеристика содержания понятий, которые используются для ее наименования в целом. Таким образом, мы приходим к разграничению трех вариантов определения предмета психологии: имплицитное экстернальное, имплицитное интернальное и эксплицитное» [Гинецинский, 1994, с. 61].
 п.;
п.;