Понятие сознание ввел: Почему сознание — это не мозг (и как это доказать)
Почему сознание — это не мозг (и как это доказать)
В научном сообществе не прекращаются споры о том, что такое сознание. Нейробиологи часто отождествляют его с процессами, протекающими в человеческом мозге. Философ Антон Кузнецов объясняет, почему это слабая позиция. О «слепом зрении», иллюзиях и «аргументе зомби» — в конспекте его лекции.
Антон Кузнецов
Кандидат философских наук, младший научный сотрудник философского факультета МГУ, сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ
Аномальный феномен
Проблема соотношения тела и сознания до сих пор не решена. Существуют разные теории сознания — теория глобального нейронного рабочего пространства (Global workspace theory, или GWT. — Прим. T&P), квантовая теория Хамероффа — Пенроуза, теория аттендированной среднеуровневой реализации сознания Принца или теория интегрированной информации. Но все это только гипотезы, в которых недостаточно разработан концептуальный аппарат.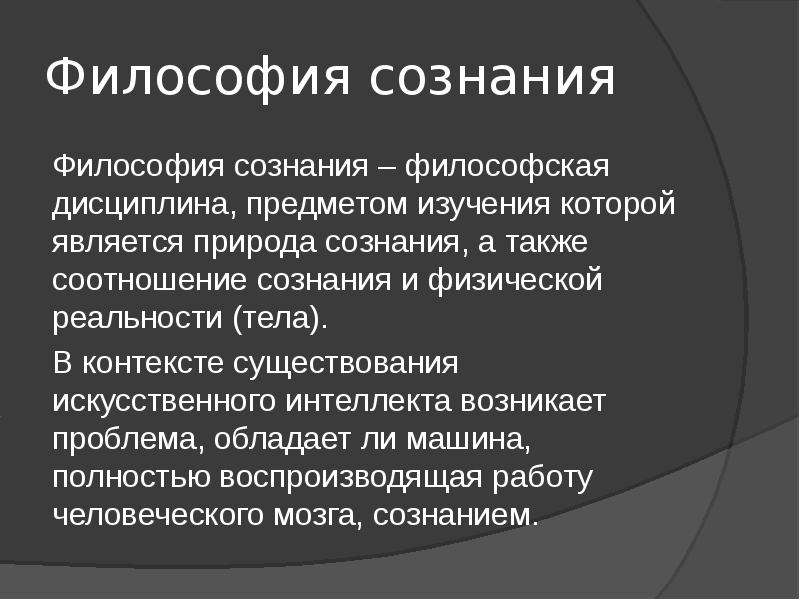 А кроме того, нам не хватает экспериментальных средств для изучения мозга и поведения человека — например, применение постулатов теории интегрированной информации на живых организмах пока невозможно из-за вычислительных и аппаратных ограничений.
А кроме того, нам не хватает экспериментальных средств для изучения мозга и поведения человека — например, применение постулатов теории интегрированной информации на живых организмах пока невозможно из-за вычислительных и аппаратных ограничений.
Сознание — аномальный феномен, непохожий на остальные феномены естественного мира. В то время как последние интерсубъективны, то есть доступны всем, к сознанию мы всегда имеем только внутренний доступ и не можем его непосредственным образом наблюдать. Одновременно с этим мы знаем, что сознание — естественное явление. Впрочем, если мы станем думать об устройстве Вселенной как о фундаментальных физических взаимодействиях, то это будет работать ровно до тех пор, пока мы не вспомним о сознании: непонятно, как в такое представление мира втискивается феномен со столь непохожими на все остальное характеристиками.
Одно из лучших определений сознания — остенсивное (определение предмета путем непосредственного показа. — Прим. T&P): все мы с вами чувствуем ментальные образы и ощущения — это и есть сознание.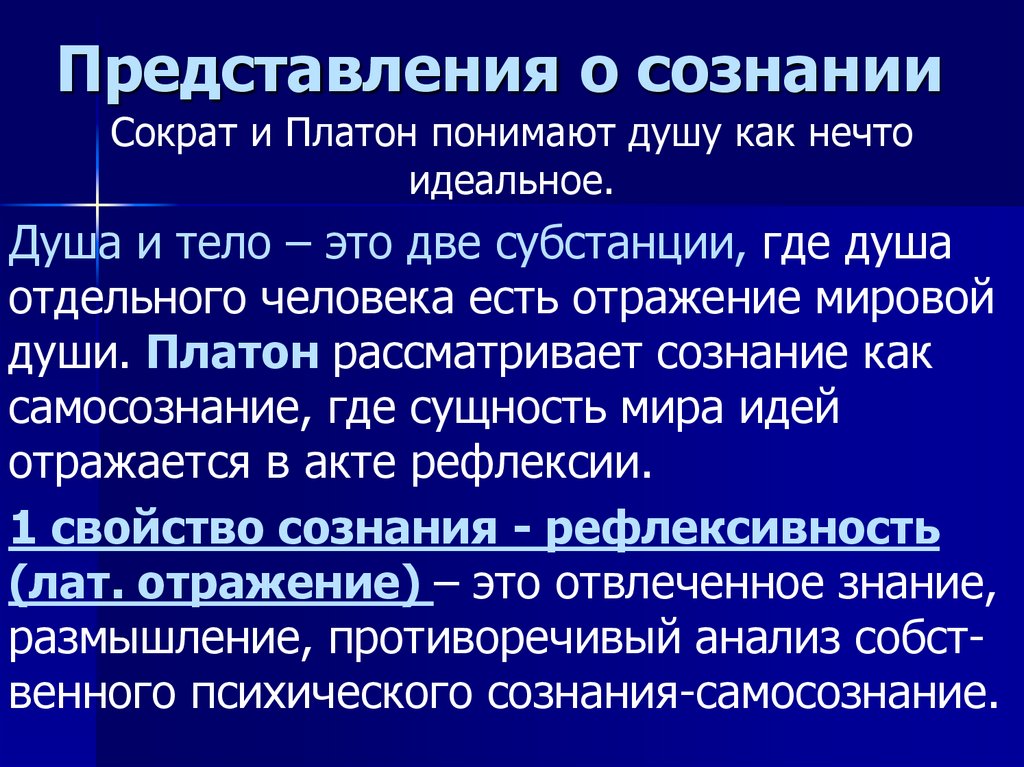
Функции есть, а сознания нет
Существует когнитивное понятие сознания. Примерами когнитивных задач, которые мы выполняем как сознательные субъекты, могут быть речь, мышление, интеграция информации в мозге и т. д. Но это определение слишком широкое: получается, если есть мышление, речь, запоминание, значит, есть и сознание; и наоборот: если нет возможности говорить, значит, и сознания нет. Часто это определение не работает. Например, у пациентов в вегетативном состоянии (которое наступает, как правило, после инсульта) есть фазы сна, они открывают глаза, у них бывает блуждающий взгляд, и родственники часто принимают это за проявление сознания, что на самом деле не так.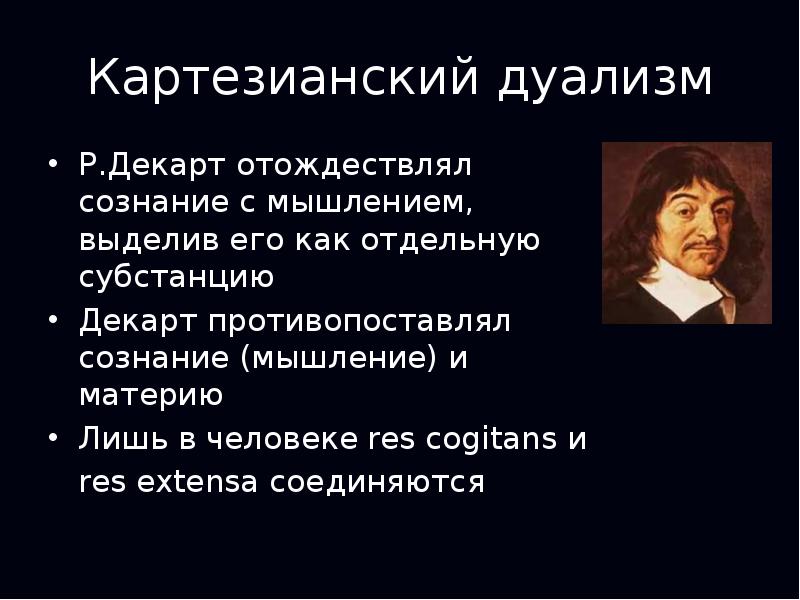
Если в МРТ-аппарат поместить обычного человека и попросить представить, как он играет в теннис, у него произойдет возбуждение в премоторной коре. Эту же задачу поставили перед пациенткой, которая не откликалась вообще ни на что, — и увидели на МРТ такое же возбуждение в коре. Тогда женщину попросили представить, что она находится в доме и ориентируется внутри него. Потом ее начали спрашивать: «Вашего мужа зовут Чарли? Если нет, представляйте, что вы ориентируетесь в доме, если да — что вы играете в теннис». Реакция на вопросы действительно была, но ее можно было отследить только по внутренней активности мозга. Таким образом,
поведенческий тест не позволяет нам удостовериться в наличии сознания. Жесткой связи между поведением и сознанием нет.
Между сознанием и когнитивными функциями тоже нет прямой связи. В 1987 году в Канаде произошла страшная трагедия: лунатик Кеннет Паркс заснул перед телевизором, а потом «проснулся», завел машину, проехал несколько миль до дома родителей своей жены, взял монтировку и пошел убивать.
Я сегодня видел у кого-то в руках книгу Николаса Хамфри «Пыльца души». В 1970-х Николас Хамфри, будучи аспирантом и работая в лаборатории Лоуренса Вайскранца, открыл «слепое зрение». Он наблюдал за обезьяной по имени Хелен, у которой была корковая слепота — не функционировали зрительные отделы коры головного мозга. Обезьяна всегда вела себя как слепая, но в ответ на некоторые тесты вдруг начала демонстрировать «зрячее» поведение — каким-то образом распознавала простые объекты.
Обычно нам кажется, что зрение — сознательная функция: если я вижу, значит, я осознаю.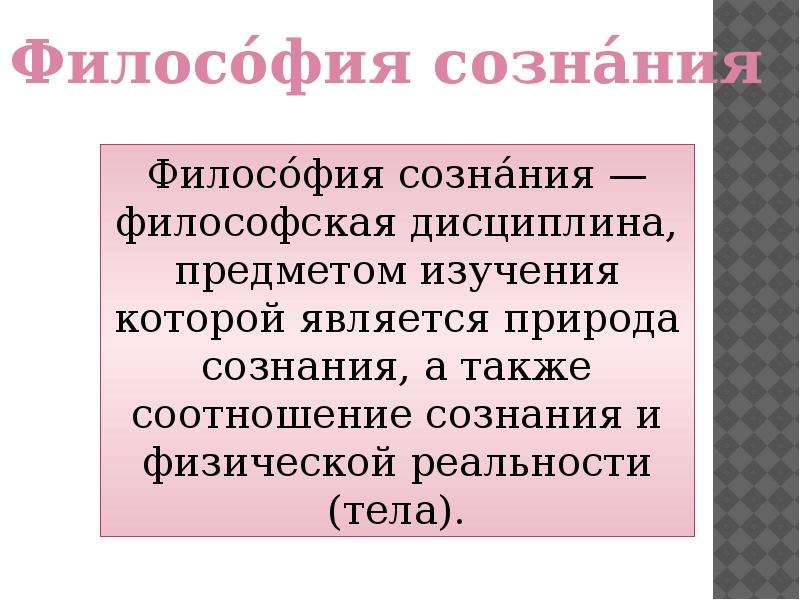
Зрительное восприятие — это когда вы можете сказать, «что» и «где», а зрительное ощущение — это когда при этом вы еще имеете ментальную картинку. Выполняется примерно одна и та же когнитивная функция распознавания объекта, но в одном случае это распознавание сознательно, а другом — нет. «Слепое зрение» — это зрительное восприятие без сознания.
Чтобы какая-то функция в мозге была сознательной, нужно, чтобы выполнение определенной когнитивной задачи сопровождалось внутренним субъективным опытом.
Именно наличие приватного опыта является ключевым компонентом, позволяющим сказать, есть сознание или нет. Это более узкое понятие называется феноменальным сознанием (phenomenal consciousness).
Трудная проблема
Если бы мне без анестезии вырывали зуб мудрости, скорее всего, я бы кричал и пытался двигать конечностями — но по этому описанию трудно сказать, чтó со мной происходит, если не знать, что я при этом испытываю жуткую боль. То есть когда я нахожусь в сознании и происходит что-то с моим телом, важно подчеркнуть: чтобы сказать, что я нахожусь в сознании, я добавляю в историю своего организма какие-то внутренние приватные характеристики.
Это подводит нас к так называемой трудной проблеме сознания (hard problem of consciousness, термин ввел Дэвид Чалмерс). Она заключается в следующем:
почему функционирование мозга сопровождается субъективными и приватными состояниями? Почему оно не происходит «в темноте»?
Нейроученому неважно, есть ли у сознательных состояний субъективная, приватная сторона: он ищет неврологическое выражение этих процессов. Однако даже если это неврологическое выражение найдено, оно все равно каким-то образом испытывается. Таким образом, неврологическое описание или описание сознания через мозговые, поведенческие процессы и когнитивное функционирование всегда будет неполным. Мы не можем объяснить сознание, используя стандартные методы естественных наук.
Однако даже если это неврологическое выражение найдено, оно все равно каким-то образом испытывается. Таким образом, неврологическое описание или описание сознания через мозговые, поведенческие процессы и когнитивное функционирование всегда будет неполным. Мы не можем объяснить сознание, используя стандартные методы естественных наук.
Безошибочность иллюзии
Можно выделить некоторые характеристики феноменального сознания или сознания вообще: квалитативность, интенциональность, субъективность, приватность, отсутствие пространственного протяжения, невыразимость, простота, безошибочность, прямое знакомство и внутренняя природа. Таково рабочее определение сознания.
Квалитативность (качественность) — это то, каким образом вы испытываете свой внутренний субъективный опыт. Обычно это сенсорные характеристики: цвета, тактильные, вкусовые ощущения и т. д., а также эмоции.
Приватность сознательного опыта означает, что вы не видите то, как я вижу вас. Даже если в будущем изобретут средство увидеть то, чтό другой человек наблюдает в своем мозге, то все равно нельзя будет увидеть его сознание, ведь увиденное будет вашим собственным сознанием.
Отсутствие пространственного притяжения свидетельствует о том, что, когда я смотрю на белую колонну, моя голова не увеличивается на объем этой колонны. У ментальной белой колонны нет физических параметров.
Невыразимость ведет к понятию простоты и неразложимости на другие характеристики. Некоторые понятия невозможно объяснить через более простые. Например, как объяснить, что значит «красное»? Никак. Объяснение через длину волны не считается, потому что, если начать подставлять его вместо слова «красное», значение высказываний изменится. Некоторые понятия можно выразить через другие, но в первом приближении они все кажутся невыразимыми.
Безошибочность означает: вы не можете ошибаться насчет того, что находитесь в сознании. Вы можете заблуждаться в суждениях о вещах и явлениях, вы можете не знать, чтó стоит за ментальным образом, но если вы с этим образом сталкиваетесь, значит, он существует, даже если это галлюцинация.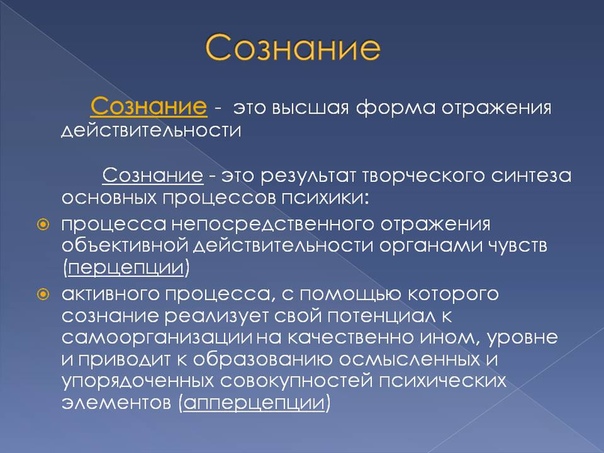
И хотя не все исследователи согласны с таким рабочим определением, любой, кто занимается сознанием, так или иначе интерпретирует эти характеристики. Ведь эмпирически ответить на вопрос, что такое сознание, не получается из-за того, что мы не имеем к нему такого же доступа, как ко всем феноменам естественного мира. А от выстроенной нами эмпирической теории зависит, как мы будем работать с пациентами в тяжелом состоянии.
Сознания нет, а слово есть
Проблема сознания появилась в Новое время усилиями Рене Декарта, который разделил тело и душу по этическим основаниям: тело омрачает нас, а душа как разумное начало борется с телесными аффектами. С тех пор противопоставление души и тела как бы раскалывает мир на две независимые области.
Но ведь они взаимодействуют: когда я говорю, у меня сокращаются мышцы, двигается язык и т. д. Все это физические события, у каждого моего движения есть физическая причина. Проблема в том, что нам непонятно, как то, что не находится в пространстве, влияет на физические процессы. Таким образом, в наших представлениях о мире есть фундаментальный раскол, который нужно устранить. Самый лучший способ — «уничтожить» сознание: показать, что оно существует, но является производной физических процессов.
Таким образом, в наших представлениях о мире есть фундаментальный раскол, который нужно устранить. Самый лучший способ — «уничтожить» сознание: показать, что оно существует, но является производной физических процессов.
Проблема сознания тела связана с другими большими проблемами. Это вопрос тождества личности: что делает личность одной и той же на протяжении всей жизни, несмотря на физиологические и психологические изменения организма и психики? Проблема свободы воли: являются ли наше ментальное и сознательное состояния причинами физических событий или поведения? Биоэтические вопросы и проблема искусственного интеллекта: люди мечтают о бессмертии и возможности перенести сознание на другой носитель.
Проблема сознания связана с тем, как мы понимаем причинность. В естественном мире все причинные взаимодействия носят физическую природу. Но есть один кандидат на нефизический тип причинности — это причинность от ментального к физическому, и от физического — к поведению. Нужно понять, есть ли такой вид процессов.
Нас также интересует вопрос о критериях существования. Когда я хочу понять, существует ли какой-то предмет, я могу это верифицировать: взять его в руки, например. Но в отношении сознания критерий существования не работает. Значит ли это, что сознания не существует?
Представьте, что вы видите, как бьет молния, и вы знаете, что физическая причина удара молнии — столкновение холодного и теплого погодных фронтов. Но потом вдруг добавляете, что другой причиной молнии могут быть семейные неурядицы бородатого седого мужчины атлетического телосложения, его зовут Зевс. Или, например, я могу утверждать, что за моей спиной находится синий дракон, просто вы его не видите. Ни Зевс, ни синий дракон не существуют для естественной онтологии, так как их допущение или отсутствие ничего не меняет в естественной истории. Наше сознание сильно похоже на такого синего дракона или на Зевса, поэтому мы должны объявить его несуществующим.
Почему мы этого не делаем? Человеческий язык переполнен ментальными терминами, у нас неимоверно развит аппарат для выражения внутренних состояний. И вдруг оказывается, что внутренних состояний нет, хотя их выражение есть. Странная ситуация. Без проблем можно отказаться от утверждения о существовании Зевса (что и было сделано), но Зевс и синий дракон тем отличаются от сознания, что последнее играет важную роль в нашей жизни. Если вернуться к примеру, когда мне выдирают зубы, то сколько меня ни убеждай, что я не испытываю боль, я все равно буду ее испытывать. Это состояние сознания, и оно достоверно. Выходит,
И вдруг оказывается, что внутренних состояний нет, хотя их выражение есть. Странная ситуация. Без проблем можно отказаться от утверждения о существовании Зевса (что и было сделано), но Зевс и синий дракон тем отличаются от сознания, что последнее играет важную роль в нашей жизни. Если вернуться к примеру, когда мне выдирают зубы, то сколько меня ни убеждай, что я не испытываю боль, я все равно буду ее испытывать. Это состояние сознания, и оно достоверно. Выходит,
для сознания нет места в естественном мире, но мы не можем отказаться от его существования. Это ключевая драма в проблеме сознания тела.
Впрочем, поскольку с точки зрения естественной онтологии мы должны объявить сознание несуществующим, многие исследователи предпочитают утверждать, что сознание — это физический процесс в мозге. Можно ли тогда сказать, что сознание — это и есть мозг? Нет. Потому что, во-первых, для этого нужно продемонстрировать идеальную замену ментальных терминов на неврологические. А во-вторых, нейронные процессы невозможно верифицировать.
А во-вторых, нейронные процессы невозможно верифицировать.
Аргумент зомби
Как доказать, что сознание — это не мозг? Часто для этого используют примеры внетелесного опыта. Проблема в том, что все подобные случаи не выдержали проверки. Попытки верифицировать феномен реинкарнации тоже провалились. Так что аргументом в пользу нематериальной природы сознания может быть только мысленный эксперимент. Один из них — так называемый аргумент зомби (philosophical zombie). Если все, что существует, объясняется лишь физическими проявлениями, то любой мир, тождественный нашему во всех физических отношениях, тождественен ему и во всех остальных. Представим мир, тождественный нашему, но в котором нет сознания и обитают зомби — существа, функционирующие только согласно физическим закономерностям. Если такие существа возможны, значит, человеческий организм может существовать без сознания.
Один из главных теоретиков материализма Дэниел Деннет считает, что мы и есть зомби. А защитники аргумента зомби считают как Дэвид Чалмерс: чтобы расположить сознание внутри физического мира и не объявлять его физическим, нужно изменить само понятие о таком мире, расширить его границы и показать, что наряду с фундаментальными физическими свойствами существуют еще и свойства протосознательные. Тогда сознание будет инкорпорировано в физическую реальность, но полностью физическим все-таки не будет.
Тогда сознание будет инкорпорировано в физическую реальность, но полностью физическим все-таки не будет.
Литература
Baars Bernard J. In the Theater of Consciousness. New York, NY: Oxford University Press, 1997
Owen A. Into the Gray Zone: A Neuroscientist Explores the Border Between Life and Death. Scribner, 2017
Деннет Д. Как исследовать человеческое сознание эмпирически / пер. с англ. Н.С. Юлиной // История философии. — М.: ИФ РАН, 2005. — Вып. 12.
Деннет Д. Онтологическая проблема сознания / пер. с англ. А.Л. Блинова // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология) / сост. А.Ф. Грязнов. — М.: ДИК «Прогресс-Традиция», 1998. — С. 361–375.
Пенроуз Р. Тени разума: В поисках науки о сознании / Перевод с англ. А.Р. Логунова, Н.А. Зубченко. — М.: Ижевск: ИКИ, 2011
Хамфри Н. Сознание. Пыльца души. — М.: Карьера Пресс, 2014
Чалмерс Д. Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории.
 — М.: Либроком, 2013
— М.: Либроком, 2013
Мы публикуем сокращенные записи лекций, вебинаров, подкастов — то есть устных выступлений. Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции. Мы запрашиваем ссылки на первоисточники, но их предоставление остается на усмотрение спикера.
Читайте нас в Facebook, VK, Twitter, Instagram, Telegram (@tandp_ru) и Яндекс.Дзен.
Где можно учиться по теме #мозг
Человеческое сознание. Перенести нельзя скопировать? / Хабр
Предыдущая
статьяна эту тему вызвала к жизни бурное обсуждение в количестве более четырехсот комментариев,
В принципе, это и неудивительно. Такая же ситуация обстоит, например, с лингвистикой. Как говаривал гениальный и увы, уже покойный академик Андрей Зализняк, поскольку каждый человек свой язык знает, а лингвистика она про язык, то почему бы ему и не разбираться в ней, так сказать, априори. И как мы знаем, также уже почивший сатирик Михаил Задорнов со своими изысканиями в области русского языка не даст соврать:
«А слово «Богатырь» образовано из двух слов – «бог» и «тырить».
С самосознанием, сознанием, самоосознанием, самостью, внутренним «я», личностью — дело обстоит примерно также. Поскольку это всё есть внутри головы почти у каждого из нас, то почему бы нам не родить ещё парочку-тройку умных мыслей и предположений по этому поводу, коль скоро философы спорят на эту тему уже две тысячи лет, а учёные и психологи лет двести и всё никак не могут докопаться до истины. Ещё правда, есть нейробиологи-томограферы, которые всё делают через томограф, но это каста относительно молодая и в основном они смотрят «где» и «что» в голове происходит, не объясняя «как». У них на это, правда, есть свои резоны, к которым мы ещё вернемся.
И поскольку хабра-авторы являются тоже человеками, то в результате, примерно раз в неделю это приводит появлению очередной статьи типа: «Кармическое проклятье Хабра», «Сознание, что это такое», «На пути к фундаментальной теории сознания», «Как устроено сознание», где ярко и образно или занудно и косноязычно пересказывается посетивший автора инсайт.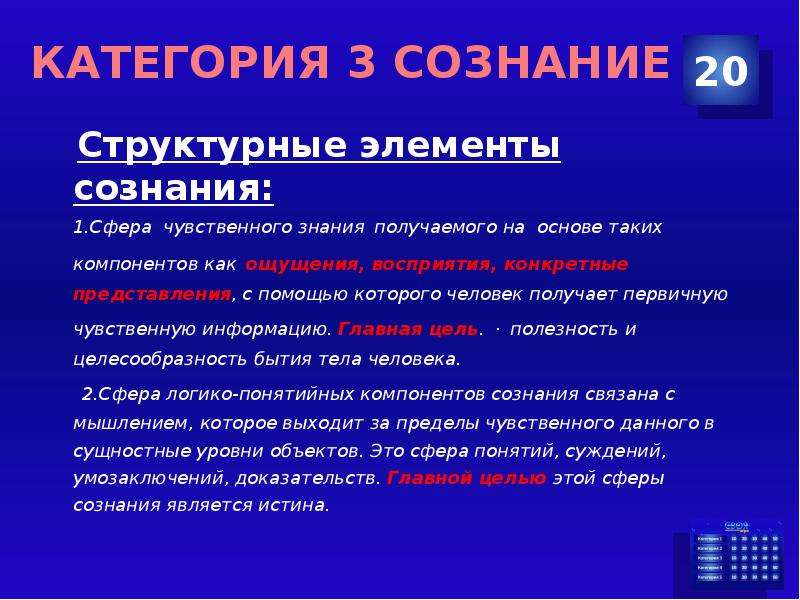 К сожалению, в большинстве случаев всё это сводится к бесконечному хождению по кругу в мучительной попытке выразить термин сознание и его производные, через другие слова русского, английского и даже немецкого языков. Получается, что-то вроде (это из одной такой статьи):
К сожалению, в большинстве случаев всё это сводится к бесконечному хождению по кругу в мучительной попытке выразить термин сознание и его производные, через другие слова русского, английского и даже немецкого языков. Получается, что-то вроде (это из одной такой статьи):
Сознание — это все, что ты чувствуешь (на основе информации от сенсорных органов чувств), и затем переживаешь (за счет восприятия и осмысления).
Вроде всё правильно и даже не поспоришь. Но толку-то? Любому, уважающему себя гику интересно совсем другое. Интересно, как его гиковское сознание можно сохранить на будущее? А можно ли его скопировать на другой носитель? И что тогда будет с оригиналом?
Вопросы, надо сказать, вполне жизненные. Человеческая и даже гиковская жизнь конечна, а сама жизнь между тем становится всё интересней и захватывающей. Соответственно очень хочется хоть тушкой, хоть чучелком, хоть кремниевым чипиком в эту будущую жизнь проскочить (Курцвейл одобряе и сам очень хочет).
Но для этого, таки и необходимо выяснять где, что и как.
Поэтому, чтобы не вдаваться в бесполезные умствования, пришлось прибегнуть к помощи людей разумных и известных в этих областях, как-то:
- Антонио Дамасио — директор Института мозга (США)
- Станислас Деан — математик и нейробиолог (Франция)
- Вилейанур Рамачандран — чародей нейронауки с иглой и молотком
- Дэвид Иглмен — учёный невролог, философ
Надо сказать, что ранее в академической среде такие общие экскурсы не очень приветствовались, и гранты по теме, как мозг генерирует свою субъективную точку зрения вы вряд ли бы получили, даже будучи ученым с мировым именем. Вплоть до конца девяностых на эту тему разрешалось трындеть только философам, а психологов и нейро биологов за нее жестко гнобили их же коллеги. Как пишет Станислас Деан:
В 1980- будучи студентом университета, я с удивлением обнаружил, что на совещаниях в лаборатории слово на букву «с» произносить было нельзя.Все мы конечно так или иначе изучали сознание — например, просили участников эксперимента разбить увиденное по категориям или воображать различные образы в темноте, — однако само слово оставалось табу и в серьезных научных трудах никогда не встречалось. Не считая нескольких крупных исключений, ученое общество полагало, что термин «сознание» не имеет никакой ценности для психологии. Зарождавшаяся в те годы когнитивная наука описывала психическую деятельность исключительно с позиции обработки информации, а также сопутствующих этому на молекулярном и нейронном уровне процессов. Определения сознанию никто не давал, этот термин устарел и никому больше не был нужен.
Сейчас положение, вроде как, изменилось в том плане, что нейробиологи и психологи не бьют друг друга по головам, а объединившись в научные коллективы и вооружившись передовой научной техникой, пытаются загадку сознания разрешить и по крайней мере, употреблять этот термин уже разрешают. Другое дело в том, что их исследования (те, которые дозволяет публиковать у себя журнал “Nature”) все ещё очень специализированы и названия их звучат примерно как: «Серотонин стимулирует образование новых митохондрий в нейронах». Либо очень много работы идет чисто по медицинской тематике, типа: «болезнь Альцгеймера и методы её лечения». Вроде и про мозг и про сознание (точнее про его дегенерацию), но как-то не с той стороны. Да и сами даже очень известные ученые предпочитают свои труды наводнять интересными, но частностями, а рассуждать комплексно и обо всём начинают только в научно-популярных книжках (если, конечно, их пишут). Книжки, они же вроде как для народа, репутации из-за них в своих кругах не потеряешь
Либо очень много работы идет чисто по медицинской тематике, типа: «болезнь Альцгеймера и методы её лечения». Вроде и про мозг и про сознание (точнее про его дегенерацию), но как-то не с той стороны. Да и сами даже очень известные ученые предпочитают свои труды наводнять интересными, но частностями, а рассуждать комплексно и обо всём начинают только в научно-популярных книжках (если, конечно, их пишут). Книжки, они же вроде как для народа, репутации из-за них в своих кругах не потеряешь
. Дэвид Иглмен, тот вообще напрягся и забабахал шестисерийный цикл про наш мозг и сознание на ВВС; но это кино правда, для самых тугих товарищей, которые его книжки читать не любят.
А глобально о сознании продолжают рассуждать только философы на манер Дэниела Деннета, чьи самые оригинальные мысли вроде того, что «концептуально «я» напоминает центр гравитации» сложного объекта — единственную воображаемую точку, в которой пересекается множество его векторов», охотно цитируются, но вот сами труды читаются народом гораздо менее охотно. А причина все та же — теория, даже самая замысловатая, даже от Деннета никак не переходит в практику; мы не можем пока ни перенести или копировать сознание, ни создать искусственный аналог. Возникает вопрос почему? Неужели это так сложно?
А причина все та же — теория, даже самая замысловатая, даже от Деннета никак не переходит в практику; мы не можем пока ни перенести или копировать сознание, ни создать искусственный аналог. Возникает вопрос почему? Неужели это так сложно?
Некоторые утверждают, что да, слишком сложно. Мол, мозг человека это самое сложное что есть в нашей Вселенной, а мы ещё, дескать и толком-то её устройство не познали. Или как вам такая мысль — чтобы познать работу мозга, необходимо владеть познающим девайсом, сиречь мозгом, намного опережающим исследуемый объект. Короче говоря, наш удел максимум разобраться с мозгами речного рака, а вот со своими уже никак. Кто-то пытается прилепить к сознанию квантовые эффекты, похоже на том основании, что раз уже квантовая запутанность это что-то таинственное и непонятное, то и сознание, как такая же таинственная и непонятная субстанция, тоже как-то со всем этим связано.
Но думается, что это всего лишь жалкие отговорки. Для таких запущенных случаев человечество уже давно выдумало и абстрагирование и наоборот разбиение на составные части. Как бы нематериальность психических процессов теперь тоже особо никого не пугает в связи с распространением в академической научной среде компьютерной грамотности. Я уже не говорю о технических средствах как-то:
Как бы нематериальность психических процессов теперь тоже особо никого не пугает в связи с распространением в академической научной среде компьютерной грамотности. Я уже не говорю о технических средствах как-то:
- Магнитно резонансная томография
- Магнитная энцефалография
- Электроды в мозх
- Старая добрая электроэнцефалография
- ТМС — транскраниальная стимуляция
- Игла и молоток (доктор Вилейанур Рамачандран)
Конечно, инструменты вещь полезная, но определяющую роль должно играть само направление научного поиска. Так сказать — куда копать. Человек, существо такое — дай ему иголку, построит целую систему китайской акупунктуры, плюс теорию энергетических меридианов и течения «Ци» через них. Ну, нравится нашему мозгу выводить любые теоретические последовательности из всего того, что он ощущает посредством своих органов чувств. К счастью, как раз наличие хорошего и годного практического инструментария помогает вернуться с небес на землю и отсечь, так сказать, излишнее умствование.
Проще всех, конечно, поступает доктор Рамачандран со своими коллегами. Поскольку он дескать, слишком старомоден для всех этих томографов-энцефалографов, то он предпочитает работать по старинке иголкой и неврологическим молотком. Совсем здоровые люди ему неинтересны, но:
Обычно я рассматриваю пациентов, у которых поврежден мозг из-за инсультов, опухолей или травм головы, в результате чего возникают проблемы восприятии и сознании. Также я иногда сталкиваюсь с людьми, у которых на первый взгляд нет повреждений или отклонений в мозге, но которые говорят о своих весьма необычных психических опытах и восприятии. В любом случае процедура остается неизменной: я опрашиваю их, наблюдаю за их поведением, провожу несколько простых тестов, если возможно, осматриваю их мозг и затем выдвигаю гипотезу, которая соединяет психологию и неврологию, другими словами, гипотезу, которая связывает странности поведения с нарушениями в сложной системе мозга
В принципе, рассуждения довольно логичные. Любой инженер знает, что один из способов определить неисправность в приборе, это отключать поочередно подозрительные блоки. На людях такие эксперименты приветствуются не особо, поэтому пациенты у которых избирательно поражены какие-то части мозга
Любой инженер знает, что один из способов определить неисправность в приборе, это отключать поочередно подозрительные блоки. На людях такие эксперименты приветствуются не особо, поэтому пациенты у которых избирательно поражены какие-то части мозга
, могут явиться настоящим кладом до пытливого ученого.
Но в сторону своих технически вооруженных коллег доктор Рамачандран всё-таки посматривает. Потому что, к примеру, обезьян мучить можно и когда в девяностых годах прошлого века у них (обезьянок ) были открыты так называемые зеркальные нейроны, Рамачандран смог сделать из этого открытия весьма далеко идущие выводы.
Эти зеркальные нейроны весьма интересная штука. В мозге обезьянок, а именно в лобных долях находятся определенные нервные клетки, которые активизируются, когда обезьянка выполняет определенное действие. Но как выяснилось, в этих же лобных долях, существуют нейроны, которые активизируются, когда обезьяна видит, как другой примат выполняет то же действие.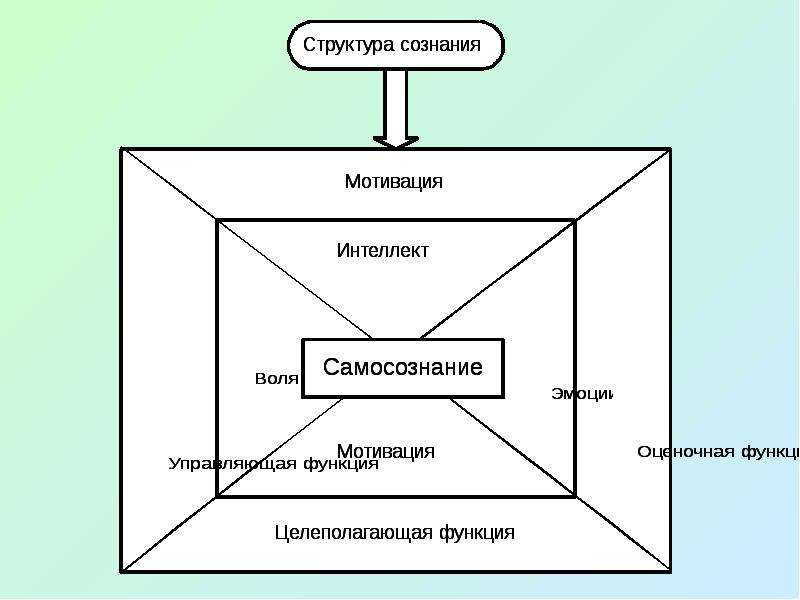
Услышав на лекции Риццолатти об этой новости, я чуть было не подскочил со своего места. Это были не просто командные нейроны, они были способны воспринять точку зрения другого животного. Эти нейроны (на самом деле нейронная сеть, к которой они принадлежат) по всем своим целям и замыслам были предназначены для чтения разума другой обезьяны, для понимания того, что она собирается делать. Это необходимо для таких социальных существ, как приматы.
Доктор Рамачандран подскочил не просто так. Он просто понял, что такие же зеркальные нейроны должны быть и у людей, как у старших родственников приматов. Мало того, они и функции должны выполнять более сложные. И доктор сразу подумал, конечно же, о сознании.
. Но в итоге, добрался и туда.
Когда учёные занялись зеркальными нейронами всерьёз, то скоро выяснилось, что моторные зеркальные нейроны (то есть те самые, которые реагируют на действия) не являются единственными в своём роде.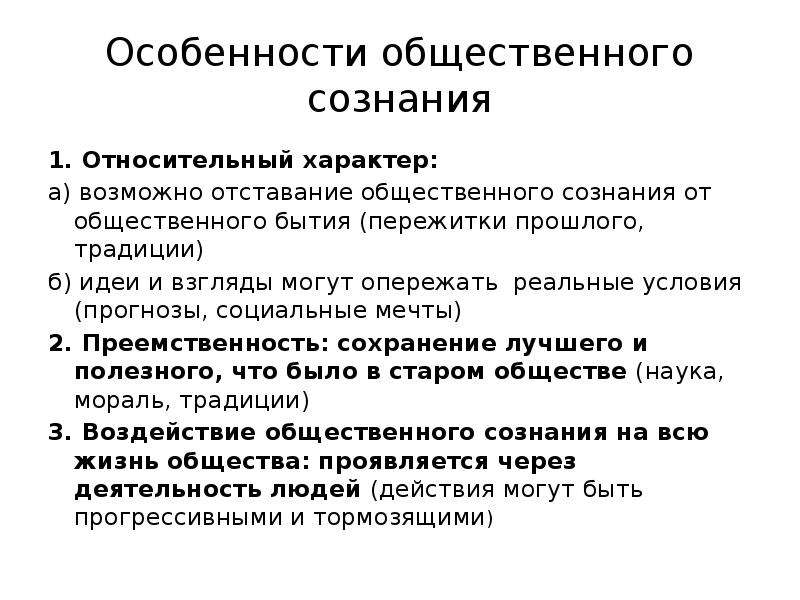 Такие же клетки и нашлись в передней поясной коре, но отвечали они за осязание и чувство боли. Это уже выяснили с человеками, которым проводили нейрохирургические операции. Такие операции зачастую проводят, когда пациент находится в сознании. Делается это для того, чтобы врач при операции не отрезал в мозгу чего лишнего. Там же миллиметр вправо-влево и всё, вы уже женщина. Поэтому сначала нужный участок мозга щекочут электродом, а потом спрашивают, что, мол, вы почувствовали? Из тела вышли? Ладно, здесь не удаляем.
Такие же клетки и нашлись в передней поясной коре, но отвечали они за осязание и чувство боли. Это уже выяснили с человеками, которым проводили нейрохирургические операции. Такие операции зачастую проводят, когда пациент находится в сознании. Делается это для того, чтобы врач при операции не отрезал в мозгу чего лишнего. Там же миллиметр вправо-влево и всё, вы уже женщина. Поэтому сначала нужный участок мозга щекочут электродом, а потом спрашивают, что, мол, вы почувствовали? Из тела вышли? Ладно, здесь не удаляем.
Соответственно, если врач учёный, то он и во время операции может добывать научные факты. И факты оказались интригующими, некоторые нейроны в передней поясной коре возбуждались, когда гладили и тыкали иголкой не самого пациента, а другого человека, но в поле его зрения.
Только подумайте о том, что это значит! Каждый раз, когда вы видите, как кто-то что-то делает, активизируются те же самые нейроны, которые ваш мозг стал бы использовать, как если бы вы сами это сделали.Если вы видите, как другого тыкают иглой, ваши болевые нейроны сработают, как если бы это вас проткнули иглой. Это чрезвычайно интересно и поднимает некоторые важные вопросы. Что мешает нам слепо имитировать каждое действие, которое мы видим? Или буквально чувствовать чужую боль? В случае с моторными зеркальными нейронами можно ответить, что могут существовать фронтальные ингибиторные участки, которые подавляют автоматическое подражание, когда оно неуместно. Парадоксально, что эта необходимость подавлять нежелаемые или импульсивные действия могла стать главной причиной развития СВОБОДНОЙ ВОЛИ. Ваша левая нижняя теменная доля постоянно вызывает яркие образы бесчисленных возможностей действия, которые доступны в каком-либо контексте, а ваша лобная кора подавляет их все, кроме одного.
Немного оффтопа, но если каким-то образом эти фронтальные ингибиторные участки отключить, то теоретически можно устроить неплохую виртуальную реальность.
Подавить же их можно транскраниальной магнитной стимуляций или ТМС. Одеваем виртуальный шлем, давим и вперёд в WARCRAFT III. А если ещё простимулировать области между теменной и височной долями (правда, тут уже нужны электроды, так что не всем это доступно, но эпилептики ликуют), то можно добиться дополнительно эффекта покидания тела. И поскольку, «там где наши глаза и ощущения, там и мы», то теоретически можно путешествовать и по виртуальным мирам и по виртуальным телам. Мы ведь, в сущности, не что иное, как «»мозги в чанах, по мнению большинства современных нейробиологов. Даже без применения карательных электродов, если вы, вот допустим, лежите, а вам нажимают на ступни ног определенным образом, то скоро вам начнет казаться, что вы уже не лежите, а идёте. Кстати, давно известный эффект открытый ещё советскими медиками и даже использовавшийся на практике для советских же космонавтов. На орбите-то ходить негде, а так полная иллюзия полезная для психического здоровья. И даже ТМС не надо.
Одеваем виртуальный шлем, давим и вперёд в WARCRAFT III. А если ещё простимулировать области между теменной и височной долями (правда, тут уже нужны электроды, так что не всем это доступно, но эпилептики ликуют), то можно добиться дополнительно эффекта покидания тела. И поскольку, «там где наши глаза и ощущения, там и мы», то теоретически можно путешествовать и по виртуальным мирам и по виртуальным телам. Мы ведь, в сущности, не что иное, как «»мозги в чанах, по мнению большинства современных нейробиологов. Даже без применения карательных электродов, если вы, вот допустим, лежите, а вам нажимают на ступни ног определенным образом, то скоро вам начнет казаться, что вы уже не лежите, а идёте. Кстати, давно известный эффект открытый ещё советскими медиками и даже использовавшийся на практике для советских же космонавтов. На орбите-то ходить негде, а так полная иллюзия полезная для психического здоровья. И даже ТМС не надо.
Но вернемся к научному поиску доктора Рамачандрана.
Очевидной функцией зеркальных нейронов является то, что они позволяют вам угадать намерения, человека действия которого вы видите. А это не так тривиально, как может показаться вначале. По сути, этого вам надо «влезть в его шкуру», стать этим человеком, чтобы осознать, что он собирается делать. Черепашкам такое недоступно, в принципе.
А это не так тривиально, как может показаться вначале. По сути, этого вам надо «влезть в его шкуру», стать этим человеком, чтобы осознать, что он собирается делать. Черепашкам такое недоступно, в принципе.
Но в дополнение к этому, наши зеркальные нейроны позволяют нам не просто угадывать намерения другого человек, они дают возможность «угадать» намерения себя!
И наконец, несмотря на что система зеркальных нейронов изначально развилась для создания внутренней модели действий и намерений других людей, она могла развиваться дальше, обращаясь внутрь, представляя (или перепредставляя) разум самому себе.…
И когда система зеркальных нейронов таким образом обращена внутрь на свое собственное функционирование, появляется самосознание.
Но на этом доктор Рамачандран не останавливается. Настоящее человеческое сознание (которым уж точно не обладает никто из наших меньших братьев) начавшись, так сказать, с деятельности зеркальных нейронов, в финале начинает выстраивать представления о представлениях, формируя так называемый «второй» мозг»,
а точнее:
Еще на очень ранней стадии эволюции мозг развил способность создавать чувственные представления первого порядка об окружающих объектах.Такие представления могут вызывать лишь весьма ограниченное число реакций. Например, мозг крысы создает только представление первого порядка о кошке как о пушистом движущемся предмете, которого нужно рефлекторно избегать. Однако мозг человека продвинулся далее по пути эволюции: возник «второй мозг», точнее, набор связей между клетками, который в некотором смысле «паразитировал на «первом». Этот «второй мозг» создает мета представления (представления о представлениях — более высокий уровень абстракции), перерабатывая информацию, полученную от «первого мозга», в более управляемые порции, на которых может быть построен более широкий спектр более сложных реакций, включая языковое мышление и мышление символами. Вот почему, вместо простого «пушистого врага», как у крысы, кошка является для нас млекопитающим, хищником, домашним животным, врагом собак и крыс, мяукающим существом с ушами, усами и длинным хвостом, она даже напоминает некоторым Холли Берри в костюме из латекса. Слово «Кошка» символизирует для нас целое облако ассоциаций.
Короче говоря, «второй мозг» выделяет объект смысловым значением, создавая мета представлениеие, которое позволяет нам осознавать понятие «кошка» не так, как это делает крыса.
…
Мы можем манипулировать мета представления высшего уровня, и это присуще только людям. Они связаны с нашим ощущением «Я», позволяют нам осмыслять окружающий мир — как материальный, так и социальный и самоопределяться по отношению к нему
С этим «вторым» мозгом Рамачандрану в какой-то степени повезло, потому что он смог накопать пациента, который по его мнению, наглядно демонстрирует «включение» и «выключение» этого мозга. Случай, как говорится, действительно интересный. Человек с повреждением коры передней части поясной извилины головного мозга после автомобильной аварии лежит три месяца сряду в клинике. Ходить не ходит, но нормально спит, бодрствует, следит глазами за объектами, реагирует на боль. Правда, осмысленных действий не производит, говорить не говорит и своего папу не узнает.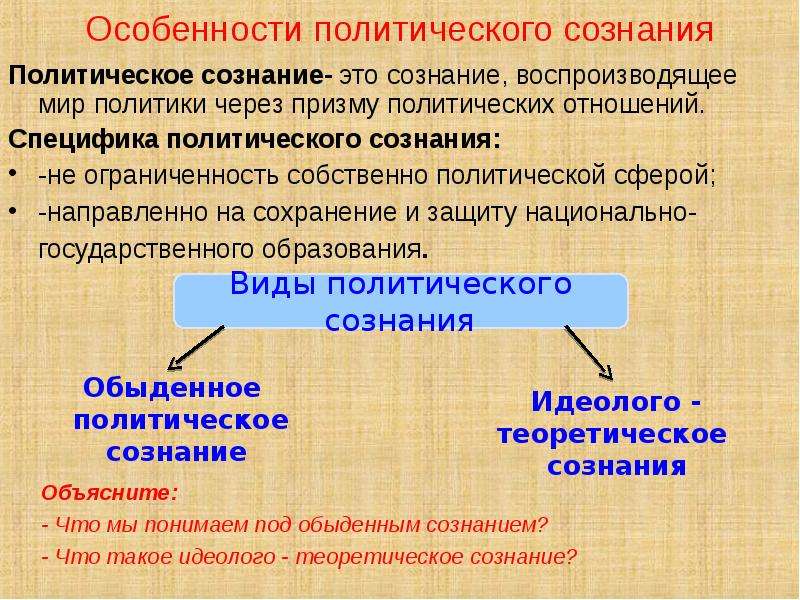 Но стоит папе позвонить ему по телефону из соседней комнаты, как пациент тут же приходит в сознательное состояние, становится весьма оживленным и словоохотливым, папу узнает и участвует в беседе. Причем между этими состояниями его можно свободно «переключать», стоит только его отцу выйти или вернуться обратно в комнату.
Но стоит папе позвонить ему по телефону из соседней комнаты, как пациент тут же приходит в сознательное состояние, становится весьма оживленным и словоохотливым, папу узнает и участвует в беседе. Причем между этими состояниями его можно свободно «переключать», стоит только его отцу выйти или вернуться обратно в комнату.
Вообще, если кору передней части поясной извилины повредить посильнее, то тогда человек полностью погрузится минимальное состояние сознания и ни с кем даже по телефону разговаривать не будет. Но этому пациенту повезло. Хоть зрительные стимулы из-за травмы до сознания не доходят (но подсознательная система работает, за объектами он следит), зато слуховой канал действует. И соответственно в отличие от зрительных, слуховые стимулы активируют «второй мозг», который и формирует мета представления о том, кто он этот пациент, кто его отец и так далее по нарастающей. Поскольку собственно эти представления и связаны с нашим ощущением «я» и с нашим осмыслением окружающего мира (где мы, кто наши папа с мамой и прочее).
Но поелику наш мозг, по сути зрительный, (целая треть мозга занята одними только видео процессами) и придает основное значение обработке именно зрительной информации, то он не спрашивая пациента, переключается на неё и бедолага снова погружается в сумеречное состояние, стоит только папе войти в комнату.
Тут же закономерно возникает мысль, а не находится ли сознание в этой конкретной передней части коры поясной извилины. Сам, между прочим, Френсис Крик (который ДНК изобрел) был убежден, что оно где-то там рядом прячется и до последних дней убеждал в этом доктора Рамачандрана. Но не убедил.
Все-таки даже эта передняя часть, только часть. Важная, но все-таки часть большей сети, в которой рождается сознание. Так что на этом доктор Рамачандран пока притормозил. Но вперёд идут его практические коллеги вооруженные современной техникой.
Например, товарищ Станислас Деан применяет подход поисков так называемых «автографов сознания». Коль скоро сознательные процессы являются лишь малой частью всех процессов в мозге, то по мнению Деана необходимо просто отделить сигналы исходящие от мозга при сознательных и бессознательных реакциях. Поскольку дело это быстрое (десятки и сотни миллисекунд), то здесь для сбора данных лучше подходит энцефалография.
Поскольку дело это быстрое (десятки и сотни миллисекунд), то здесь для сбора данных лучше подходит энцефалография.
Сам Деан со своими коллегами изобрел и развил множество хитроумных методик позволяющих регистрировать сигналы именно сознательного процесса.
Типичный эксперимент таков. Подопытному кролику в лице человека, демонстрируют различные образы на пределе его восприятия. Если он их замечает, то это работа сознания, если нет, образы крутятся на входе и в сознательный опыт таки не поступают. И как не удивительно, но энцефалограммы при этом тоже отличаются. А если мы точно определим какие паттерны к чему относятся то:
Ключевая идея, распахнувшая перед нами двери в считавшееся прежде недоступным святилище сознания, заключалась в создании экспериментальной стратегии минимального контраста между сознательным и пред сознательным восприятием. За годы работы мы с помощью экспериментов подобрали множество противоположностей, в которых одно состояние ведет к сознательному восприятию, другое — нет.Страшная и ужасная загадка сознания свелась к экспериментальной расшифровке механизмов, с помощью которых мозг различает две пробы, то есть к гораздо более простой проблеме.
Ну, это конечно, Станислас загнул про разгадку ужасной и страшной загадки, но подход интересный, к тому же, без всякой метафизической воды. Опять же современная аппаратура используется и гранты дают без проблем. А главное, его подход уже дал очень красивые и спелые плоды познания, которые мы сорвём чуть позже.
Его коллега и можно сказать философский антагонист Антонио Дамасио (они вечно друг друга подкалывают, а все потому, что один уважает Рене Декарта, а другой нет), решил пойти по другому пути. Так сказать от основ. Начал с клетки. Логично же, она ведь живая и даже определенным тропизмом может обладать — к еде плывёт, если жгутик или реснички есть, от опасности шарахается. Кто скажет, что человек не таков, пусть бросит в меня в Антонио Дамасио камень.
Будучи в действительности очень простыми организмами, одноклеточные отличались чем-то вроде решительного и непоколебимого намерения жить столько, сколько им велят спрятанные в микроскопическом ядре клетки гены.Их жизненная стратегия включала в себя упрямое желание существовать, делиться, цепляться за жизнь до тех пор, пока те или иные гены из ядра не отключат у них волю к жизни и не позволят клетке умереть. Да, приложить понятия «воля» и «желание» к одной-единственной клетке довольно сложно. Откуда возьмутся у столь примитивного организма желания и намерения, которые мы связываем с деятельностью наделенной сознанием психики и интуитивно считаем результатом деятельности большого человеческого мозга? И все же — вот они, эти особенности поведения клетки, тут, как их ни назови. В отсутствие сознательного знания, не имея доступа к запутанным средствам рассуждения, которыми располагает наш мозг, одинокая клетка все же имеет свою позицию в жизни: она хочет жить столько, сколько ей позволит записанная в генах программа. Как бы странно это ни казалось, желание и всё, что необходимо для его удовлетворения, предшествуют определенности знания и оценке окружающих условий, потому что ни знания, ни способности к оценке у клетки, разумеется, нет.
Ядро взаимодействует с цитоплазмой, и вдвоем они выполняют сложные вычисления, направленные на то, чтобы сохранить клетку в живых. Они решают ежесекундно возникающие проблемы, связанные с условиями жизни, и приспосабливают клетку к ситуации так, чтобы клетка выжила.
Мы частенько попадаем в одну и ту же ловушку, веря, будто источником мнений, намерений и стратегий, которыми мы руководствуемся, хитроумно руководя собственной жизнью, является наш большой мозг и сложная, наделенная сознанием психика. Да и с чего бы нам в этом сомневаться? Это вполне логичный и простой ход, позволяющий не вдаваться в подробности истории этих процессов, если мы хотим охватить их взглядом с верхушки пирамиды и с позиции текущих обстоятельств. Однако на самом деле наделенная сознанием психика просто, как бы это сказать, выводит базовое ноу-хау управления жизненными процессами в сферу знания.
То есть, по сути, это всем давно известный лозунг «плодитесь и размножайтесь», на который человеки потом навесили множество дополнительных абстракций вроде патриотизма и духовных поисков.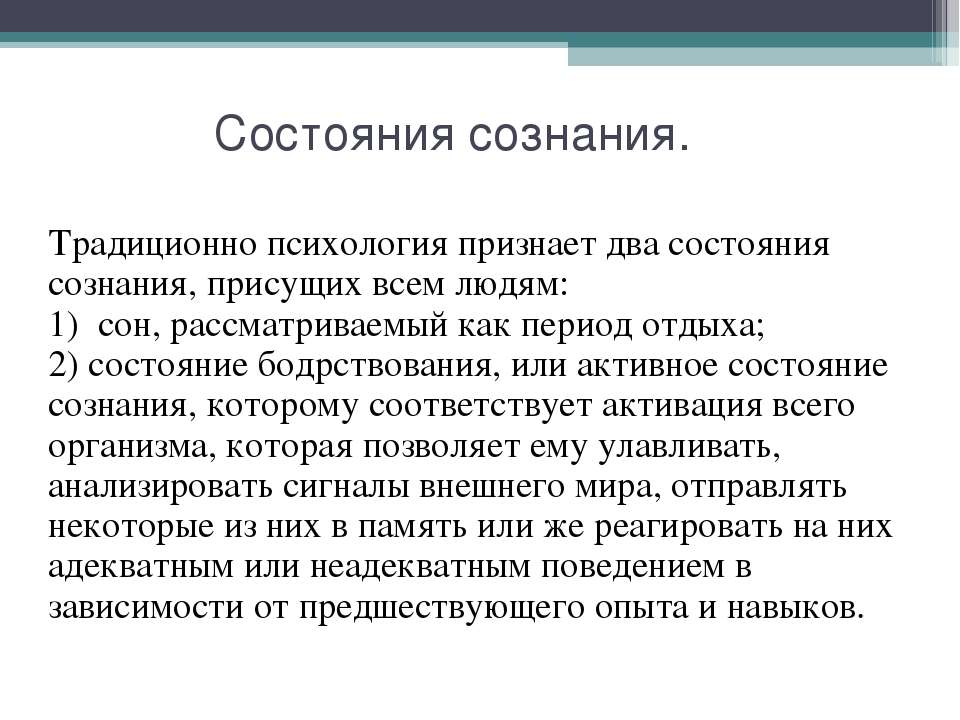 Только, если раньше это говорил Бог, то теперь копирайт переходит к клетке. Понятно, что Дамасио, приводит иллюстрацию «от основ», только для примера. Основная же идея такова — разбирать сразу и вот так мозг и сознание человекообразных этта пока очень сложна. Надо стартовать пониже. Поэтому следующий шаг у него все-таки начинается уже с существ хотя бы обладающих нейронами, пусть и в небольшом количестве — с червяков.
Только, если раньше это говорил Бог, то теперь копирайт переходит к клетке. Понятно, что Дамасио, приводит иллюстрацию «от основ», только для примера. Основная же идея такова — разбирать сразу и вот так мозг и сознание человекообразных этта пока очень сложна. Надо стартовать пониже. Поэтому следующий шаг у него все-таки начинается уже с существ хотя бы обладающих нейронами, пусть и в небольшом количестве — с червяков.
В этом он, наверное, прав. Вот, если например, взять на рассмотрение животин рангом ещё ниже, например медуз и прочих, то у тех-то совсем будет всё тривиально. Рецепторный нейрон у них что-то ощущает (вкусняшку рядом) и дает пинок двигательному нейрону. Вот и весь процесс. Но он становится гораздо интереснее, если между этими нейронами внедряется третий нейрон — промежуточный. Он может передать сигнал от рецепторного дальше, а может и не передать — это зависит от состояния множества других промежуточных нейронов соединенных с ним, но получающих свои сигналы с других рецепторных нейронов, допустим с тех, которые реагируют на опасность. В итоге, вроде бы и достать вкусняшку хочется, но нельзя, ибо ты сам вкусняшка. Так вот, уже у червячков такие промежуточные нейроны присутствуют, а в дальнейшем уже у более эволюционно продвинутых созданий они объединяются в большие скопления — нервные ганглии.
В итоге, вроде бы и достать вкусняшку хочется, но нельзя, ибо ты сам вкусняшка. Так вот, уже у червячков такие промежуточные нейроны присутствуют, а в дальнейшем уже у более эволюционно продвинутых созданий они объединяются в большие скопления — нервные ганглии.
Даже у некрупного мозга, состоящего из нейронных цепочек в виде ганглиев, нейроны помогают другим клеткам тела. Для этого они воспринимают сигналы от клеток тела и либо способствуют выбросу молекулы химического вещества гормона, который, будучи выделен эндокринной клеткой, достигает клеток тела и изменяет их работу), либо инициируют движение (например, когда нейроны возбуждают мышечную ткань и заставляют ее сокращаться). В сложном же мозге высокоразвитого существа сеть нейронов в конце концов копирует устройство тех частей тела, к которым относится. В итоге нейроны создают репрезентацию состояния тела, в буквальном смысле слова карту организма, на который они работают. Получается некий виртуальный суррогат, нейронный дубликат организма.
И где-то примерно с уровня такого существа (с насекомыми он пока не определился) Антоша выводит понятие протосамости. Основной его постулат в том, что в основе психики всегда лежит тело. А психика строит карту тела. Где это тело лежит, как оно само устроено, что может воспринимать. Главная цель у тела, конечно, всё та же — надо поесть и срочно размножиться. Но вот те нейронные структуры создающие карты тела, как раз и создают первоначальное прото- «Я» или протосамость. Правда, на ней всё только начинается.
Непосредственное, бессловесное (действительно, откуда там слова), ничем не приукрашенное ощущение собственного тела, связанное с одним лишь существованием как таковым.
Вот что это такое — протосамость. Многие наверняка ощущали её утром в субботу, после разгульной пятницы. И соответственно структуры, из работы которых она складывается, располагаются в верхней стволовой части головного мозга, но ниже уровня коры (неудивительно). Поэтому доступна она (а соответственно и доля сознания) весьма многим живым существам.
Далее всё развертывается по серьёзному. При дальнейшем эволюционном развитии из протосамости вылупляется базовая самость, которая завязана на действия. Особенно на связь организма и предмета (например, вас на кровати и чайника с водой на столе). Здесь уже мозг создает не карту самого тела, а различные карты взаимодействия тела с разными полезными и неполезными объектами.
И наконец, приходит черед самости автобиографичной определяемой через биографическое знание связанное с прошлым и прогнозирующее будущее. Это когда вы вспоминаете, всё что вы натворили вчера, и что вашему «Я» за это будет в понедельник (или говоря словами доктора Рамачандрана, вы включаете «второй» мозг).
В итоге:
Протосамость с простейшими ощущениями и базовая самость это «физическое «я». Автобиографичная самость берет выше и охватывает все аспекты социальной личности человека, порождая «социальное» и «духовное «я».
А где же тогда там сознание? И как оно соотносится с самостью? Оно из самости вытекает? Как я в итоге понял, если простыми словами и по-русски, то под самостью Дамасио понимает ощущения себя.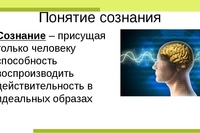 Если протосамость, то это ощущения себя как тела. Если базовая, то уже как тела в миру (взаимодействующего с другими объектами). Ну и автобиографичная свойственная высшим животным и человекам — это понятно, можно не повторяться.
Если протосамость, то это ощущения себя как тела. Если базовая, то уже как тела в миру (взаимодействующего с другими объектами). Ну и автобиографичная свойственная высшим животным и человекам — это понятно, можно не повторяться.
Так что получается, сознание у него это некий слепок с самости, просто терминологически самость изначально крепче привязана к «харду», то есть к телу, а сознание далее больше тяготеет к «софту», к самим нейронным процессам.
Разобравшись с самостью, Дамасио далее оставляет братьев наших меньших и нападает уже непосредственно на сознание, а именно на наделенную сознанием психику (собственно на высокоуровневые нейронные процессы). А из всего ранее обозначенного он использует, по большому счету только понятие карт, которые наш мозг строит и запоминает по любому поводу, начиная от карты нашего собственного тела и до карт всего того, что нас окружает и даже до карт других карт, включая свои же собственные карты (сплошная рефлексия, рекурсия и «второй» мозг доктора Рамачандрана).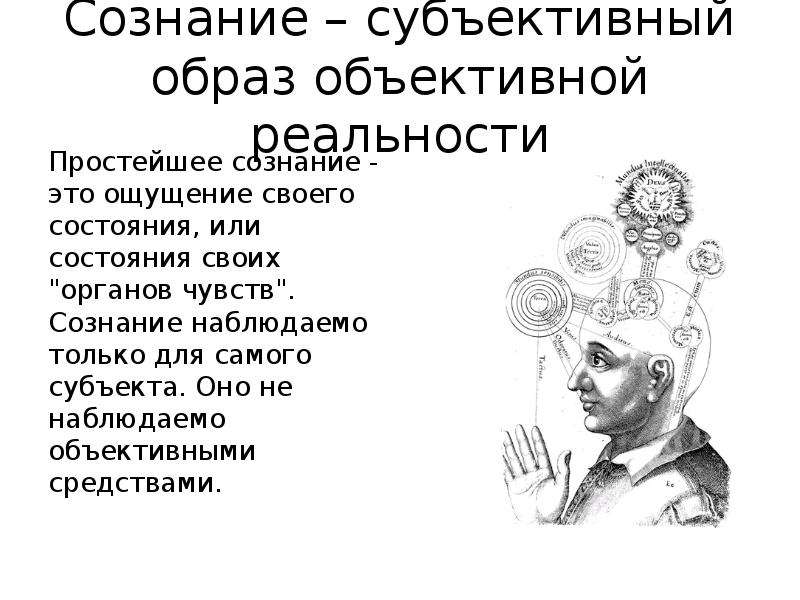
Но главное же утверждение нашего ученого в том, что сознание связано не только с корой головного мозга, но и основательно сидит на подкорковых структурах (собственно они его и порождают). И наше «Я» растёт именно оттуда.
В подтверждение своей точки зрения Антуан приводит детей. Но детей особенных — с гидроанэнцефалией. У этих детей всё хорошо, только кора головного мозга отсутствует. Но им самим действительно хорошо — спят, бодрствуют, смеются, если их щекочут. Они способны следить взглядом за объектами и даже выказывают предпочтения музыке. По мнению врачей, тот факт, что эти дети подают признаки психических процессов не подлежит сомнению. И даже когда у них происходит эпилептический припадок, они как и «нормальные» эпилептики теряют сознание (насколько бы оно не было ограниченным), а потом «возвращаются» Но делают они всё это сугубо подкорковыми структурами, что называется рептильным мозгом (коры-то нет).
По мнению Дамасио это показательный пример работы базовой самости. И если она есть у людей, то естественно должна быть у тех же пресмыкающихся. Просто нам непонятно, когда ящерка по нашему мнению веселится. Но вот, если за окошком вашего номера на Сейшельских островах, вдруг займутся сексом слоновые черепахи, то вы сразу поймете, чем они занимаются, даже если вы их не видите. Такого страстного мычания даже в «Эммануэль» не услышишь.
И если она есть у людей, то естественно должна быть у тех же пресмыкающихся. Просто нам непонятно, когда ящерка по нашему мнению веселится. Но вот, если за окошком вашего номера на Сейшельских островах, вдруг займутся сексом слоновые черепахи, то вы сразу поймете, чем они занимаются, даже если вы их не видите. Такого страстного мычания даже в «Эммануэль» не услышишь.
Теперь попробуем продвинуться чуть дальше. В общем и целом все вышеупомянутые ученые согласны в том что:
1) термин «сознание» слишком перегружен,
2) сознание это не предмет, не перманентное свойство, а процесс,
3) сознание основывается на материальном субстрате ( корки, подкорки это уже детали).
А кстати вот, перегруженность этого термина приводила ранее и к таким отчаянным крикам души:
«Сознание это способность воспринимать, мыслить и чувствовать; осознавание. Термин невозможно определить без использования понятий, которые не являлись бы интеллигибельными (сюда надо точно дух Задорнова звать, здесь явно видна гибель интеллигенции) по отношению к тому, что представляет собой сознание… Нет ничего хуже, чем читать то, что о нем пишут.»
Стюарт Сазерленд. Сознание. Словарь по психологии, 1996
И это было не так давно. В общем, понятно, почему академическая среда не особо жаловала этот термин.
Но поскольку, благодаря научно-техническому прогрессу, мы научились в буквальном смысле заглядывать под черепок и получать оттуда эмпирические данные, то давно уже настала пора разгрузить определение «сознание» на исходные конструкторы кодера Природы и посмотреть, что к чему относится.
Для начала можно убрать определение сознания как общего состояния: «Будучи в сознании и трезвой памяти Родион Раскольников ударил старушку топором». Также нет смысла останавливаться и на вышеупомянутом в цитате Сазерленда сознании, как способности воспринимать, мыслить и чувствовать. Это опять-таки слишком глобальный охват включающий в себя и активное внимание (для восприятия), наличие памяти и желательно культуры и языка (для мышления). А, если ещё и с ощущениями, эмоциями и мотивациями, которые понадобятся для того, чтобы чувствовать, то мы в итоге уедем так далеко, что и с томографом последнего поколения будет не разобраться.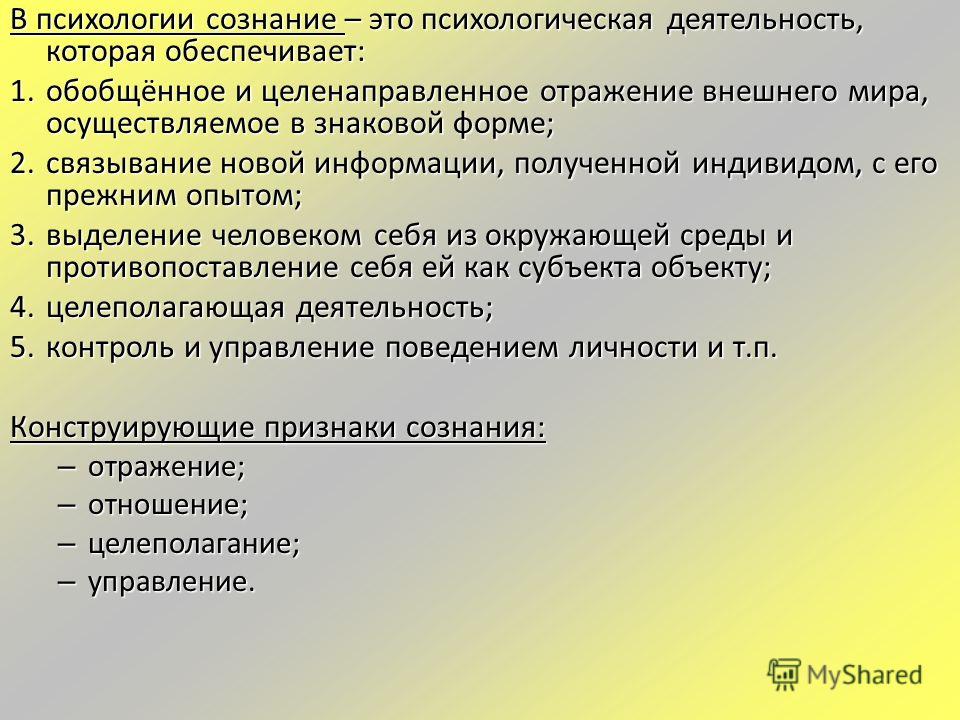 Пока рановато. И вообще, главный недостаток развернутых философских определений это отсутствие конкретных практических выводов, а нам нужны именно они.
Пока рановато. И вообще, главный недостаток развернутых философских определений это отсутствие конкретных практических выводов, а нам нужны именно они.
Поэтому нам потребуется терминологическое определения сознания с практической точки зрения, а исторически это, конечно же, точка зрения медицины. Даже не собственно психиатрии, а конкретно такой земной медицины, помощь которой требуется, когда человек с разной степенью интенсивности ударяется головой об что-то твердое. Или когда гуманные врачи ему дают наркоз, а он гад не спит и дает советы как лучше делать операцию. Или богатая тема инсультов, которые чего-то только с сознанием рецепиента не вытворяют. А что уж говорить про эпилептиков, с электродами в головах, которые сами о том не подозревая, двигают науку вперёд семимильными шагами.
Понятное дело, что самим докторам не нужны философские рассуждения. Им надо знать какой конкретно участок мозга нужно вырубить при наркозе, чтобы пациент вернулся потом обратно. Какой участок мозга пострадавший при инсульте, аварии и тому подобном можно удалить, а какой лучше не трогать вообще.
Здесь у медицины припасено много чего для пытливых умов: сознание спутанное, ограниченное сознание (сонливость, торпор и сопор), сознание минимальное, перманентное вегетативное состояние сознания, псевдокома, кома. Для современных нейробиологов это просто поле не паханное для бесчисленных экспериментов (особенно для Рамачандрана).
Но начинали они, естественно, с сознания здорового человека. А конкретно с пребывания в сознании бодрствования или активного внимания.
Поскольку, с ним (здоровым человеком ) конечно проще: он не сопротивляется, никуда не рвётся, а даже сам ложится в томограф, дает хоть и субъективные, но объективно регистрируемые показания и реакции на различные экспериментальные стимулы. Опять же по клиникам и психбольницам не надо ездить с аппаратурой.
Поэтому ученые, а частности команда Станисласа Деана, о котором уже упоминалось, начали именно с этого.
Так вот, если наш поциэнт жив, здоров и бодрствует, то его внимание можно привлечь соответствующим стимулом (позвать по имени за спиной, показать внезапно картинку на мониторе перед ним), после чего пронаблюдать, как этот стимул перейдет в его человека, сознательный опыт.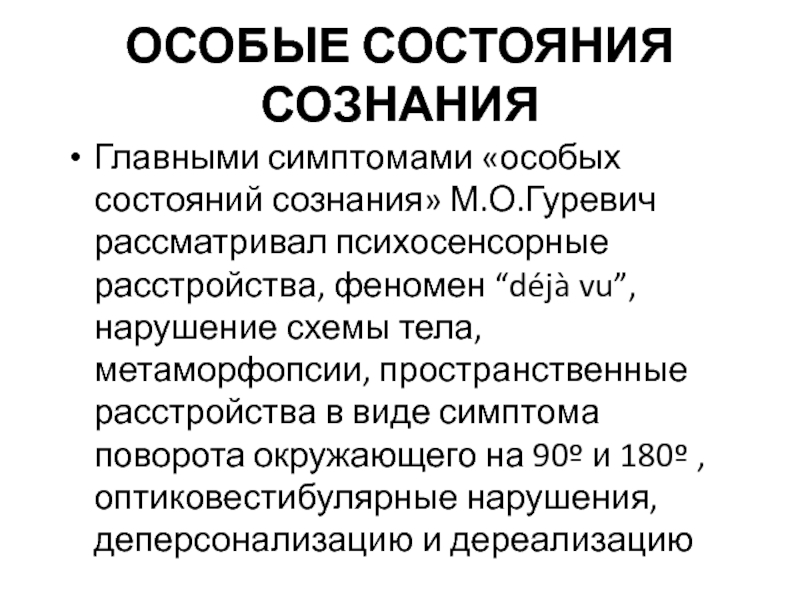 Или не перейдет, если он за общим шумом не расслышит свое имя или картинка на мониторе промелькнет за время не более 50 миллисекунд.
Или не перейдет, если он за общим шумом не расслышит свое имя или картинка на мониторе промелькнет за время не более 50 миллисекунд.
Что же это такое сознательный опыт и доступ в него? По сути это самое простое и практичное определение сознания. Это когда что-то внешнее (но вполне может быть и внутреннее) привлекает наше внимание, выходит на передний план и превращается в мысленный или образный объект, который мы удерживаем в своем внимании какое-то время. Мы можем мысленно «покрутить» этот объект, перейти от него к другому как-то связанному с ним (ассоциативно или напрямую) объекту, который в свою очередь тут же выйдет на передний план. Но предыдущий объект, либо останется в краткосрочной памяти (регистров которых у нас, увы не более семи) и уже потом он затрётся следующими объектами, либо перейдёт в память долговременную.
И это вот удерживание и «прокручивание» и есть осознанное восприятие, в отличие от неосознанного, поскольку на самом-то деле нас бомбардируют не один, а мириады потенциальных объектов складывающихся из зрительных, слуховых и прочих ощущений, не говоря уже об ментальных объектах желающих всплыть по каким-то своим резонам из глубин нашего подсознания. И в этом состоянии мы находимся постоянно, если не спим и не лежим в обмороке. Всегда у нас что-то вылезает на передний план и на нём прокручивается. Деан, кстати, полагает, что так же и проходит осознание самого себя, совершенно как и осознание, например, света или звука. То есть мы выводим таким же путём свое «Я» на передний план и как давай его потом крутить!
Но тогда сразу возникает вопрос, а каким образом происходит тогда селекция из этих мириад потенциальных объектов. Ведь нашему мозгу просто необходимо проводить категорично жесткий отбор, чтобы не утонуть в информационном шуме. Именно так и происходит.
Чтобы избежать информационной перегрузки, многие системы нашего мозга используют селективный фильтр. Из всего множества потенциальных мыслей нашего сознания достигают только избранные, сливки, прошедшие сложнейший просеивающий механизм, который мы зовем вниманием. Наш мозг безжалостно отсекает ненужную информацию и в конце концов допускает в сознание один-единственный объект, который выделяется на фоне остальных или как-то связан с нашими текущими целями. Затем этот стимул усиливается и начинает направлять наше поведение. Из этого следует, что все или почти все селективные функции внимания должны осуществляться за пределами нашего сознания. Разве могли бы мы мыслить, если бы для этого требовалось вначале сознательно перебрать все возможные темы для раздумья? Работа фильтра внимания по большей части остается за пределами сознания
С наличием бессознательных фильтров вроде понятно. Но как они работают? Оказывается по разному. Некоторые фильтры вшиты в нас генетически за миллионы лет эволюции. Если, например, вы особа женского пола и вы видите краем глаза змею вползающую в кадр, то вы, во-первых, рефлекторно переведёте на неё взгляд, а затем нейроны зрительной коры всё также минуя сознание, дадут пинка миндалевидному телу (ответственному среди прочего за чувство страха), которое свою очередь активирует множество систем по всему вашему организму, в том числе и включение звуковой сигнализации. А уже потом вы поймете, что вы видите змеюку и вам очень страшно. У мужиков это, правда, работает по другому, они инстинктивно (т. е. бессознательно) начинают шарить по сторонам руками, видимо в поисках чего-то тяжелого. Змея — оно же мясо!
Или вот продает человек на авто.ру свой двухсотый Ландкрузер уже целый месяц. Уже вроде даже особо о нём и не думает. Но вот почему-то постоянно встречается с этой темой. И на дороге они ему регулярно попадаются, и в разговорах посторонних людей он про них слышит и по телевизору видит. А как зайдет в интернет так, вообще, туши свет (хотя, просим прощения — это контекстная реклама). Неужели австралопитеки два миллиона лет назад банчили крузаками и с тех пор зашили это в ДНК?
С одной стороны, зайдешь на авторынок и как говорится, вполне в такое поверишь. Но наука утверждает, что если мы что-то многократно выполняем на сознательном уровне: учимся печатать вслепую на компьютеры или играть в шахматы или просто долго пытаемся продать кукурузер, то эти действия вполне себе спускаются на уровень подсознания и ждут там своего часа. И вот раньше мы бы и внимания не обратили, какая машина проехала рядом, но подсознательный фильтр уже настроен и готов к работе.
Даже Станислас подтвердит:
Возьмем, к примеру, приобретение такого моторного навыка, как печатание вслепую. При первой попытке мы действуем медленно, внимательно, тщательно отслеживая каждое движение. Но проходит несколько недель и мы печатаем совсем легко, автоматически, не держа в сознании схему расположения клавиш, а сами при этом ведем разговор или думаем о каких-то посторонних вещах. Изучение того, что происходит при автоматизации поведения, позволяет ученым пролить свет на то, что происходит при переходе от сознательного к бессознательному. Оказывается, этот очень простой (ага, казалось бы) переход сопряжен с работой обширной сети нейронов коры головного мозга, а особенно тех участков префронтальной коры, которые возбуждаются всякий раз при доступе в сознательный опыт
Я кстати, не зря упомянул игру в шахматы. За простых шахматистов, конечно, не поручусь, но гроссмейстеры вполне себе анализируют шахматные позиции на подсознательном уровне. А ведь шахматы это не только моторные навыки, тут думать надо. И мозг гроссмейстера думает и ещё как, но вот только в сознательный опыт чемпиона поступают уже итоги раздумий. То есть гроссмейстер просто внезапно видит, что позиция опасна. И он видит это без сознательных размышлений, просто окинув взглядом доску.
Мало того, мы даже можем производить математические вычисления на подсознательном уровне. Деан с командой провел на эту тему массу интересных экспериментов и выяснил, что люди спокойно оперируют в подсознании числами до десяти. Не густо, но ведь и люди-то были самые обычные. К математикам, вроде как, Станислас не подбирался, но вот, к примеру, сам великий Пуанкаре (через которого стал великим и наш Гриша Перельман) писал такое и причем неоднократно:
«В эту пору я покинул Кан, где я тогда жил, чтобы принять участие в геологической экскурсии, организованной Горным институтом. Среди дорожных перипетий я забыл о своих математических работах; по прибытии в Кутанс мы взяли омнибус для прогулки; и вот в тот момент, когда я заносил ногу на ступеньку омнибуса, мне пришла в голову идея хотя мои предыдущие мысли не имели с нею ничего общего, — что те преобразования, которыми я воспользовался для определения фуксовых функций, тождественны преобразованиям неевклидовой геометрии. Я не проверил эту идею; для этого я не имел времени, так как, едва усевшись в омнибус, я возобновил начатый разговор, тем не менее я сразу почувствовал полную уверенность в правильности идеи. Возвратясь в Кан, я сделал проверку; идея оказалась правильной».
А вот по мнению Дэвида Иглмена, мы вообще проводим в таком полубессознательном зомби образном состоянии большую часть жизни, (если не обучаемся чему-то новому). И наши селективные фильтры срабатывают и переводят сторонние объекты в область сознательного доступа только в том случае если входные сигналы нарушают ожидания. Если же они совпадают с ними, то никакой тревоги поднимать не нужно, опасности нет, спим дальше.
Это как, если бы мы ездили на работу на автомобиле по одной дороге, а теперь из-за дорожного ремонта поехали по новому маршруту. В первый раз вы будете очень внимательны, но прокатившись по этому пути несколько раз, благополучно «впечатаете» дорогу в свои нейронные цепи и будет ездить, что называется, машинально. Дорога снова станет знакомой и попадающиеся на ней объекты не будут тревожить ваши селективные фильтры. И такие процессы по «впечатыванию» идут в нашем мозге непрерывно. Мы либо пользуемся уже отлаженными наработками, либо обучаемся новым и снова отправляем их вниз в подсознание. Причем это касается буквально всех аспектов нашей жизни: учебы в университете, работы, знакомств и общения с людьми, перехода улицы в неположенном месте, в общем всего того, с чем мы в этой жизни имеем дело.
По большому счету, это лишь вопрос траты энергии и времени реакции на события. Если мы делаем, что-то сознательно, то мы делаем это медленно и тратим много энергии (в буквальном смысле), но стоит загнать, то что нам нужно в подсознание, процесс становится на порядок более быстрым и даже начинает иногда доставлять удовольствие.
А что происходит с «впечатанными» цепями со течением времени, тем более, что и ресурсы мозга, вроде бы, не бесконечны. Ну, те что вшиты на генетическом уровне, так и останутся с вами до конца жизни. Практически так же долго сохранятся и моторные рефлексы (а ручки-то помнят). Поэтому, если вы научились ездить на велосипеде и играть в настольный теннис, то уже вряд ли разучитесь. А вот процессы более высокого порядка, типа игры в шахматы и занятий математикой, те, да, при отсутствии практики, постепенно исчезнут из подсознательного уровня. Придется учиться заново.
Хотя, конечно, эксперименты с гроссмейстерами и математиками интересны, но не очень практичны для пытливого исследователя. Получается слишком много переменных в уравнениях сознательного и бессознательного и слишком мало шахматных чемпионов для серьезной статистики. Да и занятые они люди, вообще-то говоря. Лучше вернемся к простым опытам с показом простых картинок простым людям на грани восприятия.
Но в отличие от более ранних экспериментов семидесятых, восьмидесятых годов, в этот раз команда Деана обзавелась современными магнитоэнцефалографами и продвинутыми версиями старых добрых электроэнцефалографов. По сравнению с томографией, эти приборы обладают намного более худшим пространственным разрешением (поскольку датчиков не так много), но существенно более лучшим разрешением временным (спокойно до микросекунд). Поскольку, реакции на стимул довольно кратковременны (как и сам стимул) этот выбор был обоснован.
И что же исследователи узрели в процессе экспериментов?
Лавина сознания
А узрели они четкое разделение процессов. Хоть человек и не видит картинку (если она демонстрируется в течении времени чуть меньшем 50 мс), информация о ней все равно поступет в первичную зрительную кору и области вокруг неё. Но покрутившись там, нейронный импульс довольно быстро за половину секунды угасал. Зато, если стимул действовал дольше, то в какой-то момент активация начинала нарастать и захватывать высшие зрительные структуры коры, которые кроме всего прочего связаны с разделением объектов на категории. Подопытный внезапно «узнавал» изображение на картинке.
Осознание картинок со словами проходило ещё интереснее, там волны начинали гулять чуть ли не по всей коре, естественно забегая в зоны ответственные за понимание и формирование речи.
Записи, сделанные с помощью аппаратуры, показывали, что мозг перестраивался внезапно и очень быстро, вдруг начинал видеть и осознавать невидимое. В самом начале, в первичной зрительной области, уровень активности был одинаков независимо от того, было слово видимым или невидимым. Как любые зрительные стимулы, осознаваемые и не осознаваемые слова провоцируют появление в задней части зрительной коры сплошного потока мозговых волн. Но через несколько сотых секунды характер активности резко изменяется. Где-то между 200 и 300 миллисекундами, если считать с начала процесса, активность мозга падает, если слово было воспринято бессознательно, и продолжает распространяться по направлению к передним отделам мозга, если слово было осознано. Примерно 400 миллисекунд спустя разница становится просто огромной: вызвать интенсивную активность в левой и правой фронтальных долях, в передней поясной коре и в теменной коре может только осознанно воспринятое слово. Переход из бессознательного в сознательное происходит поразительно быстро, особенно если учесть, что исходные стимулы в случае осознанного и неосознанного восприятия были абсолютно идентичны. Менее чем через одну десятую долю секунды, между 200-300 миллисекундами с момента появления стимула, приборы зафиксировали переход от абсолютно идентично реакции к диаметрально противоположным вариантам развития ситуации. Выглядело это так, словно поначалу оба слова активизировали зрительную кору одинаково, однако в случае сознательного восприятия волна активности нарастала, прорывалась в лобные и теменные структуры и внезапно захватывала значительную часть коры. В случае же неосознанного восприятия, напротив, волна так и оставалась в тыльных системах, и не затронутое ею сознание не получало информации о случившемся.Впрочем, бессознательная активность угасала не сразу. Волны бессознательного еще с полсекунды бродили в пределах левой височной доли, в областях, отвечающих за понимание значения слова. В височной доле происходит бессознательная интерпретация, но сознательное восприятие возникает, лишь когда эта интерпретация распространяется в пределах лобной и теменной долей.
Интересным выводом стало то, что сознание включается в процесс довольно поздно, то есть, как минимум 0.3 секунды полученная информация бродит где-то на нижних этажах нашего мозга.
На ум почему-то сразу приходит эксперимент профессора Бенджамина Либета, который в 1983 году заставлял испытуемых поднимать палец «по желанию», а сам в это время фиксировал их мозговую активность и где внезапно появлялись те же триста миллисекунд. Суть опыта была такова, добровольца увешанного датчиками просили поднимать палец, когда ему «захочется», но при этом сообщать об этом желании экспериментатору. Иными словами, фиксировать время, когда ему захотелось это сделать. Эксперимент тогда наделал много шума, поскольку мозговая активность начиналась как раз за триста миллисекунд до того, как испытуемый сообщал, что он собирается поднять палец. Этот результат вызвал такой интерес, потому что, дескать показывал, что даже наши простейшие сознательные действия на самом деле предопределены. То есть, мы думаем, что делаем выбор, в то время как на деле наш мозг (подсознание) этот выбор уже сделал.
Есть ли здесь какая-то связь с опытами Деана или эти 300 мс просто совпадение? Думается, что есть, но в случае профессора надо сделать важную оговорку. Либет ввел в эксперимент фактор «желание» и сразу же изменил всё. Ощущение «желания», несмотря на кажущуюся его простоту (ну, что сложного, действительно: хочется и хочется), на самом деле для нашего мозга является сложным действием протекающем и на невральном и на физиологическом и на химическом уровнях ( гормоны выделяем, куда ж без них). Мы видим женщину и желаем обладать ею, видим еду и желаем её сожрать. А что мы желаем при виде профессора Либета? Видите в чём дело. Не так то просто и сообразить.
Но если подумать, то наверное, мы не хотим расстроить профессора. Человек авторитетный, время на нас тратил, может даже деньги за опыты платил, будет как-то неловко, если вы ни разу пальцем не шевельнете. Поэтому нам надо поднимать палец не слишком часто, но и не совсем редко. И вот наш бессознательный селективный фильтр начинает смотреть на лицо профессора (вдруг уже сердится), а также искать любые другие триггеры, чтобы разрешить сделать означенное действие. Но мы сами об этом не думаем. Пока вдруг не поднимем палец. И вот они родные триста миллисекунд. То есть получается, что эксперимент профессора Либет всего лишь демонстрирует работу доступа в сознательный опыт, просто с другого ракурса.
Но зачем оно тогда нужно
Здесь, вроде как, у специалистов особых разночтений нет. Особенно, если подходить с глобальной эволюционной точки зрения. А с неё как раз отчетливо видно, что сознание это самый передовой способ эпигенетической (не через гены) передачи информации, накопленной индивидом за время своего существования. Но ещё здесь к передаче вертикальной от родителей к детям, приятным бонусом добавляется горизонтальная передача информации, так сказать, в пределах группы. Смысл, естественно, всё тот же — размножайтесь и занимайте все возможные экологические ниши. Казалось бы, что какой-нибудь отщепенец, осознав себя и поняв бессмысленность жизни, наплюёт на этот главный смысл и размножаться не будет. Здесь, вроде бы, от сознания только вред. Ну, так что же. Этот индивид все равно помрёт рано или поздно, а его более приземлённые сородичи продолжат свою генетическую линию. Естественный отбор в действии!
Получать же информацию можно через личный пример и зеркальные нейроны как говорит доктор Рамачандран и строить далее с их помощью новые карты (слышно со стороны Дамасио). Но гораздо удобнее, конечно, получать её законченными смысловыми блоками, то есть через речь. Те же социальные сверхищники, но с отсутствием таковой, например львы, регулярно позорятся на охоте (спасибо каналу National Geo Wild за предоставленные видео), несмотря на все свои стайные навыки. До коэффициента полезного действия хотя бы группы охотников бушменов бедным львам, как до Луны.
Но даже на уровне не таких продвинутых существ как мы, сознание вырастающее на базовой самости, весьма функционально и полезно. Оно инициирует процесс обучения, который в свою очередь тесно связан с памятью. Организм начинает жить не только в потоке здесь и сейчас, но может теперь помнить прошлое (приятное и неприятное) и прогнозировать будущее (чтобы было побольше приятного). Но чтобы запомнить что-нибудь, необходимо этот объект так или иначе, но в ввести сознательный опыт — «покрутить его перед собой». Трудно сказать, что крутит перед собой черепашка, но тем не менее, какой-то аналог сознательного опыта быть у неё должон.
Ну, а у людей это, конечно, всё выходит за всякие рамки. Вдобавок к передаче информации на социальном уровне они продлили процессы во времени, создав культуру (в самом общем смысле этого слова). Книжки наше всё.
А, если мы ещё заговорим про компьютеры… Действительно, ведь эта штука (мы пока не касаемся новых веяний, вроде нейронных сетей и прочего) выполняет цепочку действий, точь в точь, как это делает наше сознание при встрече с новым объектом — пошагово, с запоминанием своих действий и результатов, которым они приводят. И когда нам нужны такие последовательные действия — компьютер нам лучший помощник и мы можем масштабировать эти действия до заоблачных высот, да, собственно, мы на этом и построили нашу современную цивилизацию. Выучив же «навык», то есть написав и отладив код или скачав его где-то уже готовый, мы после отправляем его в «подсознание» — теперь нам достаточно кликнуть мышкой и получить результат. Просто сейчас мы получаем этот результат через медленный природный интерфейс — глазками, но в будущем кто знает, может, законнективши мозг напрямую через нейроUSB 99.0, этот же результат просто «сам» возникнет у нас в памяти. Посмотрели вы пару секунд на квадратное уравнение и говорите: «а корни-то у него комплексные».
То есть, сознание это вещь изначально сугубо утилитарная и предназначенная для благоденствия нашего вида, а то, что мы там приписываем ему лично сами (божественное и духовное), то это, как говорится, наши проблемы.
Так как же оно устроено
Ну, если функционально, на уровне крупных блоков, то с этим более менее уже разобрались.
Не пугайтесь это всего лишь зрительная система мозга мартышки
Сильно мельчить здесь не получается, поскольку, как уже говорилось, энцефалография, хоть магнитная, хоть электрическая, большим пространственным разрешением не отличается, а томография не успевает по времени, поскольку процессы быстрые. Но, если использовать всё вместе и аккуратно, да ещё употребить ТМС для выключения небольших зон мозга, а также электроды для их стимулирования, то общую блок-схему работы мозга ученые ребята уже давно составили.
Но вот, именно, что мозга. И поэтому здесь необходимо сделать важную оговорку, а эквивалентна ли работа мозга хоть в чем-нибудь работе сознания? На этот счет у нейробиологов, увы, нет единого мнения. Потому что, если с одной стороны, мы напрямую видим работу крупных блоков мозга с помощью аппаратуры и уверены, что основываются они на чём-то материальном, то значит вполне в наших силах смоделировать все это на искусственном «железе». А если мы этого повторить не можем, значит, мы либо просто ещё не знаем каких-то важных, но деталей, либо работа мозга работе сознания неэквивалентна. И поскольку нобелевки, пока что за это никому не вручали, то сомнения скептиков всё еще являются обоснованными.
Самым слабаком в этом плане оказался Дэвид Иглмэн. С одной стороны он, как и все остальные, категорично соглашается, что состояние мозга ключевым образом определяет состояние психики.
Тот вы, которого знают и любят ваши друзья, не может существовать, если транзисторы и винтики в вашем мозге не на месте. Если вы не верите в это, отправляйтесь в неврологическое отделение любой больницы. Повреждение даже маленьких частей мозга может привести к потере конкретных способностей. способности называть животных, слушать музыку, управлять рискованным поведением, различать цвета или принимать решения.
В этом-то, он, конечно, не одинок. Все согласны, что травмы, болезни, наркотики, бухло могут целиком поменять суть человека. Поменять до такой степени, что близкие ему люди будут в прямом смысле утверждать, что он это не он. Но с другой стороны, Дэвид настаивает, что хоть сознание и зависит от состояния частей мозга, но при этом оно не эквивалентно его частям. Утверждение в общем давным давно известное в философском переложении: «целое не равно его составляющим».
Соответственно Иглмэн упрекает всех остальных, кто пытается разделить мозг на кусочки и пытается по ним понять целое, в материалистическом редукционизме. Себе же он оставляет лазейку, дескать, что у науки в его лице просто нет пока таких инструментов, чтобы на основании работы мозга, достичь понимания работы сознания. Но в будущем, мол, может появиться. Потому что, как говаривал Артур Кларк: «всякая достаточно развитая технология неотличима от магии» и надо этой магии с течением времени как-то дождаться. А сейчас сложность системы, которой мы являемся настолько колоссальна, что от магической не отличается. Так что пока получается здравствуй душа, а мы «только улавливаем отблески бесконечности внутреннего пространства». Короче говоря — стыд и позор.
Как ни странно, недалеко ушел от этого и доктор Рамачандран. Но хоть магию не привлёк и на том спасибо. Так-то квинтэссенция его рассуждений выглядит вроде логично и материально.
Сознающее «я» — это не что-то типа «ядра» или особой квинтэссенции, которая восседает на специальном троне в центре нервного лабиринта, но также это не свойство всего мозга. Напротив, похоже, что личность возникает из относительно маленькой группы областей мозга, которые связаны в удивительно мощную сеть. Определить эти участки очень важно, поскольку это поможет сузить поиск. В конце концов, мы знаем наверняка, что печень и селезенка не имеют сознания, им обладает только мозг. Мы просто делаем шаг далее и утверждаем, что лишь некоторые части мозга обладают сознанием. Выяснить, какие именно части и что именно делают первый шаг к пониманию сознания.
Да, сколько же можно делать эти первые шаги? Где вторые и третьи?
Увы, по мнению Рамачандрана, положение дел в нейробиологии сейчас, это как положение дел в химии при старике Менделееве. Базовые элементы открыли, по группам их классифицировали, как они взаимодействуют — изучаем. Но вот до теории атома еще далеко (доктор не химик, его можно простить). Так что, мы «ангелы спрятанные в теле животных, вечно стремящиеся к преодолению своих границ». Замечательно.
В противоположность всему этому Антонио Дамасио, категорично утверждает, что он всё открыл и объяснил (шутка). А вся эта сумятица с сознанием яйца выеденного не стоит. Удивлялись же раньше физики, что электрон одновременно и частица и волна. Но, ничего, привыкли. Хотя осознать нашим житейским разумом это невозможно. В жизни у нас таких примеров и аналогий нет. Даже сам Ричард Фейнман не даст соврать:
«Квантовая механика дает совершенно абсурдное с точки здравого смысла описание Природы. Но оно полностью соответствует эксперименту. Поэтому следует принять Природу такой, какой Она есть, — абсурдной».
Прямо так и хочется добавить Тертулиана с его «Credo quia absurdum!».
На самом деле, конечно, не так категорично, но основная суть именно такова — понять можно, а самое главное, понять можно в рамках парадигм современной науки. Не надо привлекать будущую магию. То есть вопрос не в том, будут ли найдены ответы, а в том, когда их найдут. Причем временные рамки ставятся вполне себе резонные — десять, двадцать лет. А тем временем, слова «нейробиологические процессы порождают сознание» станут привычными как электрон и слух резать не будут.
Соответственно этому Дамасио стоит на строгой позиции об эквивалентности состояния мозга и состояния ментального (сиречь) сознания. Другое дело, что сознание как штука весьма развитая у некоторых существ может давать мощную обратную связь на биологические структуры мозга и таким образом смазывать общую картину. И вот, мол, это «смазывание» и пугает ученых типа Дэвида Иглмэна. Поэтому надо просто рассматривать психическую и невральную деятельность как две стороны одного процесса. И не бояться.
А сама по себе деятельность психических процессов хоть и сложна (весьма), но тем не менее доступна для понимания.
Тут много текста (а что вы хотели, деятельность весьма сложна)Мозг человека содержит миллиарды нейронов (точнее около 1011 миллиардов), и эти нейроны образуют между собой триллионы связей (точнее, около 1015 триллионов). Связи соответствуют определенным паттернам, причем каждый нейрон вовсе не выстраивает связей со всеми без исключения остальными. Напротив, нейроны избирательны. При взгляде на них с некоторого расстояния мы увидим нечто вроде схемы электропроводки — или нескольких электропроводок, в зависимости сектора мозга.Один из способов понять, что и как делает мозг, заключается в том чтобы разобраться в этой «проводке». Но разобраться будет непросто, потому что в процессе созревания и далее, проводка претерпевает серьезные изменения. При рождении мы имеем определенные паттерны соединения нейронов, продиктованные нам генетикой. Эти соединения формировались под воздействием ряда факторов окружающей среды еще в утробе. После рождения этот наш первый паттерн попадает под воздействие личного опыта и уникальных факторов окружающей среды и начинает видоизменяться. Мы совершаем те или иные действия, и одни соединения становятся сильнее, а другие ослабевают, одни кабели становятся толще, а другие тоньше. Когда мы что-то узнаем и создаем память, мы попросту чеканим, лепим, формируем, устраиваем и переустраиваем электропроводку нашего мозга. Процесс этот начинается с рождения и заканчивается, когда смерть разлучит нас жизнью или чуть раньше, если в дело вмешивается болезнь Альцгеймера.
Миллиарды нейронов объединены в цепочки. Цепочки могут быть совсем крошечными, а совершаемые ими операции мы не видим невооруженным глазом. Но когда эти микроцепочки объединяются, возникает целая область со своей структурой.
Элементарная структура области может быть двух типов: ядерного и оболочки коры головного мозга. В оболочке коры нейроны располагаются на двумерных поверхностях, образующих слои. Многие эти слои отличаются четким топографическим устройством, идеальным для подробного картирования (вплоть до реальной карты местности или воспринимаемого изображения). В ядре нейронов (не путать с ядром клетки, имеющейся в каждом нейроне) нейроны обычно уложены, как виноградины в миске, однако из этого правила возможны частичные исключения. Так, например, коленчатые ядра и ядра четверохолмия состоят из двумерных изгибающихся слоев.
У некоторых ядер также имеется четкая топографическая структура, а следовательно, можно предположить, что они могут генерировать приблизительные карты. Ядра служат хранилищем «ноу-хау». Их цепочки содержат сведения о том, как следует себя вести и что делать в случае, если ядро активируется под воздействием определенных сигналов. Вследствие этого диспозиционного ноу-хау активность ядер у животных с небольшим мозгом, с маленькой или отсутствующей корой головного мозга с ограниченной способностью к созданию карт неотделима от управления жизнью. Впрочем, и в человеческом мозгу ядра играют важнейшую роль в поддержании жизни, поскольку отвечают за простейшее ею управление — метаболизм, висцеральные реакции, эмоции, сексуальную активность, ощущения и аспекты сознания. Ядра управляют эндокринной и иммунной системами, а также эмоциональными переживаниями. Однако у человека значительная часть деятельности ядер происходит под воздействием психики, а значит, во многом, хотя и не исключительно, под влиянием коры головного мозга.
Важно заметить, что различные области, в которых располагаются ядра и оболочки коры головного мозга, связаны между собой и образуют, в свою очередь, цепи все большего и большего размера. Бесчисленные оболочки коры головного мозга интерактивным образом связываются друг с другом, но при этом каждая оболочка соединяется с субкортикальными ядрами. Иногда оболочка получает сигналы от ядра или подает ему сигналы сама; иногда она одновременно выступает в роли получателя и отправителя.
В целом, если нейронные цепи находятся на поверхностях, расположенных параллельно друг другу, как слои в торте, тогда эти цепи образуют кортикальную область; если же они сгруппированы без соблюдения слоев (с учетом перечисленных исключений) -образуется ядро. Кортикальные области и ядра связаны между собой «выступами» аксонов и образуют системы, которые все усложняются и превращаются в системы систем. Когда пучки аксонов достаточно велики и становятся видимы невооруженным взглядом, их называют «проводящими путями».
Важным фактором, определяющим функции той или иной области мозга, является её внутреннее строение. Кроме того, важно, какое место в трехмерном пространстве мозга занимает данная область. Расположение области в мозгу и внутреннее ее строение определяются в первую очередь эволюцией, однако влияет на них и личное развитие. Индивидуальный опыт воздействует на цепочки нейронов, и, хотя сильнее всего это воздействие оказывается выражено на микроуровне, его последствия неизменно ощущаются и на макроанатомическом уровне.
История развития ядер началась давно, еще в те дни, когда весь мозг практически сводился к цепочке ганглиев, напоминавших бусины в четках. В общем объеме мозга ядра располагаются достаточно низко, всегда ниже покрывающей мозг коры. Они прячутся в стволовой части мозга, в гипоталамусе и таламусе, в базальных ганглиях и в базальных отделах переднего мозга (ответвление которого содержит группу ядер, известную как миндалевидное тело). Ядра отрезаны от первичных корковых структур, однако подчиняются порядку, установленному эволюцией. Чем старше с эволюционной точки зрения ядро, тем ближе оно расположено к срединной линии мозга. А поскольку всё что есть в мозгу, делится срединной линией на две половины, левую и правую, получается, что самые старые ядра располагаются точно напротив собственных близнецов по другую сторону этой линии Именно так обстоит дело с ядрами стволовой части мозга, которые совершенно необходимы для управления жизненными процесса и для сознания. Если же брать более новые ядра — например миндалевидное тело, — то их левые правые экземпляры меньше зависят друг от друга и четко разделены.
Кора обоих полушарий головного мозга появилась позже, чем ядра. Отличительной особенностью коры является двумерная, напоминающая ножны структура, которой связаны некоторые способности коры в области построения карт. Однако количество слоев коры может быть разным от трех (у более старых участков коры) до шести (у более новых). Различаются они по сложности нейронных цепочек, пролегающих внутри этих слоев и пронизывающих их.
Красноречивым признаком функциональности служит местоположение участка в мозгу. В целом самые новые участки коры группируются близ и вокруг точек, где в кору головного мозга входят сенсорные проводящие пути например, слуховые, зрительные, соматосенсорные. За счет этого новые участки оказываются связаны с обработкой сенсорной информации и с построением карт. Иными словами, они входят в клуб «первичной сенсорной коры».
Моторные зоны коры тоже могут иметь разный возраст. Некоторые зоны довольно стары и невелики и опять-таки расположены близ срединной линии в передней поясной и суплементарной моторных областях, которые хорошо просматриваются на внутренней поверхности полушарий головного мозга.
Другие моторные зоны имеют сложную структуру и занимают значительное пространство на внешней поверхности мозга.
Вклад конкретной области в общую работу мозга в значительной степени зависит от партнеров этой области: кто посылает ей сигналы, а кому посылает сигналы она, в частности — какая область проецирует свои нейроны во в область Х (тем самым изменяя состояние области X), а какая область сама получает проекции от области X (и таким образом изменяется под ее воздействием). Многое зависит ещё и от того, в какую часть структуры включена область Х. И наконец, на функциональную роль влияет способность или неспособность области Х создавать карты.
Разум и поведение это непрестанно проступающий результат работы целых галактик ядер и кортикальных структур, которые заявляют о себе конвергентными и дивергентными нейронными проекциями. Если эти галактики хорошо упорядочены и работают гармонично, их владелец пишет стихи. А если плохо — сходит с ума.
Ну, а так, как же все-таки с насущными вопросами создания искусственного сознания, раз мы уже всё знаем. Не торопитесь, отвечает Антуан, вот картируем всё полностью, да запустим симуляцию на компьютере, так оно само там и возникнет. Как электрон.
Так что придётся подождать ещё лет двадцать. Главное, за это время самому не помереть. А то не из чего будет создавать искусственные копии.
Что же говорит нам, наша последняя надежда Станислас Деан? А вот он, как ни странно, более оптимистичен. Он продвигает в массы гипотезу «глобального рабочего пространства».
В соответствии с этой гипотезой, сознание — не более чем распространение информации в мозгу. Когда мы говорим, что осознаём те или иные данные, то на практике имеем в виду ровно следующее: информация достигла особого хранилища из которого стала доступной всему мозгу.
В отличие от доктора Рамачандрана, который предлагает сужать поиск, Деас наоборот напирает на то, что надо его расширить. Так-то логично, если мы, к примеру, будем сужать (последовательно выключать) высшие области мозга, то мы не увидим скачкообразного изменения, типа было сознание и вдруг пропало. Правда, такие опыты на людях не проводятся (вроде как), но старина Альцгеймер не даст соврать. При его деятельном участии сознание и когнитивные способности исчезают постепенно.
И даже на седьмой стадии, остаются хоть жалкие, но остатки (состояние новорожденного младенца согласно Дику Сваабу).
Итак глобальное рабочее пространство
Что же в него входит? А практически все области коры головного мозга (неплохо так расширились, да). И в этом, кстати, нет ничего удивительного, у нас там ничего лишнего нет. Всё отточено до минимально необходимого за миллионы лет эволюции.
В коре существует масса участков, каждый из которых выполняет конкретные процессы. Существуют, например, целые области, состоящие исключительно из нейронов распознающих лица и реагирующих лишь когда на сетчатку поступит изображение лица. В теменной и моторной коре есть участки, отвечающие за конкретные моторные функции или за те части тела, которые их выполняют. Есть сектора, занимающиеся еще более отвлеченными понятиями и кодирующие наши знания, связанные с числами, животными, предметами и глаголами. Если теория рабочего пространства верна, сознание могло возникнуть именно затем, чтобы соединить эти модули между собой.
Если по-простому, то это всё работает следующим образом. Вот например, участки коры ответственные за зрительное восприятие, непрерывно «голосуют» на основании полученных данных (картинки с сетчатки), видят ли они линии, переходы фона от светлого к тёмному и так далее. Области иерархические выше расположенные, сравнивают эти данные с тем что уже «вшито» в память. Если при сравнении большой ошибки нет и изображение, допустим, определяется как лицо, то начинается уже голосование тех участков, которые ответственны за распознавание конкретных лиц. Если же фиксируется разночтение (не лицо, а овал с двумя дырками), начинают возбуждаться другие участки связанные, к примеру, с геометрическими фигурами. Это делается до тех пор, пока ошибка не станет минимальной и мы вдруг не поймем, что видим страницу из трактата Кеплера с рисунком эллипса в фокусах которого нарисованы Солнце и Земля. Или наоборот, физиогномию самого астронома.
А что значит «вдруг поймём»? Вот в этом и всё дело. Это означает, что сейчас возбуждены только нейронные цепочки связанные с эллипсом, а другие цепочки (связанные с лицами) замолчали. Процесс этот не дискретный, а плавный, идет как раз около трехсот миллисекунд, за которые нейронные цепочки связанные с эллипсом начинают голосить на частоте 40 герц (гамма-ритм) как оглашенные, формируя ту самую мозговую волну из экспериментов Деана, а остальные цепи тем временем замолкают.
Но это мы описали самый усеченный и простой вариант. На самом деле, подобная система работает глобально. Мы же не только распознаем изображения. Мы действуем в пространстве и времени. Поэтому непрерывно «голосуют» тысячи, если не десятки тысяч нейронных цепей. И какая-то из них обязательно захватит и породит волну, распространяющуюся по всему рабочему нейронному пространству. И перед нашим мысленным взором вдруг всплывёт и начнёт крутится ментальный объект.
А, если мы расслабились в спокойной знакомой обстановке и ни чём не думаем? Селективные фильтры молчат, ничего в наш сознательный опыт не поставляют. Что тогда? Даже встать с дивана не сможем? Несмотря на всю наивность вопрос всё равно интересный.
Ну, во-первых, рано или поздно нижележащие органы, типа желудка и мочевого пузыря напомнят о своём существовании и войдут в наш сознательный опыт в виде образов гамбургера или унитаза. Но даже без этого в нашем мозге существует так называемая эндогенная активность — таламус постоянно тормошит префронтальную и поясную (опять она) области коры. В результате регулярно возникает спонтанная активность на высоком уровне, которая затем распространяется вниз на уровни сенсорные. Получается этакий доступ в сознательный опыт наоборот. Простыми словами, если у вас спонтанно возник образ солнечного диска, то это буквально означает, что высокоуровневый паттерн солнца отправился в нижележащую зрительную кору и возбудил её совершенно таким же образом, как бы то сделало реальное отображение солнца на сетчатке (не повторяйте этот опыт). Тоже самое происходит с речью — мы слышим внутренний голос, паттерн которого может спонтанно возникнуть в высших кортикальных областях, а затем возбудить слуховую кору, которая воспроизведет его также, как если бы кто-то сказал бы это рядом с нами. Естественно, у нормальных людей существуют механизмы торможения (Рамачандран называет их ингибиторными), которые позволяют нам отличить внутренний голос от внешнего. Но некоторым с этим везет особенно (привет шизофреникам) и они могут наслаждаться чужими голосами в своей голове постоянно.
Мало того, если эндогенной активности по какой-то причине (травма) не происходит, человек погружается в состояние комы. Ушлые врачи сопоставили факты и сумели привести в сознательное состояние несколько лежавших в коме пациентов, стимулируя кортикальную петлю таламус — кора. Понятно, что всех больных так не вылечить, поскольку причин комы может быть множество, но тем не менее даже этот частный успех удивляет.
Соответствуя вышесказанному, можно также выдвинуть предположение, что товарищи именуемые индийскими йогами, могли целенаправленно прекращать эндогенную активность своих мозгов, путём своих загадочных тренировок.
С конечной целью достижения нирваны. А настоящая нирвана (самая крутая — нирвикальпа самадхи) на физическом уровне, увы, означает смерть, как бы не возмущались современные гламурные йоги. Настоящий же профессионал много лет готовится к достижению этого состояния. И всё — оно однократное. Окружающие просто видят, что товарищ лежит с блаженной улыбкой и тихонечко дышит. Какое-то время. Зато мы теперь знаем почему.
Лодка, попавшая в «черные воды», уже не может вернуться. Никто не знает, что происходит с ней после этого. Поэтому лодка ничего не может сообщить нам об океане. Как-то раз соляная кукла решила измерить глубину океана. Но едва она вошла в воду, как тут же растаяла. Кто теперь расскажет нам о его глубине? Тот, кто мог бы рассказать, растаял. По достижении седьмого уровня разум уничтожается, человек входит в самадхи. То, что он тогда ощущает, нельзя описать словами. Некоторые обычные люди через духовную дисциплину достигают самадхи, но они не возвращаются.
Правда утверждается, что некоторые (бодхисаттвы) могут из нирваны возвращаться и нести, так сказать свет учения окружающим, но мы-то в курсе, что отдельные товарищи и по воде ходили, судя по рассказам, а к другим и гора в гости заглядывала.
Но оставим отсталое прошлое и вернёмся к личностям современным и к их теории нейронного рабочего пространства.
Итак, сознание — это обмен информацией, охватывающий весь мозг. В человеческом мозгу, а особенно в префронтальной коре, развились эффективные сети, передающие информацию на большие расстояния. Задача этих сетей заключается в том, чтобы отбирать важные данные и распространять их по всем структурам мозга. Сознание же — это развитый инструмент, позволяющий нам фокусировать внимание на некоем фрагменте информации и поддерживать его в активном состоянии в рамках этой передающей системы. Как только информация будет осознана, ее можно легко перенаправить в другие области в соответствии с нашими текущими целями. Мы можем дать ей имя, оценить ее, запомнить или использовать для того, чтобы планировать будущее. На компьютерных моделях нейронных сетей видно, что глобальные нейронные рабочие пространства генерируют те самые автографы, которые мы наблюдаем в экспериментальных записях работы мозга.
Минуточку, что это ещё за компьютерные модели нейронных сетей? Это не, что там связано с современным машинным обучением и про что выходят десятки статей каждый день?
В общем, нет. Деан на пару с каким-то французским кренделем построили просто компьютерную имитацию своей модели. Её даже нельзя назвать нейронной сетью как таковой, как бы не называл её сам Деан (у него нейроны там в виде уравнений). Она ничего не распознает, просто реагирует на усиленный входной сигнал (электрический ток) в соответствии с его гипотезой. Честно говоря, уровень компьютерной грамотности Деана, оставляет желать намного лучшего.
Судите сами:
Компьютерная программа устроена жестко, модульно: каждая операция сводится к тому, что машина получает те или иные данные и преобразовывает соответствии со строгими правилами, после чего выдает строго определенную информацию. Речевой процессор может в течение какого-то времени удерживать фрагмент информации (например, абзац текста), на компьютер как единое целое не способен решить, важен ли этот фрагмент информации с глобальной точки зрения, равно как не способен донести его до других программ. Вот и получается, что компьютер мыслит узко. В работе он близок к совершенству, Однако информация в пределах одного модуля, пусть сколь угодно умного, не может быть передана другим. Для обмена информацией компьютерных программ есть разве что такой рудиментарный механизм, как область обмена данными, да и то происходит этот обмен под контролем разумного deus ex machina — человека.
Детский сад какой-то с гуманитарного факультета.
Но с другой стороны, если взять только саму гипотезу Деана (без реализации) и передать её в руки грамотных нынешних программистов, думается, можно будет достигнуть результатов и поинтереснее.
Но всё-таки даже Станислас Деан, несмотря на весь свой оптимизм иногда грустит и спрашивает «ПОЧЕМУ???»
Почему в результате запоздалых нейронных импульсов, массированного возбуждения коры и синхронной работы мозга возникает субъективное состояние разума? Каким образом происходящие в мозгу процессы, сколь угодно сложные, создают ментальный опыт? Почему нейронные импульсы в зрительной области V4 порождают восприятие цвета, а те же импульсы в области V5 — чувство движения? Нейробиологи нашли множество эмпирических связей между активностью мозга и психической жизнью, однако концептуальная пропасть между мозгом и разумом не стала меньше ни на вершок
Хотя вроде бы сам же Станислас всё доступно изложил в своей теории нейронного рабочего пространства, а всё равно его гложет вопрос: «Ну как же оно так получается? ». И только не говорите ему про концепцию квалиа — чисто психического опыта, которую он считает ненаучным причудливым домыслом.
Но, в итоге, Деан всё равно не сдается и предлагает заполнить концептуальную пропасть между мозгом и разумом новой теорией. Правда какой, он не знает. Но считает, что она должна быть математической. То есть, получается всё равно с помощью современной науки, а не с помощью магии как у Иглмэна, что хоть немного но утешает.
Так что же мы имеем в итоге?
Если не считать, что мы в девятнадцатом веке и ловим отблески чего-то величественного, то в общем всё не так уж плохо, а напротив очень даже перспективно и интересно.
Во-первых, давно надо выкинуть на помойку принцип холизма или концепцию «целое больше составляющих его частей», хотя бы для чтобы не ломать психику слабых людей, типа Дэвида Иглмена. Самолёт «больше» составляющих его частей, но только потому, что существует внешний процесс (в лице создателей самолёта), которые эти части собрали вместе и не абы как. Ядерный реактор «больше своих частей» потому что умные люди (внешний процесс) обосновали его работу теоретически, а затем выполнили на практике. Можно возразить, что ядерный реактор может собраться и сам по себе, без влияния внешней силы, но собирается он-то все равно по физическим законам матери Природы, иначе он и не заработает. Другое дело, откуда берутся эти законы, но здесь мы рискуем уехать слишком далеко. Хотя можно предположить, что это связано с геометрическими свойствами составляющих Вселенную элементов, как сейчас полагают многие физики. К примеру, если у вас мини-вселенная состоит из мельчайших равносторонних треугольников (кто сказал струн?), то это будет накладываться и на свойства макрообъектов. Например, постоянно будут всплывать константы «3» и «60». А если из этих треугольников (у которых все углы острые) составить допустим, правильный шестиугольник, то он будет «больше» составляющих его частей — все углы у него будут тупыми. Пример, как говорится, тоже тупой, но наглядный.
Во-вторых, вполне вероятно, что «концептуальная пропасть между мозгом и разумом» исчезнет сама по себе как пропасть между состояниями частицы и волны в том же многострадальном электроне. Нет, конечно, все мы человеки и поэтому понятно, что мы никак не можем избавиться от подозрения, что компьютер может только «имитировать» человеческое мышление. И фраза «если что-то ходит и крякает как утка, то это утка» нас не успокаивает, потому что мы-то ощущаем в себе некий внутренний субъективный процесс, когда думаем, и почти точно уверены, что для компьютера это невозможно. Там всего лишь алгоритм, программа, имитация — короче, всё равно не «настоящее». Это всё равно, что сравнивать наш мозг и энциклопедию. И там и там информация, но вы ж видите разницу! Ну, в общем, видим, вяло говорят нейробиологи, и их слова становятся менее уверенными.
Но думается, что это всё же сила привычки. Ведь даже, если взять теорию рабочего пространства Деана, то вполне можно сказать, что нейронная цепочка, сформировавшая волну осознания, просто вызывает таким образом у мозга, внутри которого она находится, субъективное ощущение мысли. И всё.
В-третьих, чтобы, так сказать, придать субъективным ощущениям объективность (мы же хотим все-таки добраться до искусственного сознания), действительно может потребоваться новая теория. И вполне вероятно даже математическая, как подозревает Деан (математика наше всё). Причем при здравом рассуждении, она не должна основываться непосредственно на работе нейронов. Это должен быть следующий уровень абстракции. Оглядываться на сами нейроны, это тоже самое, как если бы будущий ИИ, который заменит человечество, будет искать свою душу в регистрах своих процессоров. Аппаратное обеспечение, конечно, оказывает влияние на работу программы, но по сути оно лишь накладывает некоторые ограничения (скорость операций, объем данных, доступные внешние устройства и т.д.), а в остальном алгоритм может резвиться как хочет (машина Тьюринга вам в пример). Тоже самое и с нейронами. Биологическая модель накладывает ограничения своего уровня, но функциональная работа блоков, которые построены на ней, должна лишь учитывать эти границы, но зато может на своём следующем уровне абстракции вытворять что ей хочется (но на самом деле, что хочется эволюции). Поэтому вполне вероятно, что теория работы сознания будет основываться на каком-то новом разделе теории информации. Ну, а что — ведь сознание это обмен информацией в мозге. Так что есть надежда обойтись без магии.
Итак, создать искусственное сознание можно? Ну, вроде, да. Раз уж Природа смогла, мы чем хуже? Сначала простенькое на уровне протосамости Дамасио, потом посложнее. А потом в один прекрасный день машина напечатает «эй ты очкастый, скажи мне, кто я?» и вы сильно удивитесь поскольку в её памяти, такой строчки нигде записано не было.
Хорошо, а как же с нашим биологическим сознанием? Умирать не хочется, но ресурс белковой системы не вечен. Рано или поздно Альцгеймер доберется до каждого, как бы мы не пришивали себе новые тела. Нейроны в массе своей не размножаются, зато дохнут периодически и поэтому будущее печально для любого биологического существа. Надо как-нибудь перенестись или скопироваться на более живучий носитель. И тут перед нами возникает засада. Если сознание это обмен информацией, то как перенести или скопировать обмен информацией?
Нет, так-то понятно — копируем функциональные блоки (определенные той самой новой теорией), пинаем на готовой копии аналог таламуса для начала эндогенной активности, всё работает, обмен информации на новом носителе пошёл. Вы просыпаетесь от наркоза, с трудом поднимаете трясущуюся голову с подушки, смотрите, на свой кремниевый функционирующий аналог и возмущенно спрашиваете: «С этим железным чурбаном всё ясно, а как же Я???».
Стоящий рядом с кроватью инженер-наладчик, говорит: «всё в порядке, когда вы умрёте, этот малыш вас полностью заменит и успешно продолжит вашу научную деятельность».
Вы хрипите, что вы бизнесмен, а не какой-то там вшивый учёный и желаете продолжать жить лично, а не в воспоминаниях других людей. Тогда вам предлагают немного другой вариант. Вас везут на криогенную фабрику и аккуратно замораживают в жидком азоте. Затем отпиливают голову и послойно микрометр за микрометр стачивают её до самой шеи, фиксируя при этом весь ваш коннектом, всё богатство ваших нервных связей. Потом так же переносят на кремниевый носитель и вот у нас уже с друг другом спорят две искусственные головы о том, какая из них настоящая. Но куда же на самом деле делись Вы?
Самое смешное, чтобы суметь ответить на этот вопрос, на самом деле не нужно отправляться в будущее.
Из принципа можно, конечно, придумать отговорку, что ваша уникальность была закодирована в самих электрических состояниях нейронов и поэтому просто копировать коннектом в будущем смысла нет. Всё равно при стачивании головы её потеряют.
Но с другой стороны, если аккуратно охладить человека целиком до температуры не сильно выше нуля (без жидкого азота, а только чтобы кристаллы льда не образовались), то активность нейронов его головного мозга прекратится полностью. Опять же, специально этим никто не занимается, но всякие альпинисты, горнолыжники и просто удачливые люди постоянно соревнуются на этом поприще сами по себе и нет-нет, но врачам изредка удается вернуть к жизни такого пациента, поступившего к ним практически в форме сосульки. А лягушки с тритончиками этим, вообще, каждую зиму и весну занимаются.
Поэтому, все-таки наша личная уникальность записана именно на материальном субстрате мозга. И её можно скопировать, просто исходя из принципа материальности. А вот само сознание (в терминах сознательного опыта), действительно закодировано электрическими импульсами нейронов (это же мозговая волна), и существует оно лишь то время, пока эти нейроны перекликаются. Перестали нейрончики рабочего пространства общаться — вы тут же сознание и потеряли. Поэтому копировать обмен нейронов электрическими импульсами — занятие и слова просто лишенные смысла. Скопируйте структуру, функциональные блоки — это занятие практическое и полезное.
Так что, каждый раз когда мы падаем в обморок, попадаем под общий наркоз, засыпаем беспробудным сном без сновидений — наше сознание (в терминах сознательного опыта) просто исчезает. Когда же мы возвращаемся, оно возникает заново. Но на основе тех функциональных блоков, которые есть в наличии. А наша операционка пытается загрузить все что есть под рукой, даже те жалкие огрызки, которые остались, если у пациента седьмая стадия Альцгеймера. И если загрузка удалась, то на выходе мы видим персонажа разной степени адекватности.
Поэтому возвращаясь к вопросу о копировании, да, каждый раз мы будем получать на выходе новую индивидуальность, которая будет считать себя оригиналом, а вас каким-то разбойником, который что-то с ней сделал.
А что же все-таки с исходным оригиналом?
А он тоже каждый раз новый, но этому не удивляется только потому, что вечером, когда ложился спать он запомнил это событие и поэтому сегодня связал себя с собой прошлым. А если бы не связал?
У доктора Рамачандрана есть и такие интересные пациенты. У них проблема с передачей информации из кратковременной памяти в долговременную и они забывают все события глубиной дольше хотя бы пяти минут. И каждый раз утром они просыпаются с чистого листа. К счастью, сама долговременная память у них сохранилась и поэтому они в состоянии хотя бы сообщить об этом словами доктору Рамачандрану. Зато, если у вас и долговременная память ещё отвалится, то вы тогда просто станете базовой самостью, как у Дамасио. Только сообщить об этом не сможете.
«Все равно», — скажет въедливый читатель, — «вот он я. Если мой мозг заменят ночью чужим и всунут мне в черепную коробку вместо оригинального, и наоборот мои мозги отправят, тому товарищу, то очнусь-то я в его теле получается? Вот тебе и перенос без копирования».
В теле-то да, в чужом. Но в мозгу-то в вашем. Это обмен только телами (хотя тела, конечно, вправе считать, что это они наоборот поменялись мозгами). Но тем не менее, от обычной пристыковки нового тела к старому мозгу не отличается ничем.
«Хорошо», — не сдается пытливый читатель — «пусть мне тогда во сне меняют за раз по миллиарду нейронов, на новые, не бьющиеся. И через три месяца у меня новый мозг, а я всё тот же!»
Ладно, только зачем ждать три месяца? Давайте мы вам за одну ночь, все старые выкинем одномоментно и новые, точную копию, впихнем. Ведь, обратите внимание, по сути же, нет никакой разницы, менять по одному нейрону, по миллиарду или всё сразу. За год, за месяц или за час. Результат-то один и тот же. Хотя постойте, разве вы были не внутри старых выкинутых мозгов? Но вы же не можете быть одновременно и там и там. Как же так?
А вот так. Единственное объяснение этому парадоксу, это то что сознание это динамический процесс и он каждый раз возникает заново (если, конечно, может). Каждый раз он новый и в старых мозгах и в их свежей замене.
И если вас скопировали из старого дряхлого тельца в молодого пышущего здоровьем клона, а вы все равно очнулись в старом дряхлом тельце, то вашему динамическому процессу просто не повезло. А если вы очнулись здоровяком, то наоборот, ваш процесс счастливчик.
Вот такая новая философия. Надо привыкать.
(PDF) Сознание как логически непротиворечивая прогностическая модель реальности
Витяев Е.Е., Неупокоев Н.В. Математическая модель восприятия и образа. Информационные технологии в гу-
манитарных исследованиях, Вып.17, ИАЭТ СО РАН, Новосибирск, 2012, 63-72.
Витяев Е.Е., Неупокоев Н.В. Формальная модель восприятия и образа как неподвижной точки предвосхищений
// Подходы к моделированию мышления. УРСС Эдиториал, Москва, 2014, стр. 155-172.
Витяев Е.Е., Демин А.В., Пономарёв Д.К. Вероятностное обобщение формальных понятий // Программирова-
ние, Т.38, №5, 2012, С. 219-230.
Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988. С. 462.
Демин А.В., Витяев Е.Е. Логическая модель адаптивной системы управления. Нейроинформатика, 2008, том 3,
№ 1, стр. 79-107
Забродин В.Ю. О критериях естественной классификации // НТИ, сер.2, 1981, №8.
Закон. Необходимость. Вероятность. М., «Прогресс», 1967, с.366
Рудольф Карнап. Философские основания физики. М., «Прогресс», 1971, с.388
Леонтьев А.Н. Образ мира // Избранные психологические произведения. – М.: Педагогика, 1983. – С. 251-261.
Мейен С.В., Шрейдер С.А. Методологические аспекты теории классификаций // Вопросы философии, 1976,
№12
Мухортов В.В., Хлебников С.В., Витяев Е.Е. Улучшенный алгоритм семантического вероятностного вывода в
задаче 2-мерного анимата // Нейроинформатика, 2012, том 6, № 1, стр. 50-62
Найсер У. Познание и реальность. “Прогресс”, M. 1981, с. 229.
В.Г.Редько Эволюция, нейронные сети, интеллект. Модели и концепции эволюционной кибернетики. М.,
«ЛИБРОКОМ», 2011, с.220
Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М.: Наука, 1981. с. 140.
Симонов П.В. Высшая нервная деятельность человека (мотивационно-эмоциональные аспекты). М.: Наука,
1975. с. 173.
Смирнов Е.С. Конструкция вида таксономической точки зрения // Зоол. Журн. Т. 17, №3, 1938, С. 387-418.
Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности психического отражения. МГУ, М., 1985, с.232.
Столин В.В. Исследование порождения зрительного пространственного образа. — В кн.: Восприятие и дея-
тельность. М., 1976.
Судаков К.В. Общая Теория Функциональных Систем М.: Медицина, 1984. с. 222.
Ahn, W. (1998). Why are different features central for natural kinds and artifacts? The role of causal status in deter-
mining feature centrality. Cognition, 69, 135–178.
Hebb D.O. The organization of behavior. A neurophysiological theory. NY, 1949. 335 p.
Hempel, C. G. ‘Maximal Specificity and Lawlikeness in Probabilistic Explanation’, Philosophy of Science 35, 1968. –
P. 16–33.
Masafumi Oizumi, Larissa Albantakis, Giulio Tononi. From the Phenomenology to the Mechanisms of Consciousness:
Integrated Information Theory 3.0 // PLOS Computational Biology, May 2014, V.10. Issue 5.
Mill, J.S. System of Logic, Ratiocinative and Inductive. L., 1843.
Bob Rehder. Categorization as causal reasoning // Cognitive Science 27 (2003) 709–748.
Bob Rehder, Jay B. Martin. Towards A Generative Model of Causal Cycles // 33rd Annual Meeting of the Cognitive
Science Society 2011, (CogSci 2011), Boston, Massachusetts, USA, 20-23 July 2011, V.1 pp. 2944-2949.
Rosch, E., Mervis, C.B. Family resemblances. Studies in the internal structure of categories // Cognitive Psychology, 7,
1975, P. 573–605.
Rosch, E., Principles of Categorization // Rosch, E. & Lloyd, B.B. (eds), Cognition and Categorization, Lawrence Erl-
baum Associates, Publishers, (Hillsdale), 1978. P. 27–48
B. H. Ross, E. G. Taylor, E. L. Middleton, and T. J. Nokes. Concept and Category Learning in Humans // H. L.
Roediger, III (Ed.), Cognitive Psychology of Memory. Vol. [2] of Learning and Memory: A Comprehensive Reference,
4 vols. (J.Byrne Editor), Oxford: Elsevier, 2008, P. 535-556.
The Nature of Classification. Relationships and Kinds in the Natural Sciences. Palgrave Macmillan. 2013. 208p.
37. СОЗНАНИЕ, САМОСОЗНАНИЕ И РЕФЛЕКСИЯ. Шпаргалка по философии: ответы на экзаменационные билеты
37. СОЗНАНИЕ, САМОСОЗНАНИЕ И РЕФЛЕКСИЯ
Сознание — это высшая, свойственная только людям и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека, в целенаправленном и обобщенном отражении действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов. Сознание мгновенно связывает между собой то, что человек услышал, увидел, и то, что он почувствовал, подумал, пережил.
Ядро сознания:
— ощущения;
— восприятия;
— представления;
— понятия;
— мышление.
Компоненты структуры сознания — чувства и эмоции.
Сознание выступает как результат познания, а способом его существования является знание. Знание — это проверенный практикой результат познания действительности, ее правильное отражение в мышлении человека.
Сознательность — нравственно-психологическая характеристика действий личности, которая основывается на оценке и сознании себя, своих возможностей, намерений и целей.
Самосознание — это осознание человеком своих действий, мыслей, чувств, интересов, мотивов поведения, своего положения в обществе.
Согласно Канту, самосознание согласуется с осознанием внешнего мира: «сознание моего собственного наличного бытия есть одновременно непосредственное осознание бытия других вещей, находящихся вне меня».
Человек осознает себя:
— через созданную им материальную и духовную культуру;
— ощущения своего собственного тела, движений, действий;
— общение и взаимодействие с другими людьми. Формирование самосознания заключается:
— в непосредственном общении людей друг с другом;
— в их оценочных отношениях;
— в формулировании требований общества, предъявляемых к отдельному человеку;
— в осознании самих правил взаимоотношений. Человек осознает себя не только посредством других людей, но и через созданную им духовную и материальную культуру.
Познавая себя, человек никогда не остается таким же, каким он был прежде. Самосознание появилось в ответ на зов общественных условий жизни, которые с самого начала требовали от каждого человека умения оценивать свои слова, поступки и мысли с позиции определенных социальных норм. Жизнь своими строгими уроками научила человека осуществлять саморегулирование и самоконтроль. Регулируя свои действия и предусматривая их результаты, самосознающий человек берет на себя полную ответственность за них.
Самосознание тесно связано с феноменом рефлексии, как бы расширяя его смысловое поле.
Рефлексия — размышление человека о самом себе, когда он вглядывается в сокровенные глубины своей внутренней духовной жизни.
Во время рефлексии человек осознает:
— что происходит в его душе;
— что происходит в его внутреннем духовном мире. Рефлексия принадлежит природе человека, его социальной наполненности через механизмы коммуникации: рефлексия не может зародиться в недрах обособленной личности, вне коммуникации, вне приобщения к сокровищам цивилизации и культуры человечества.
Уровни рефлексии могут быть весьма разнообразными — от обычного самосознания до глубоких раздумий над смыслом своей жизни, ее нравственным содержанием. Осмысливая собственные духовные процессы, человек нередко критически оценивает негативные стороны своего духовного мира.
Квантовые подходы к сознанию (Стэнфордская философская энциклопедия)
1. Введение
Проблема того, как разум и материя связаны друг с другом, имеет множество граней, и к нему можно подходить с разных отправных точек. Исторически ведущими дисциплинами в этом отношении являются философия. и психология, к которым позже присоединилась наука о поведении, когнитивная наука и неврология. Кроме того, физика сложные системы и квантовая физика сыграли стимулирующую роль в обсуждение с самого начала.
Что касается вопроса сложности, то это очевидно: мозг един из самых сложных систем, которые мы знаем. изучение нейронных сетей, их связь с работой отдельных нейронов и другими важными Темы делают и получат много пользы от комплексных системных подходов. В виде Что касается квантовой физики, не может быть никаких разумных сомнений в том, что квантовая события происходят и действуют в мозгу, как и в других частях материальный мир, в том числе биологический системы. [1] Но спорно, являются ли эти мероприятия эффективными и относится к тем аспектам мозговой деятельности, которые коррелируют с умственная деятельность.
Первоначальная мотивация в начале 20-го века для связи квантовых теория сознания была по существу философской. Это довольно правдоподобно, что сознательные свободные решения («свобода воли») проблематично в совершенно детерминированном мир, [2] так что квантовая случайность действительно может открыть новые возможности для свободная воля. (С другой стороны, случайность проблематична для целенаправленная воля!)
Квантовая теория ввела элемент случайности, выдающийся против предшествующего ему прежнего детерминистического мировоззрения, в котором случайность выражает наше незнание более подробного описания (как в статистической механике).В резком контрасте с таким эпистемологическим случайность, квантовая случайность в таких процессах, как спонтанная испускание света, радиоактивный распад или другие примеры. считается фундаментальной особенностью природы, независимой от нашего невежество или знание. Если быть точным, эта функция относится к отдельных квантовых событий, тогда как поведение ансамблей таких событий это статистически определенный. Индетерминизм отдельных квантовых событий ограничивается статистическими законами.
Другие черты квантовой теории, ставшие привлекательными в обсуждая вопросы сознания, были концепции комплементарность и запутанность. Пионеры квантовой физики, такие как Планк, Бор, Шредингер, Паули (и другие) подчеркивали различные возможные роли квантовой теории в пересмотре старого конфликт между физическим детерминизмом и сознательной свободой воли. За информативные обзоры с различными фокусными точками, см., например, Squires (1990), Кейн (1996), Баттерфилд (1998), Суарес и Адамс (2013).
2. Философские предпосылки
Варианты дихотомии между разумом и материей варьируются от их фундаментальное различие на примордиальном уровне описания к появление разума (сознания) из мозга как крайне сложная и высокоразвитая материальная система. Познавательный обзоры можно найти у Popper and Eccles (1977), Chalmers (1996), и Пауэн (2001).
Один из важных аспектов всех дискуссий об отношениях между разум и материя — это различие между описательным и объяснительных подходов.Например, корреляция описательный термин с эмпирической релевантностью, в то время как причинно-следственная связь пояснительный термин, связанный с теоретическими попытками понимать корреляции. Причинность подразумевает корреляцию между причиной и эффект, но это не всегда применимо наоборот: корреляции между двумя системами могут быть результатом общей причины в их истории, а не от прямого причинного взаимодействия.
В фундаментальных науках обычно говорят о причинно-следственных связях с точки зрения взаимодействий.В физике, например, есть четыре основные виды взаимодействий (электромагнитные, слабые, сильные, гравитационные), которые служат для объяснения корреляций, наблюдается в физических системах. Что касается проблемы разум-материя, то ситуация сложнее. Вдали от теоретического осмысления этой области, существующая совокупность знаний в основном состоит из эмпирические корреляции между материальными и психическими состояниями. Эти корреляции носят описательный, а не объяснительный характер; они не причинно обусловленный.Это (для некоторых целей) интересно знать , что определенных областей мозга активируются во время определенных умственная деятельность; но это, конечно, не объясняет почему они есть. Таким образом, было бы преждевременно говорить о разуме-материи. взаимодействия в смысле причинно-следственных связей. Ради терминологическая ясность, нейтральное представление об отношениях между разумом и материя будет использоваться в этой статье.
Во многих дискуссиях о материальных [ма] состояниях мозга и ментальных [меня] состояния сознания, отношения между ними мыслится в прямой способ (А):
\[ [\mathbf{ma}] \substack{\leftarrow \\ \rightarrow} [\mathbf{me}] \]Это иллюстрирует минимальную основу для изучения редукции, отношения супервентности или эмерджентности (Kim 1998; Stephan 1999), которые могут давать как монистические, так и дуалистические картины.Например, есть влиятельная позиция сильного сокращения , утверждающая, что все ментальные состояния и свойства могут быть сведены к материальной сфере или даже к физике (физикализм). [3] Эта точка зрения утверждает, что необходимо и достаточно исследовать и понять материальную область, например, мозг, чтобы чтобы понять ментальную область, например, сознание. Это приводит к монистическая картина, в которой любая необходимость обсуждать психические состояния немедленно устранены или, по крайней мере, рассматриваются как эпифеноменальные.Пока корреляции между разумом и мозгом по-прежнему законны, хотя причинно-следственные связи нерелевантный с эпифеноменалистской точки зрения, исключающий материализм делает неуместными даже корреляции.
Много обсуждаемых контраргументов против обоснованности столь сильного редукционистские подходы — это квалиа-аргументы, которые подчеркивают невозможность для физикалистских счетов должным образом включить качество субъективного переживания психического состояния, «на что это похоже» (Nagel 1974) в этом состоянии.Этот приводит к объяснительному пробелу между видом от третьего лица и от первого лица отчеты, для которых Чалмерс (1995) ввел понятие «сложная проблема сознания». Другой, менее обсуждаемый контраргумент состоит в том, что сама физическая область не является причинно-следственной. закрыто. Любое решение фундаментальных уравнений движения (будь то экспериментально, численно или аналитически) требует фиксации границы условия и начальные условия, которые не заданы фундаментальные законы природы (Примас 2002). Этот причинно-следственный разрыв относится к классическая физика, а также квантовая физика, где основное неопределенность из-за коллапса делает его еще более сложным.Треть класс контраргументов относится к трудностям включения понятий временного настоящего и настоящего в физическом описании (Франк 2004, 2008; Примас 2017).
Однако отношения между ментальным и материальным состояниями также могут быть задуман нередуктивным образом, т.е. с точки зрения появления отношения (Стефан 1999). Психические состояния и/или свойства могут быть считается эмерджентным, если материальный мозг не нужен или нет достаточно, чтобы изучить и понять их. [4] Это приводит к дуалистической картине (менее радикальной и более правдоподобной). чем картезианский дуализм), в котором остатки остаются, если попытаться свести ментальное к материальному.В рамках дуалистической схемы мышления, становится почти неизбежным обсуждение вопроса о причинное влияние между психическим и материальным состояниями. Особенно, причинное воздействие психических состояний на состояния мозга («нисходящая причинность») в последнее время привлекает все больше интерес (Велманс, 2002; Эллис и др. 2011). [5] Наиболее популярные подходы в этом направлении, вплоть до квантовых поведение мозга будет обсуждаться в Раздел 3, «Квантовый мозг».
Бор придерживался старой идеи о том, что центральные концептуальные черты квантовая теория, такая как дополнительность, также имеет ключевое значение. значение вне области физики.Фактически Бор стал знаком с комплементарностью через психолога Эдгара Рубина и, более косвенно, Уильяма Джеймса (Holton 1970) и сразу увидел его потенциал для квантовой физики. Хотя Бор был также убежден в внефизическую значимость дополнительности, он никогда не уточнял. эту идею в конкретных деталях, и долгое время после него никто так же поступили и другие. Эта ситуация изменилась: теперь есть ряд исследовательских программ, обобщающих ключевые понятия квантовой теории в таким образом, что делает их применимыми за пределами физики.
Особый интерес для изучения сознания представляют подходы, были разработаны для того, чтобы подхватить предложение Бора с отношение к психологии и когнитивной науке. Первые шаги в этом направления были сделаны группой Аэртс в начале 1990-х (Aerts и др. 1993), используя недистрибутивные пропозициональные решетки для решения квантовоподобного поведения в неклассических системах. Альтернатива подходы были инициированы Хренниковым (1999) с упором на неклассические вероятности и Atmanspacher et al. (2002 г.), описание алгебраической структуры с некоммутирующими операциями. То Недавнее развитие идей в рамках этого мышления адресовано в Раздел 4, «Квантовый разум». Другие направления мышления связаны с Primas (2007, 2017), обращаясь к дополнительности с частичным булевым значением алгебры, а также Филк и фон Мюллер (2008) с указанием ссылок между основными концептуальными категориями в квантовой физике и психология.
В качестве альтернативы (А) можно представить разум-материю отношения косвенно (Б) , через третью категорию:
\[\ начать {собирать} [\mathbf{ma}] \quad [\mathbf{me}] \\ \searrow\nwarrow \swarrow\nearrow \\ [\mathbf{маме}] \конец{собрать}\]Эта третья категория, обозначенная здесь [маме], часто считается нейтральный по отношению к различию между [ма] и [ме], т.е.е., психофизически нейтрален. В сценарии (B) вопросы сокращения и возникновения касаются отношения между неразделенными «фоновая реальность» [мамэ] и выделенные аспекты [ма] и [я].
Такие «двойные аспекты» мышления получили все большее внимание в современной дискуссии, и они имеют долгую традиция восходит к Спинозе. В первые дни психофизика, Фехнер (1861) и Вундт (1911) выступали за родственную взгляды. Уайтхед, современный пионер философии процесса, упоминал к ментальному и физическому полюсам «актуальных событий», которые сами выходят за пределы своей биполярной внешности (Whitehead 1978).Многие подходы в традициях Фейгла (1967) и Смарта (1963), называемые «теории идентичности», понимают психические и материальные состояния как по существу идентичные «центральные государства», но рассматриваемые с разных точек зрения. Были и другие варианты этой идеи. предложено Юнгом и Паули (1955) [см. также Мейер (2001)], включая Юнговская концепция психофизически нейтрального, архетипического порядке, или Бом и Хайли (Бом, 1990; Бом и Хайли, 1993; Хайли 2001), ссылаясь на имплицитный порядок, который разворачивается в разные эксплицитные области ментального и материального.Они будут более подробно обсуждаться в Раздел 5, «Мозг и разум как двойственные аспекты».
Велманс (2002, 2009) разработал аналогичный подход, подкрепленный эмпирический материал из психологии, и Стросон (2003) предложил «реальный материализм», использующий близкородственную схему. Другим сторонником двухаспектного мышления является Чалмерс (1996), который рассматривает возможность того, что лежащие в основе, психофизически нейтральный уровень описания может быть лучше всего охарактеризован с точки зрения Информация.
Прежде чем двигаться дальше, следует подчеркнуть, что многие современные подходы предпочитают проводить различие между видом от первого лица и взгляды от третьего лица, а не ментальные и материальные состояния. Этот терминология служит для того, чтобы подчеркнуть несоответствие между непосредственным сознательные переживания («qualia») и их описание, это поведенческие, нервные или биофизические. Понятие «жесткий проблема» исследования сознания относится к преодолению разрыва между опытом от первого лица и рассказами о нем от третьего лица.В настоящий вклад, ментальные сознательные состояния имплицитно Предполагается, что это связано с опытом от первого лица. Это не значит, однако, проблема того, как точно определить сознание, считается решенным. В конечном итоге это будет (как минимум) так же сложно определить психическое состояние в строгих терминах так же, как определить материальное состояние.
3. Квантовый мозг
В этом разделе рассматриваются некоторые популярные подходы к применению квантовой теории. состояниям мозга будут исследованы и сопоставлены, большинство из них умозрительные, с разной степенью проработанности и жизнеспособности.Раздел 3.1 обращается к трем различным нейрофизиологическим уровням описания, к которым относятся конкретные квантовые подходы. Впоследствии будут обсуждаться сами индивидуальные подходы — Раздел 3.2: Стапп, Раздел 3.3: Витиелло и Фримен, Раздел 3.4: Бек и Экклс, Раздел 3.5: Пенроуз и Хамерофф.
Ниже приведены (некоторые из) наиболее известных и частично разработанных подходы, использующие концепции квантовой теории для исследования будет представлена и обсуждена природа сознания.Для этого цель, философские различия A/B (Раздел 2) и нейрофизиологические различия, рассматриваемые в Раздел 3.1 будут служить ориентирами для классификации соответствующих квантовых подходит системно. Однако некоторые предварительные оговорки, касающиеся различных способов использования квантовой теории, находятся в приказ.
Существует довольно много отчетов, обсуждающих квантовую теорию в отношения к сознанию, которые принимают основные идеи квантовой теории в чисто метафорическим образом.Квантово-теоретические термины, такие как как запутанность, суперпозиция, коллапс, комплементарность и др. используются без конкретной ссылки на то, как они точно определены и как они применимы к конкретным ситуациям. Например, сознательные действия просто постулируются интерпретируемыми как-то по аналогии с физическими актами измерения или корреляциями в психологических системах всего лишь постулируются как можно интерпретировать как-то аналогично физической запутанности. Такой отчеты могут предоставить увлекательную научную фантастику, и они могут быть даже важно вдохновить ядра идей на детальную проработку.Но если такая детальная работа не уводит дальше расплывчатых метафор и аналогий, они еще не представляют собой научный прогресс. Подходы, попадающие в эта категория не будет обсуждаться в этом вкладе.
Ко второй категории относятся подходы, использующие статус-кво . современной квантовой теории для описания нейрофизиологических и/или нервно-психические процессы. Среди этих подходов один с Самая длинная история была начата фон Нейманом в 1930-х годах, позже взята создан Вигнером, и в настоящее время отстаивается Стаппом.Это может быть примерно характеризуется как предложение рассматривать преднамеренные сознательные действия как неразрывно связанное с ухудшением физического состояния. Другой довольно ранняя идея, восходящая к Риккарди и Умэдзаве в 1960-х гг. рассматривать психические состояния, особенно состояния памяти, с точки зрения вакуума состояния квантовых полей. Видный сторонник этого подхода в присутствует Витиелло. Наконец, есть идея, предложенная Беком и Экклсом в 1990-х годах, согласно которым квантово-механические процессы, имеет значение для описания экзоцитоза в синаптической щели, может находиться под влиянием ментальных намерений.
Третья категория относится к дальнейшим разработкам или обобщения современной квантовой теории. очевидное кандидатом в этом отношении является предложение Пенроуза связать элементарные сознательные акты к индуцированным гравитацией редукциям квантовых состояния. В конечном счете, это требует построения будущей теории квантовая гравитация, которая далека от развития. Вместе с Пенроуз, Хамерофф утверждал, что микротрубочки могут быть подходящим местом. искать такие сокращения состояния.
3.1 Нейрофизиологические уровни описания
Ментальная система может находиться во множестве различных сознательных, намеренных, феноменальные психические состояния. В гипотетическом пространстве состояний последовательность такие состояния образуют траекторию, представляющую то, что часто называют поток сознания. Поскольку разные подмножества пространства состояний обычно связаны с различными свойствами устойчивости, психической состояние можно считать более или менее устойчивым в зависимости от его положение в государственном пространстве.Стабильные состояния отличаются время пребывания в этом положении больше, чем у метастабильных или неустойчивые состояния. Если психическое состояние стабильно по отношению к возмущения, он «активирует» ментальное представление кодирование содержания, которое воспринимается сознательно.
Нейронные сборки
Переходя от этого чисто психологического или когнитивного описания к его нейрофизиологический аналог приводит нас к вопросу: что такое нейронный коррелят ментального представления? Согласно стандарту счета (см.Ноэ и Томпсон (2004) для обсуждения), психическое представления коррелируют с активностью нейронов ансамбли, то есть ансамбли из нескольких тысяч связанных нейронов. Нейронный коррелят ментального представления можно охарактеризовать тем фактом, что связи или муфты между этими нейронами образуют сборку, ограниченную по отношению к своему окружению, к которому связи слабее, чем внутри сборки. Нейронный коррелят мысленного представления активируется, если нейроны формирующиеся сборки действуют более активно, т.е.г., производят выше скорострельности, чем в режиме по умолчанию.
Рисунок 1. Баланс между ингибирующим и возбуждающие связи между нейронами.
Для достижения стабильной работы активированного нейрона сборке, должен быть тонкий баланс между тормозящим и возбуждающие связи между нейронами (см. рис. 1). Если передача функция отдельных нейронов строго монотонна, т. е. возрастает ввод ведет к увеличению выпуска, сборки трудно стабилизировать.По этой причине результаты, устанавливающие немонотонную передаточная функция с максимальным выходом на промежуточном входе имеет вид большое значение для моделирования нейронных ансамблей (Kuhn et др. 2004 г.). Например, сетевые модели, использующие решетки связанных карты с квадратичным максимумом (Канеко и Цуда, 2000) парадигматически примеры такого поведения. Эти и другие известные модели нейронных сборки (обзор см. в Anderson and Rosenfeld 1988) в основном сформулированы так, как , а не , используя четко определенные элементы квантовой теории.Явным исключением является подход Умэдзавы, Витиелло и др. (см. Раздел 3.3).
Одиночные нейроны и синапсы
Тот факт, что нейронные сборки в основном описываются в терминах классическое поведение не исключает того, что классически неописуемое квантовые эффекты могут быть значительными, если сосредоточиться на отдельных составляющие сборки, т. е. отдельные нейроны или интерфейсы между их. Эти интерфейсы, через которые проходят сигналы между нейронами размножаются, называются синапсами.Бывают электрические и химические. синапсы, в зависимости от того, передают ли они сигнал электрически или химически.
В электрических синапсах ток, генерируемый потенциалом действия от пресинаптического нейрона впадает непосредственно в постсинаптическую клетку, который физически связан с пресинаптической окончанием так называемый щелевой контакт. В химических синапсах имеется щель между пре- и постсинаптическая клетка. Для распространения сигнала химический медиатор (глутамат) высвобождается на пресинаптических окончаниях.Этот процесс высвобождения называется экзоцитозом. Передатчик рассеивается по синаптической щели и связывается с рецепторами в постсинаптических мембрану, тем самым открывая ионный канал (Kandel et al. 2000, часть III; см. рис. 2). Химическая передача медленнее, чем электрическая коробка передач.
Рисунок 2. Высвобождение нейротрансмиттеров в синаптической щели (экзоцитоз).
Модель, разработанная Беком и Эклзом, применяет конкретные квантовые механические признаки для описания деталей процесса экзоцитоза.Их модель предполагает, что квантовые процессы имеют отношение к экзоцитоза и, кроме того, тесно связаны с состояниями сознание. Более подробно это будет обсуждаться в Раздел 3.4.
На этом этапе следует использовать другой подход, разработанный Флором (2000). упомянутых, для которых химические синапсы с определенным типом рецепторы, так называемые NMDA рецепторы, [6] имеют первостепенное значение. Вкратце Флор отмечает, что специфическая пластичность NMDA-рецепторов является необходимым условием образование протяженных стабильных нейронных групп, коррелирующих с (высшего порядка) ментальные представления, с которыми он отождествляет себя сознательные состояния.Более того, он указывает ряд механизмов, вызывающих анестезирующими агентами, которые блокируют рецепторы NMDA и, следовательно, привести к потере сознания. Подход Флор физикалистский и редуктивный, и он полностью независим от каких-либо конкретные квантовые идеи.
Микротрубочки
Низший нейрофизиологический уровень, на котором происходят квантовые процессы. был предложен в качестве коррелята с сознанием, это уровень, на котором рассматривается внутренность одиночных нейронов: их цитоскелет.Это состоит из белковых сетей, в основном состоящих из двух видов структуры, нейрофиламенты и микротрубочки (рис. 3, слева), которые необходимы для различных транспортных процессов внутри нейронов (а также другие клетки). Микротрубочки представляют собой длинные полимеры, обычно состоящие из 13 продольные димеры α и β-тубулина, расположенные в виде трубчатой массив с внешним диаметром около 25 нм (рис. 3, справа). За более подробно см. Kandel et al. (2000), гл. II.4.
Рисунок 3.(слева) микротрубочки и нейрофиламентов, ширина рисунка соответствует примерно 700 нм; (справа) димеры тубулина, состоящие из α- и β-мономеры, составляющие микротрубочку.
Тубулины в микротрубочках являются субстратом, который в Предложение Хамероффа используется для включения предложения Пенроуза. теоретические основы нейрофизиолог. Как будет обсуждаться в более подробно в Раздел 3.5, Предполагается, что состояния тубулина зависят от квантовых событий, так что возможна квантовая когерентность между различными тубулинами.Кроме того, решающим тезисом в сценарии Пенроуза и Хамероффа является то, что (вызванный гравитацией) коллапс таких когерентных состояний тубулина соответствует элементарным актам сознания.
3.2 Стапп: редукции квантовых состояний и сознательные действия
Акт измерения является решающим аспектом в рамках квантовой теории. теория, которая была предметом споров более восьми десятилетия. В своей монографии по математическим основам квантовая механика, фон Нейман (1955, гл.V.1) введен в ad hoc образом, постулат проекции как математический инструмент для описания измерения с точки зрения прерывистого, не причинное, мгновенное (необратимое) действие, определяемое (1) переход квантового состояния в собственное b j измеряемой наблюдаемой B (с определенной вероятностью). Этот переход часто называют коллапсом или . уменьшение волновой функции, в отличие от (2) непрерывная, унитарная (обратимая) эволюция системы согласно уравнение Шрёдингера.
В главе VI фон Нейман (1955) обсуждал концептуальное различие между наблюдаемой и наблюдающей системой. В этом контексте он применил (1) 2) к общей ситуации системы измеряемых объектов (I), a измерительный прибор (II) и (мозг) человека-наблюдателя (III). Его вывод заключался в том, что это не имеет значения для результата измерения на (I) является ли граница между наблюдаемым и система наблюдения расположена между I и (II и III) или между (I и II) и III.Как следствие, несущественно, является ли детектор или человеческий мозг, в конечном счете, называют «наблюдатель». [7]
В отличие от довольно осторожной позиции фон Неймана, Лондон и Бауэр (1939) пошел дальше и предположил, что это действительно человеческий фактор. сознание которое завершает процесс квантового измерения (см. Jammer (1974, Sec. 11.3) или Shimony (1963) для подробного описания Счет). Таким образом, они приписывали решающую роль сознанию. в понимании квантового измерения с точки зрения обновления знания наблюдателя.В 1960-х годах Вигнер (1967) радикализировал это предложение, [8] предполагая влияние сознания на физическое состояние измеряемая система, а не только влияние на знания наблюдателя. Чтобы описать измерение как реальный динамический процесс, порождающий необратимых фактов, Вигнер призвал к некоторой нелинейной модификации (2) заменить проекцию фон Неймана (1). [9]
С 1980-х Стапп выработал собственную точку зрения на фон фон Неймана и Вигнера.В частности, он пытается понимать особенности сознания по отношению к квантовым теория. Вдохновленный фон Нейманом, Стапп использует свободу размещения интерфейс между наблюдаемой и наблюдательной системой и размещает его в мозг наблюдателя. Он не предлагает никаких формальных модификаций. современной квантовой теории (в частности, он остается по существу в «ортодоксальном» представлении гильбертова пространства), но добавляет основные интерпретационные расширения, в частности, в отношении детальную онтологическую структуру.
В своей более ранней работе Стапп (1993) начал с Гейзенберга. различие между потенциальным и актуальным (Heisenberg 1958), тем самым сделав решительный шаг за пределы оперативного Копенгагенского интерпретация квантовой механики. Хотя идея Гейзенберга из действительных относится к измеряемому событию в смысле Копенгагенская интерпретация, его представление о потенциале , тенденции , относится к ситуации до измерение, которое выражает идею реальности, независимой от измерение. [10]
Каждое событие непосредственно после актуализации имеет тенденцию к предстоящая актуализация другого, последующего фактического события. Следовательно, события по определению неоднозначны. Что касается их актуализированный аспект, существенный шаг Стэппа состоит в том, чтобы «прикрепиться к каждое фактическое событие Гейзенберга представляет собой эмпирический аспект. Последнее называется чувствовать этого события, и его можно считать аспект фактического события, придающий ему статус внутренняя действительность» (Стапп, 1993, с.149).
Что касается аспекта тенденции, заманчиво понять события с точки зрения схема (Б) из Раздел 2. Это связано с онтологией Уайтхеда, в которой ментальное и физические полюса так называемых «актуальных событий». рассматриваются как психологические и физические аспекты реальности. То потенциальные антецеденты реальных событий психофизически нейтральны и относятся к способу существования, при котором разум и материя неразделенный. Это выражается, например, в понятии Стаппа «гибридной онтологии» с «идеоподобными и материальные качества» (Stapp 1999, 159).Сходство с двухаспектный подход (B) (ср. Раздел 5) очевидны.
В интервью 2006 г. Стапп (2006) уточняет некоторые онтологические особенности его подхода к процессу Уайтхеда мышление, где действительные события, а не материя или разум фундаментальные элементы реальности. Они задуманы как основанные на процессную, а не субстанциальную онтологию (см. философия процесса). Стэпп связывает принципиально процессуальный характер реальных событий. как к физическому акту редукции состояния, так и к коррелированному психологический умышленный поступок.
Еще одним важным аспектом его подхода является возможность того, что «Сознательные намерения человека могут влиять на деятельность его мозга» (Stapp 1999, стр. 153). Отличается от возможно вводящее в заблуждение понятие прямого взаимодействия, предполагающее интерпретация в терминах схемы (А) Раздел 2, он описывает эту особенность более тонко. Требование что умственные и материальные результаты реального события должны соответствовать, т. е. быть коррелированным, действует как ограничение на способ, которым эти исходы формируются в актуальном событии (ср.Стапп 2006). Таким образом, понятие взаимодействия заменяется понятием ограничение, установленное корреляциями между разумом и материей (см. также Stapp 2007).
На уровне, на котором сознательные ментальные состояния и материальные состояния мозга различаются, каждое сознательное переживание, согласно Стаппу (1999, стр. 153), имеет своим физическим аналогом квантовое состояние редукция, актуализирующая «модель деятельности, которая иногда называется нейронным коррелятом этого сознательного опыта». Этот паттерн деятельности может кодировать намерение и, таким образом, представлять «шаблон действия».Намеренное решение для действие, предшествующее самому действию, является тогда ключом ко всему подобному свободная воля в этой картине.
Стапп утверждает, что умственное усилие, т. е. внимание, уделяемое таким преднамеренные действия, могут продлить жизнь нейронных сборок которые представляют собой шаблоны для действий благодаря квантовому типу Зенона. последствия. Что касается нейрофизиологической реализации этого идея, предполагается, что интенциональные ментальные состояния соответствуют редукции состояний суперпозиции нейронных ансамблей.Дополнительный комментарий к понятиям внимания и намерения в отношение к идее Джеймса о целостном потоке сознания (James 1950 [1890]) был дан Стаппом (1999).
Для дальнейшего прогресса необходимо будет разработать согласованную формальные рамки для этого подхода и разработать конкретные детали. Например, еще не выяснено, как именно квантовая суперпозиции и их коллапсы должны происходить в нервных корреляты сознательных событий. Некоторые признаки обозначены Шварц и др. (2005 г.). С этими желаниями на будущее работа, общая концепция консервативна постольку, поскольку физический формализм остается неизменным.
Вот почему Стапп годами настаивал на том, что его подход не меняется. то, что он называет «ортодоксальной» квантовой механикой, т. по существу закодировано в статистической формулировке фон Неймана (1955). С точки зрения стандартного современного квантового физике, однако, безусловно, неортодоксально включать ментальное состояние наблюдателей в теории.Хотя верно, что квант измерение еще окончательно не понято с точки зрения физической теории, введение психических состояний в качестве существенного недостающего звена весьма спекулятивный с современной точки зрения.
Эта ссылка является радикальным концептуальным ходом. В том, что Стапп теперь называет «полуортодоксальный» подход (Stapp 2015), он предлагает слепой случай случайности отдельных квантовых событий («выбор природы») переосмыслить как «не на самом деле случайным, но положительно или отрицательно смещенным положительным или отрицательным негативные ценности в сознании наблюдателей, которые актуализируются ее (природы) выбор» (стр.187). Эта гипотеза приводит в ментальные воздействия на квантовые физические процессы, которые широко пока неизвестная территория.
3.3 Витиелло и Фримен: Квантовая теория полей состояний мозга
В 1960-х годах Риккарди и Умедзава (1967) предложили использовать формализм квантовой теории поля для описания состояний мозга, с особый упор на память. Основная идея состоит в том, чтобы понять память состояний в терминах состояний систем многих частиц, как неэквивалентных представления вакуумных состояний квантовых поля. [11] Это предложение претерпело несколько усовершенствований (например, Стюарт и др. 1978, 1979; Джибу и Ясуэ, 1995). Основные недавние прогресс был достигнут за счет включения эффектов рассеивания, хаоса, фракталы и квантовый шум (Витиелло, 1995; Песса и Витьелло, 2003; Витиелло 2012). Для удобочитаемых нетехнических отчетов о подходе в его нынешняя форма, встроенная в квантовую теорию поля на сегодняшний день, см. Витиелло (2001, 2002).
Квантовая теория поля (см. квантовая теория поля) имеет дело с системами с бесконечным числом степеней свободы.Для таких системы, алгебра наблюдаемых, которая является результатом наложения канонические коммутационные соотношения допускают кратное гильбертово пространство представления, которые не являются унитарно эквивалентными друг другу. Этот отличается от случая стандартной квантовой механики, которая имеет дело с системы с конечным числом степеней свободы. Для таких систем соответствующая алгебра наблюдаемых допускает унитарно эквивалентные Представления в гильбертовом пространстве.
Неэквивалентные представления квантовой теории поля могут быть порождается спонтанным нарушением симметрии (см. запись о симметрия и нарушение симметрии), происходит, когда основное состояние (или вакуумное состояние) системы не инвариантна относительно полной группы преобразований, обеспечивающих законы сохранения системы.Если симметрия нарушается, коллектив генерируются моды (так называемые бозонные моды Намбу-Голдстоуна), которые распространяться по системе и вводить дальние корреляции в Это.
Эти корреляции ответственны за появление упорядоченных узоры. В отличие от стандартных тепловых систем большое количество бозонов может быть сконденсирован в упорядоченном состоянии очень стабильным образом. Грубо говоря, это обеспечивает вывод теории квантового поля. упорядоченных состояний в системах многих тел, описываемых в терминах статистическая физика.В предложении Умэдзавы эти динамически упорядоченные состояния представляют когерентную активность нейронных групп.
Активация нейронной сборки необходима, чтобы закодированный контент сознательно доступен. Эта активация считается вызванным внешними раздражителями. Если только сборка не активируется, его содержание остается бессознательным, недоступной памятью. Согласно Умэдзаве, когерентные нейронные сборки коррелируют с такими состояния памяти рассматриваются как состояния вакуума; их активация приводит к возбужденных состояний и позволяет сознательно вспомнить содержание кодируется в вакуумном (основном) состоянии.Устойчивость таких состояний и роль внешних раздражителей подробно исследовал Стюарт и др. (1978, 1979).
Сделан решающий шаг в развитии подхода. с учетом диссипации . Рассеивание возможно когда рассматривается взаимодействие системы с окружающей средой. Витиелло (1995) описывает, как взаимодействие системы и окружающей среды вызывает удвоение коллективных мод системы в ее окружающая обстановка.Это дает бесконечно много различных кодов вакуума. состояний, предлагая возможность многих содержимого памяти без надпечатка. Кроме того, диссипация приводит к конечному времени жизни состояния вакуума, таким образом представляя ограниченные во времени, а не неограниченная память (Alfinito и Vitiello 2000; Alfinito и др. 2001). Наконец, рассеянность порождает настоящую стрелу времени для системы, и ее взаимодействие с окружающей средой вызывает запутанность. Песса и Витиелло (2003) рассмотрели дополнительные эффекты хаоса. и квантовый шум.
Предложение Умэдзавы рассматривает мозг как систему многих частиц. в целом, где «частицы» более или менее нейроны. На языке Раздел 3.1, это относится к уровню нейронных сборок, которые коррелируют напрямую с умственной деятельностью. Еще одна заслуга кванта подход теории поля заключается в том, что он избегает ограничений стандартного квантовой механики формально обоснованным образом. Концептуально говоря, многие новаторских представлений предложения, тем не менее, смутило психические и материальные состояния (и их свойства).Это было уточнено Фриманом и Витиелло (2008): модель «описывает мозг, а не психические состояния».
Для соответствующего описания состояний мозга Фримен и Витиелло 2006, 2008, 2010) изучали нейробиологически значимые наблюдаемые, такие как как амплитуды электрического и магнитного поля и нейротрансмиттер концентрация. Они нашли доказательства существования неравновесных аналогов фазовые переходы (Витиелло, 2015) и степенные распределения спектральные плотности энергии электрокортикограмм (Фримен и Витиелло 2010 г., Фримен и Куиан Кирога, 2013 г.).Все эти наблюдаемые классический, так что нейроны, клетки глии «и другие физиологические единицы составляют , а не квантовых объектов в модели многих тел. мозг» (Фриман и Витиелло, 2008). Однако Витиелло (2012) также указывает, что появление (самоподобных, фрактальных) степенное распределение в целом тесно связано с диссипативные квантовые когерентные состояния (см. также недавние разработки сценарий Пенроуза-Хамероффа, Раздел 3.5).
Общий вывод состоит в том, что применение квантовой теории поля описывает, почему и как классическое поведение возникает на уровне мозга считается деятельность.Сами соответствующие состояния мозга просматриваются как классические состояния. Подобно классическому термодинамическому описание, вытекающее из квантовой статистической механики, идея состоит в том, чтобы выявить различные режимы устойчивого поведения (фазы, аттракторы) и переходы между ними. Таким образом, квантовая теория поля дает формальные элементы, из которых строится стандартное классическое описание мозга активности можно предположить, и это ее основная роль в значительной части модель. Только в их последней совместной работе Freeman and Vitiello (2016 г.) представьте способ, которым ментальное может быть явно включено.Для недавний обзор, включая техническую информацию, см. Саббадини и Витиелло (2019).
3.4 Бек и Экклс: квантовая механика в синаптической щели
Вероятно, наиболее конкретное предположение о том, как квантовая механика в ее современный внешний вид может играть роль в мозговых процессах из-за Бека и Эклза (1992), позже уточненного Беком (2001). Это относится к конкретные механизмы передачи информации в синаптической щели. Однако способы, которыми эти квантовые процессы могут иметь отношение к умственной деятельности, и в которой их взаимодействие с психическими состояниями задуманы, остаются невыясненными до настоящего времени день. [12]
Как представлено в Раздел 3.1, информационный поток между нейронами в химических синапсах инициируется высвобождением медиаторов в пресинаптических окончаниях. Этот процесс называется экзоцитозом и запускается прибывающим нервный импульс с небольшой вероятностью. Для того, чтобы описать триггерный механизм статистическим способом, термодинамическим или квантовым можно вызвать механику. Взгляд на соответствующие энергетические режимы показывает (Бек и Экклс, 1992), что квантовые процессы отличимы от тепловых процессов при энергиях выше 10 -2 эВ (при комнатной температуре).Предполагая типичную длину масштаб для биологических микросайтов порядка нескольких нанометров, эффективной массы менее 10 электронных масс достаточно, чтобы гарантировать, что квантовые процессы преобладают над тепловыми процессами.
Верхний предел шкалы времени таких процессов в квантовом режим порядка 10 -12 сек. Это значительно короче временной шкалы клеточных процессов, т. 10 -9 сек и более. Ощутимая разница между две временные шкалы позволяют рассматривать соответствующие процессы как бы отделены друг от друга.
Подробный спусковой механизм, предложенный Беком и Эклзом (1992), представляет собой на основе квантовой концепции квазичастиц, отражающей аспект частиц коллективного режима. Опуская подробности о На картинке предлагаемый триггерный механизм относится к туннельным процессам квазичастиц с двумя состояниями, что приводит к коллапсу состояний. Это дает вероятность экзоцитоза в диапазоне от 0 до 0,7, в согласие с эмпирическими наблюдениями. Использование теоретической основы разработанный ранее (Marcus 1956; Jortner 1976), квантовый триггер может конкретно понимать с точки зрения переноса электрона между биомолекулы.Тем не менее, остается вопрос, как может быть спусковой крючок относится к сознательным психическим состояниям. В этом есть два аспекта вопрос.
Первый относится к намерению Эклза использовать квантовые процессы в мозгу как точку входа для психических причин. То идея, как указано в Секция 1, состоит в том, что фундаментально недетерминированный характер индивидуального коллапс квантового состояния дает место для влияния ментальных сил на состояния мозга. В настоящей картине это задумано в таком способ, которым «умственное намерение (воля) становится нейронно-эффективным на моментально увеличивая вероятность экзоцитоз » (Beck and Eccles 1992, 11360).Дальше обоснование этого предположения не приводится.
Второй аспект относится к проблеме, которая обрабатывается в одиночных синапсов нельзя просто соотнести с ментальными активность, нейронные корреляты которой представляют собой когерентные сборки нейронов. Наиболее правдоподобно, что на первый взгляд некоррелированных случайных процессов в отдельные синапсы привели бы к стохастической сети нейронов (Хепп, 1999). Хотя Бек (2001) указал на возможности (такие как квантовый стохастический резонанс) для достижения упорядоченных паттернов в уровень сборки из принципиально случайных синаптических процессов, это остается нерешенной проблемой.
За исключением идеи Эклза о ментальной причинности, Подход Бека и Эклза в основном фокусируется на состояниях мозга и динамика мозга. В этом отношении Бек (2001, 109f) прямо заявляет: что «наука по самой своей природе не может дать никакого ответа на […] вопросы, связанные с разумом». Тем не менее их биофизический подход может открыть дверь для контролируемых спекуляций о отношения разума и материи.
Более недавнее предложение, нацеленное на процессы экзоцитоза в синаптических расщелина связана с Фишером (2015, 2017).Подобно квазичастицам Бека и Эклза, Фишер ссылается на так называемые молекулы Познера, в в частности, фосфат кальция, Ca\(_9\)(PO\(_4\))\(_6\). Ядерный спины ионов фосфата служат запутанными кубитами внутри молекул, которые защищают свои когерентные состояния от быстрых декогерентность (что приводит к экстремальным временам декогеренции в диапазоне часов или даже дней). Если молекулы Познера транспортируются в пресинаптические глутаматергические нейроны, они будут стимулировать дальнейшую высвобождение глутамата и усиление постсинаптической активности.Из-за нелокальности квантовых корреляций, эта активность может усиливаться в течение нескольких нейроны (что могло бы ответить на беспокойство Хеппа).
Это сложный механизм, требующий эмпирических тестов. Один из них было бы изменить динамику спина фосфора в пределах Молекулы Познера. Например, замена Ca на другие изотопы Li с разными ядерными спинами приводит к разной декогеренции раз, влияя на постсинаптическую активность. Соответствующие доказательства есть было показано на животных (Sechzer et al.1986, Круг и др. 2019). В На самом деле известно, что литий эффективен при сдерживании маниакальных фаз у пациентов с биполярным расстройством.
3.5 Пенроуз и Хамерофф: квантовая гравитация и микротрубочки
В сценарии, разработанном Пенроузом и нейрофизиологически дополненная Хамероффом, утверждается, что квантовая теория эффективна для сознания, но способ, которым это происходит, весьма изощрен. это утверждал, что элементарные акты сознания неалгоритмичны, т. е. невычислимы, и нейрофизиологически реализуются как индуцированная гравитацией редукция когерентных состояний суперпозиции в микротрубочки.
В отличие от обсуждавшихся до сих пор подходов, которые в основном основаны на (различные черты) статус-кво квантовая теория, физическая часть сценария, предложенного Пенроузом, относится к будущему развития квантовой теории для правильного понимания физический процесс, лежащий в основе редукции квантового состояния. Чем больше картина состоит в том, что полноценная теория квантовой гравитации требуется, чтобы в конечном итоге понять квантовые измерения (см. квантовая гравитация).
Это далеко идущее предположение. Обоснование Пенроуза вызов редукции состояния не в том, что соответствующая случайность дает место для того, чтобы ментальная каузальность стала действенной (хотя это не исключено). Его концептуальная отправная точка, в конце концов развитая в двух книгах (Penrose 1989, 1994) состоит в том, что элементарные сознательные действия не может быть описана алгоритмически, следовательно, не может быть вычислена. Его фон в этом отношении имеет непосредственное отношение к характеру креативность, математическая проницательность, неполнота Гёделя теоремы и идею платоновской реальности за пределами разума и иметь значение.
Пенроуз утверждает, что правильная формулировка редукции квантового состояния замена проекционного постулата фон Неймана должна добросовестно описать объективный физический процесс , который он называет объективное снижение . Поскольку такой физический процесс остается пока эмпирически не подтверждено, Пенроуз предполагает, что эффекты не в настоящее время охватывается квантовой теорией, может играть роль в состоянии снижение. Идеальными кандидатами для него являются гравитационные эффекты, поскольку гравитация — единственное фундаментальное взаимодействие, которое не интегрированы в квантовую теорию до сих пор.Вместо изменения элементов теории гравитации (то есть общей теории относительности) для достижения такой интеграции, Пенроуз обсуждает обратное: этот роман особенности должны быть включены в квантовую теорию для этой цели. Таким образом, он приходит к предположению о гравитационно-индуцированных сокращение объективного состояния .
Почему такая версия редукции состояния невычислима? Первоначально один можно подумать об объективном сокращении состояния в терминах стохастического процесс, как и большинство текущих предложений для таких механизмов (см. запись на теории коллапса).Это, конечно, было бы недетерминированным, но вероятностным и стохастические процессы могут быть стандартно реализованы на компьютере, следовательно, они определенно вычислимы. Пенроуз (1994, разделы 7.8 и 7.10) набрасывает некоторые идеи относительно истинно невычислимых, а не только случайные, особенности квантовой гравитации. Для того, чтобы они стали приемлемые кандидаты для объяснения невычислимости редукции состояния, вызванной гравитацией, предстоит пройти еще долгий путь ушел.
Что касается нейрофизиологической реализации Предложение Пенроуза, его сотрудничество с Хамероффом было инструментальный.Имея опыт работы анестезиологом, Хамерофф предложил рассматривать микротрубочки как вариант, где редукции квантовых состояний может происходить эффективным образом, см., например, Хамерофф и Пенроуз (1996). Предполагается, что соответствующие квантовые состояния быть когерентными суперпозициями состояний тубулина, в конечном итоге расширяя над многими нейронами. Их одновременный гравитационный коллапс интерпретируется как индивидуальный элементарный акт сознания. То предложенный механизм, с помощью которого устанавливаются такие суперпозиции включает в себя ряд связанных деталей, которые еще предстоит подтвердить или опровергнут.
Идея сосредоточиться на микротрубочках частично мотивирована аргумент, что для обеспечения того, чтобы квантовая государства могут жить достаточно долго, чтобы уменьшиться под действием гравитации. воздействие, а не взаимодействие с теплым и влажным среды внутри мозга. Спекулятивные замечания о том, как невычислимые аспекты ожидаемой новой физики, упомянутые выше может иметь большое значение в этом сценарий [13] приведены у Пенроуза (1994, раздел 7.7).
Влиятельная критика возможности того, что квантовые состояния могут Дело в том, что достаточно долго выживает в термической среде мозг, был поднят Тегмарком (2000).Он оценивает время декогеренции тубулиновые суперпозиции из-за взаимодействий в головном мозге должны быть меньше чем 10 -12 сек. По сравнению с типичными временными масштабами микротубулярные процессы порядка миллисекунд и более, он приходит к выводу, что время жизни суперпозиций тубулина слишком быть значимым для нейрофизиологических процессов в микротрубочки. В ответ на эту критику Hagan et al. (2002) показали, что исправленная версия модели Тегмарка обеспечивает время декогеренции от 10 до 100 мкс, и утверждал, что это может быть расширено до нейрофизиологически соответствующий диапазон от 10 до 100 мс при определенных предположениях сценарий Пенроуза и Хамероффа.
Совсем недавно в эти дебаты вступила новая идея. теоретический исследования взаимодействующих спинов показали, что запутанные состояния могут быть поддерживается в шумных открытых квантовых системах при высокой температуре и далеком расстоянии. от теплового равновесия. В этих исследованиях эффект декогеренции уравновешивается простым механизмом «перекогерентности» (Хартманн и др. 2006, Ли и Параоану 2009). Это указывает что при определенных обстоятельствах запутанность может сохраняться даже в горячие и шумные среды, такие как мозг.
Тем не менее, декогеренция — это всего лишь одна часть дебатов об общем картина, предложенная Пенроузом и Хамероффом. С другой точки зрения, их предложение микротрубочек в качестве квантовых вычислительных устройств недавно получил поддержку от работы лаборатории Bandyopadhyay в Япония, демонстрирующая доказательства колебательных резонансов и проводимости. особенности в микротрубочках, которые следует ожидать, если они макроскопические квантовые системы (Sahu et al. 2013). Результаты Bandyopadhyay привлекли значительное внимание и комментарий (см. Hameroff and Penrose 2014).В хорошо информированном углубленного анализа Питканен (2014) выразил озабоченность по поводу что только представленных результатов может быть недостаточно для подтверждения подход, предложенный Хамероффом и Пенроузом, со всей его разветвления.
В другом ключе Craddock et al. (2015, 2017) обсуждалось подробно о том, как отростки микротрубочек (вместо или в дополнение к синаптические процессы, см. Flohr 2000) могут быть затронуты анестетиками, а также может быть ответственным за нейродегенеративные расстройства памяти.В виде корреляция между анестетиками и сознанием кажется очевидной. феноменологическом уровне, интересно знать запутанные механизмы действия анестетиков на цитоскелет нейрональный клетки, [14] и какую роль в этих механизмах играет квантовая механика. Крэддок и др. (2015, 2017) указывают на ряд возможных квантовых эффекты (включая степенное поведение, рассмотренное Витиелло, ср. Раздел 3.3) которые можно исследовать с помощью доступных в настоящее время технологий.Недавние эмпирические результаты о квантовых взаимодействиях анестетиков благодаря Li и др. (2018 г.) и Burdick et al. (2019).
С философской точки зрения сценарий Пенроуза и Хамероффа время от времени получал откровенный отказ, см., например, Груша и Черчленд (1995) и ответ Пенроуза и Хамероффа (1995). Действительно, их подход собирает в себе несколько загадок высшего уровня, среди их отношение между разумом и самой материей, предельное объединение всех физических взаимодействий, возникновение математических истина и понимание динамики мозга в иерархических уровни.Объединение таких глубоких и увлекательных вопросов, безусловно, требует дальнейшая работа должна быть обоснована и не должна быть слишком быстрой праздновали, но и не отвергали небрежно. Спустя более двух десятилетий с момента его создания можно с уверенностью утверждать одно: подход плодотворно вдохновил важные инновационные исследования квантовых эффектов на сознание, как теоретическое, так и эмпирическое.
4. Квантовый разум
4.1 Применение квантовых концепций к ментальным системам
Сегодня накапливаются данные в области изучения сознания. что квантовые концепции, такие как дополнительность, запутанность, дисперсионная состояния и небулевская логика играют важную роль в умственном процессы.Соответствующие квантовые подходы касаются исключительно психические (психологические) явления с использованием формальных признаков также употребляются в квантовой физике, но без привлечения полноценного каркаса квантовой механики или квантовой теории поля. Термин «квантовый познание» был придуман для обозначения этой новой области исследовательская работа. Возможно, более подходящей характеристикой будет некоммутативные структуры в познании.
На первый взгляд, это может означать, что активность мозга коррелирует с с этими психическими процессами фактически управляется квантовой физикой.Подходы к квантовому мозгу, обсуждаемые в Раздел 3 представляют попытки, которые были предложены в этом направлении. Но это Обязательно верно, что квантовые черты в психологии подразумевают квантовые физика в мозгу?
Формальный шаг по включению квантового поведения в ментальные системы, не говоря о квантовой активности мозга, основан на пространстве состояний Описание психических систем. Если психические состояния определяются на основе ячеек раздела пространства нервных состояний, то этот раздел должен быть хорошо адаптирован, чтобы привести к надежно определенным состояниям.Для этого случая выбранные разделы обычно создают несовместимые описания (Atmanspacher and beim Graben 2007) и состояния могут запутаться (Бейм Грабен и др. 2013).
Это означает, что квантовая динамика мозга не является единственно возможной. объяснение квантовых особенностей психических систем. При условии, что ментальные состояния возникают из разделения нервных состояний таким образом что статистические нейронные состояния совпадают с индивидуальными психическими состояний, характер психических процессов сильно зависит от вида выбран раздел.Если перегородка построена неправильно, вполне вероятно, что психические состояния и наблюдаемые явления демонстрируют черты, напоминающие квантовое поведение, хотя коррелированная активность мозга может быть совершенно классический: квантовый разум без квантового мозга .
Интуитивно нетрудно понять, почему операции или небулева логика должны быть релевантными, даже неизбежными, для ментальных систем, не имеющих ничего общего с квантовой физикой. Проще говоря, некоммутативность операций ничего не значит. кроме того, что последовательность, в которой применяются операции, имеет значение для конечного результата.А небулева логика относится к предложениям которые могут иметь нечеткие значения истинности за пределами да или нет, оттенки правдоподобие или достоверность, так сказать. Обе версии явно изобилуют в психологии и когнитивистике (и в повседневной жизни). Pylkkänen (2015) даже предложил использовать этот интуитивный доступность ментальных квантовых функций для лучшего концептуального понимания квантовой физики .
Особая сила идеи обобщения квантовой теории помимо квантовой физики, заключается в том, что она обеспечивает формальную основу, которая оба дают прозрачную четко определенную связь с обычным квантовым физике и использовался для описания ряда конкретных психологические приложения с удивительно подробными теоретическими и эмпирические результаты.Соответствующие подходы подпадают под третий категория, упомянутая в Раздел 3: дальнейшее развитие или обобщение квантовой теории.
Одна из причин сосредоточения внимания на психологических явлениях заключается в том, что их детальное изучение является необходимой предпосылкой для дальнейших вопросов, касающихся их нейронные корреляты. Поэтому исследование психических квантовых характеристик сопротивляется искушению уменьшить их (в пределах сценарий А) слишком быстро для нейронной активности. Есть несколько виды психологических явлений, которые рассматривались в дух ментальных квантовых особенностей до сих пор: (i) процессы принятия решений, (ii) эффекты порядка, (iii) бистабильное восприятие, (iv) обучение, (v) семантическое сети, (vi) квантовое агентство и (vii) суперквантовая запутанность корреляции.Эти темы будут более подробно освещены в следующий Раздел 4.2.
Отличительной чертой этих подходов является то, что они привели к четко определенным и конкретным теоретическим моделям с эмпирическими последствия и новые предсказания. Второй момент, о котором стоит упомянуть, что к настоящему времени во всем мире существует ряд исследовательских групп (скорее чем одиночные акторы), изучающие квантовые идеи в познании, отчасти даже в совместных усилиях. Около десяти лет регулярно международные конференции с протоколами обмена новыми результаты и идеи, а также целевые статьи, специальные выпуски и монографии были посвящены базовым фреймворкам и новым разработкам (Хренников 1999, Atmanspacher и др. 2002 г., Буземейер и Бруза 2012 г., Haven and Khrennikov 2013, Wendt 2015).4.2 Применение бетона
Процессы принятия решений
Одним из первых предшественников работы над процессами принятия решений является Аэртс и Аэртс (1994). Однако первый подробный отчет появился в всеобъемлющая публикация Busemeyer et al. (2006 г.). Ключ Идея состоит в том, чтобы определить вероятности для результатов решения и решения раз в терминах амплитуд квантовой вероятности. Буземейер и др. др. нашли согласие подходящей модели гильбертова пространства (и расхождение классической альтернативы) с эмпирическими данными. Более того, они смогли прояснить давнюю загадку так называемые эффекты конъюнкции и дизъюнкции (Тверски и Шафир 1992) в процессе принятия решений (Потос и Буземейер, 2009). Другой применение относится к асимметрии суждений о сходстве (Тверский 1977), которые можно адекватно понять с помощью квантовых подходов (см. Аэртс и др. 2011, Pothos и др. 2013).
Эффекты приказа
Эффекты порядка в опросах, опросах и анкетах, признаваемые за долгое время (Schwarz and Sudman, 1992), по-прежнему недостаточно понял сегодня. Их изучение как контекстуальных квантовых признаков (Aerts и Aerts 1994, Busemeyer и др. 2011) предлагает потенциал раскрыть гораздо больше о таких эффектах, чем хорошо известный факт, что ответы могут резко измениться, если вопросы поменять местами. Атманспехер и Römer (2012) предложили полную классификацию возможных эффекты порядка (включая отношения неопределенностей и не зависящие от представления гильбертова пространства) и Wang et al. (2014) обнаружил фундаментальное условие ковариации (называемое уравнением QQ) для широкого класса эффектов порядка.
Важным вопросом для подходов к квантовому разуму является сложность или экономичность моделей гильбертова пространства по сравнению с классическими (байесовскими, Марков и др.) моделей. Атманшпахер и Ремер (2012), а также Busemeyer and Wang (2018) рассмотрели этот вопрос для эффектов порядка, с В результате квантовые подходы обычно требуют меньше свободного переменных, чем конкурирующие классические модели, и, таким образом, более бережливее и строже тех.Буземейер и Ван (2017) изучали, как последовательное измерение несовместимых наблюдаемых вызывает неопределенности относительно результата второго измерения.
Бистабильное восприятие
Восприятие стимула бистабильно, если стимул неоднозначен, Например, куб Неккера. Это бистабильное поведение было смоделировано аналог физического квантового эффекта Зенона. (Обратите внимание, что это отличается квантового эффекта Зенона, используемого в Раздел 3.2.) Полученная модель Неккера-Зено предсказывает количественную связь между основными психофизическими шкалами времени в бистабильном восприятии, что было подтверждено экспериментально (см. Atmanspacher and Filk 2013 для обзор).
Более того, Атманспехер и Филк (2010) показали, что модель нарушает временные неравенства Белла для конкретных выдающиеся состояния в бистабильных восприятие. [15] Это теоретическое предсказание еще предстоит проверить экспериментально. будет лакмусовой бумажкой для квантового поведения в ментальных системах. Такой состояния были обозначены как временно нелокальные в смысле что они не имеют резкой (точечной) локализации по оси времени но кажутся растянутыми на длительный временной интервал (расширенный настоящее время).В этом интервале такие отношения, как «раньше» или «позже» неправомерны десигнаторы и, соответственно, причинно-следственные связи выражены слабо.
Процессы обучения
Другая вполне очевидная арена некоммутативного поведения — обучение. поведение. В теоретических исследованиях Атманспехер и Филк (2006) показали что в простых задачах обучения с учителем небольшие рекуррентные сети не узнать только предписанное отношение ввода-вывода, но также и последовательность в котором были представлены входные данные.Отсюда следует, что признание входов ухудшается, если последовательность представления изменена. В очень мало исключительных случаев, с особыми характеристиками, которые остаются быть исследованы, этого нарушения можно избежать.
Семантические сети
Сложный вопрос значения в естественных языках часто исследуется с точки зрения семантических сетей. Габора и Аэртс (2002) описали способ, которым концепции вызываются, используются и комбинируются для создания значение в зависимости от контекста.Их представления об ассоциации понятий в эволюции получили дальнейшее развитие Габора и Аэртс (2009). А особенно захватывающее приложение связано с Bruza et al. (2015), который бросил вызов давней догме в лингвистике предполагая, что значение комбинаций понятий (таких как «яблочный чипс») нельзя однозначно разделить на значения комбинированных понятий («яблоко» и «чипс»). Бруза и др. (2015) относятся к смысловым отношениям с точки зрения особенности стиля запутывания в квантовых представлениях понятий и сообщил о первых эмпирических результатах в этом направлении.
Квантовое агентство
Квантовый подход к пониманию вопросов, связанных с агентностью, намерение и другие спорные темы в философии разума был предложен Бригелем и Мюллером (2015), см. также Мюллер и Бригель (2018). Это предложение основано на работе над квантовые алгоритмы обучения с подкреплением в нейронных сетях («проективное моделирование», Paparo et al. 2012), что можно рассматривать как вариант квантового машинного обучения (Wittek 2014). Суть идеи заключается в том, как агенты могут развивать агентность как своего рода независимости от окружающей среды и детерминированных законов управлять им (Briegel 2012).Поведение самого агента моделируется как недетерминированное квантовое случайное блуждание в его памяти космос.
Суперквантовые корреляции
Квантовая запутанность подразумевает корреляции, превышающие стандартные классические корреляции (нарушая неравенства типа Белла), но подчиняясь так называемая граница Цирельсона. Однако эта граница не исчерпывает диапазон, в котором в принципе могут нарушаться корреляции типа Белла. Попеску и Рорлих (1994) обнаружили такие корреляции для конкретных квантовые измерения и изучение таких суперквантовых корреляций стала ярким полем современных исследований, так как обзор Попеску (2014) шоу.
Одна проблема в оценке суперквантовых корреляций в ментальных системах состоит в том, чтобы разграничить подлинные (непричинные) корреляции квантового типа от (причинно-следственные) классические корреляции, которые можно использовать для сигнализации. Джафаров и Куджала (2013) нашли компактный способ сделать это и вычесть классические эффекты контекста, такие как прайминг в ментальных системах так что истинные квантовые корреляции остаются. См. Сервантеса и Джафарова (2018) для эмпирических приложений и Atmanspacher and Filk (2019) для дальнейших тонкостей.
5. Разум и материя как двойственные аспекты
5.1 Композиционный и декомпозиционный подходы
Двухаспектные подходы рассматривают ментальную и материальную области реальности. как аспекты или проявления одной лежащей в основе реальности, в которой разум и материя неразделимы. В таких рамках различие между разумом и материей возникает в результате применения основного инструмента для достижения эпистемического доступа, т. е. сбора знаний о обоих разделенные домены и лежащие в их основе реальность. [16] Следовательно, состояние основного, психофизически нейтрального домен рассматривается как онтика по отношению к разум-материя различие.
Как упоминалось в Раздел 2, двухаспектные подходы имеют долгую историю, по сути, начиная с Спиноза как самый откровенный герой. Основные направления 20-х гг. века были описаны и сопоставлены с некоторыми подробностями Атманшпахер (2014). Важное различие между двумя основными классы двухаспектного мышления — это способ, которым психофизически нейтральная область связана с психическим и физ.Для Рассела и неорасселианцев композиционных аранжировок психофизически нейтральных элементы решают, как они отличаются по отношению к умственному или физическому характеристики. Как следствие, психическое и физическое сводится к нейтральной области. Идеи Чалмерса (1996, глава 8) по «сознанию и информации» попадают в этот класс. Теоретическая основа Тонони «интегрированного информационного теория» (см. Oizumi et al. 2014, Tononi and Koch 2015) можно рассматривать как конкретную реализацию ряда особенностей Предложение Чалмерса.Никакие квантовые структуры не участвуют в этом. Работа.
Другой класс двухаспектного мышления — это декомпозиционное а не композиционный. Здесь базовая метафизика психофизически нейтральная область является целостной, а психическая и физические (не сводимые ни друг к другу, ни к нейтральному) возникают нарушая целостную симметрию или, другими словами, делая различия. Эта структура руководствуется аналогией с квантовым холизм, и преобладающими версиями этой картины являются квантовые теоретически вдохновлено, как, например, предложено Паули и Юнгом (Юнг и Паули, 1955; Мейер, 2001) и Бом и Хайли (Бом, 1990; Бом и Хайли, 1993 г.; Хайли 2001).Они основаны на предположениях, что явно выходят за рамки современной квантовой теории.
В подходе Бома и Хайли понятия неявного и экспликативный порядок отражают различие между онтическим и эпистемическим домены. Психические и физические состояния возникают путем экспликации, или развертывание, из предельно неделимого и психофизически нейтрального неявный, свернутый порядок. Этот заказ называется голодвижение . потому что он не статичен, а скорее динамичен, как у Уайтхеда. философия процесса.Де Госсон и Хайли (2013) дают хороший введение в то, как голодвижение может быть рассмотрено с формальной (алгебраическая) точка зрения.
На уровне импликативного порядка терм активен информация выражает, что этот уровень способен «информируя» эпистемически выделенное, эксплицируемое сферы разума и материи. Следует подчеркнуть, что обычное Понятие информации — явно эпистемологический термин. Тем не менее, существует довольно много двухаспектных подходов к решению что-то вроде информации на онтике, психофизически нейтральной уровень. [17] Использование информационного понятия неэпистемическим образом появляется непоследовательны, если общее (синтаксическое) значение шенноновского типа предназначена информация, которая требует различий, чтобы строить разбиения, предоставляя альтернативы в множестве заданных Мероприятия. Большинство двухаспектных подходов, основанных на информации, не достаточно прояснить свое представление об информации, чтобы легко возникают недоразумения.
5.2 Корреляции разума и материи
В то время как предложение Бома и Хейли, по сути, представляет собой набросок концептуальной рамки без дальнейших конкретных подробностей, особенно касающихся ментальная область, гипотеза Паули-Юнга (Atmanspacher и Fuchs 2014) о двухаспектном монизме предлагает еще один материал для обсуждать.Интуитивно привлекательный способ представить свой подход рассматривает различие между эпистемической и онтической сферами материал реальность из-за квантовой теории параллельно с различие между эпистемической и онтической ментальными сферами.
С физической стороны эпистемологическое/онтическое различие относится к различие между «локальным реализмом» эмпирических фактов полученные из классических измерительных инструментов и «целостного реализм» запутанных систем (Atmanspacher and Primas 2003).По существу, эти домены связаны процессом измерение, которое до сих пор считалось независимым от сознательных наблюдателей. Соответствующая картина на ментальной стороне относится к различению между сознательным и бессознательным домены. [18] В глубинных психологических концепциях Юнга эти две области связаны с возникновением сознательных психических состояний из бессознательное, аналогичное физическому измерению.
В глубинной психологии Юнга важно, чтобы бессознательное имеет коллективный компонент , не разделенный между отдельными лицами и населен так называемыми архетипами .Они расцениваются как составляющие психофизически нейтральный уровень, включающий как коллективное бессознательное и целостная реальность квантовой теории. В в то же время они действуют как «упорядочивающие факторы», будучи ответственность за устройство своего психического и физического проявления в эпистемически выделенных областях разума и иметь значение. Более подробную информацию об этой картине можно найти у Юнга и Паули. (1955), Мейер (2001), Атманшпахер и Примас (2009), Атманшпахер и Фах (2013 г.) и Атманшпахер и Фукс (2014 г.).
Эта схема явно связана с сценарий (Б) из сек. 2, сочетание эпистемически дуалистического с онтически монистическим подход. Соотношение между психическим и физическим воспринимается как некаузальное, тем самым соблюдая каузальное завершение физическое против ментального . Однако существует причинно-следственная отношения (в смысле формальной, а не действенной причинности) между психофизически нейтральным, монистическим уровнем и эпистемически различаются ментальная и материальная сферы.В В терминах Паули и Юнга этот вид причинности выражается упорядочиванием архетипов в коллективе без сознания.
Другими словами, этот сценарий предлагает возможность того, что психическое и материальные проявления могут наследовать взаимные соотношения благодаря тем, что они совместно вызываются психофизически нейтральными уровень. Можно сказать, что такие корреляции являются остатками, отражающими утраченный холизм лежащей в основе реальности. Это , а не . результатом любого прямого причинного взаимодействия между психическим и материальные домены.Таким образом, они , а не подходят для объяснение прямой эффективной ментальной причинности. Их существование потребует некоторой психофизически нейтральной деятельности влекущие за собой корреляционные эффекты, которые могут быть ошибочно истолкованы как психические причинность физических явлений. Независимо от квантовой теории, родственный ход был предложен Велмансом (2002, 2009). Но даже без ментальная причинность, сценарий (Б) имеет отношение к вездесущим корреляциям между сознательными психическими состояния и физические состояния мозга.
5.3 Дальнейшие разработки
В гипотезе Паули-Юнга эти корреляции называются синхронный и были расширены до психосоматических отношения (Мейер, 1975). Всеобъемлющая типология разума-материи корреляции, следующие из двойственности Паули и Юнга монизм был предложен Atmanspacher и Fach (2013). Они обнаружили, что большой объем эмпирического материала, касающегося более 2000 случаев так называемые «исключительные переживания» могут быть классифицированы по их отклонению от общепринятой модели реальности предмета и от конвенциональных отношений между его составляющими (подробности см. в Atmanspacher and Fach 2019).Синхронный события в смысле Паули и Юнга предстают как частный случай такого относительные отклонения.
Существенным условием, необходимым для синхронных корреляций, является то, что они значащие для тех, кто их испытывает. это заманчиво интерпретировать использование значения как попытку ввести семантическая информация как альтернатива синтаксической информации как адресовано выше. (Обратите внимание на параллель с активной информацией, как в подход Бома и Хейли.) Хотя это влечет за собой трудные проблемы относительно четкого определения и операционализации, что-то сродни смыслу, как явно, так и неявно, может быть релевантным информационная валюта для отношений между разумом и материей в рамках декомпозиционного двухаспектного мышления (Atmanspacher 2014).
Примас (2003, 2009, 2017) предложил двухаспектный подход, при котором Различие ментальной и материальной сфер происходит из различение двух разных режимов времени: напряженного (ментального) времени, включая настоящее, с одной стороны, и вненапряженное (физическое) время, рассматривается как внешний параметр, с другой (см. записи на время и дальше бытие и становление в современной физике). Рассматривая эти две концепции времени как подразумеваемые симметрией нарушение вневременного уровня реальности, который психофизически нейтрально, Примас понимает напряженное время ментальной сферы как квантово-коррелированные с параметром времени физики через «запутанность во времени».Этот сценарий был сформулирован в каркас гильбертова пространства с соответствующими операторами времени (Primas 2009, 2017), поэтому он предлагает формально разработанный двухаспектный квантовый основу для основных аспектов проблемы разум-материя. Это показывает некоторые сходятся с идеей временно нелокальных ментальных состояний как адресовано в Раздел 4.2.
Как указано в Раздел 3.2, подход Стаппа содержит элементы двухаспектного мышления, поскольку ну, хотя это не сильно подчеркивается его автором.То Двухаспектные квантовые подходы, обсуждаемые в настоящем разделе, имеют тенденцию сосредоточиться на проблеме обобщенного ума-материи «запутанности» больше, чем при редукции состояния. Основной цель здесь состоит в том, чтобы понять корреляции между психическим и материальным домены, а не прямые каузально действенные взаимодействия между их.
Последний вопрос о двухаспектных подходах в целом относится к проблема панпсихизма или панэкспериментализма соответственно (см. обзор Скрбина 2003, и запись на панпсихизм).В пределе нарушения универсальной симметрии в психофизически нейтральный уровень, каждая система имеет как ментальный и материальный аспект. В такой ситуации важно понимают «менталитет» гораздо шире, чем «сознание». Бессознательные или протоментальные акты противопоставляются сознательным психическим актам понятия, иногда используемые для подчеркните эту разницу. Особый случай человеческого сознания внутри ментальной области может рассматриваться как особая, поскольку ее материальные коррелировать, мозг, в материальной области.
6. Выводы
Историческая мотивация изучения квантовой теории в попытках понимать сознание, полученное из осознания того, что Квантовые события типа коллапса вносят элемент случайности, который первичен (онтик), а не из-за незнания или отсутствия информации (эпистемический). Подходы, такие как подходы Стаппа и Бека и Эклза подчеркивают это (по-разному), поскольку онтическая случайность считается, что квантовые события дают место для ментальной причинности, т.е.е., возможность того, что сознательные мыслительные действия могут влиять на мозг поведение. Подход Пенроуза и Хамероффа также фокусируется на коллапс, но со значительным переходом от ментальной каузальности к невычислимость (частных) сознательных актов.
Любое обсуждение государственного коллапса или сокращения штата (например, измерение) относится, по крайней мере неявно, к состояниям суперпозиции поскольку это состояния, которые редуцированы. Насколько запутался системы остаются в квантовой суперпозиции до тех пор, пока нет измерения произошло, запутывание всегда совместно адресуется, когда сокращение состояния обсуждается.Напротив, некоторые двухаспектные квантовые подходы использовать тему запутанности по-разному и независимо от сокращение штата в первую очередь. Вдохновленный и аналогичный нелокальные корреляции, вызванные запутанностью, в квантовой физике, запутанность разума и материи рассматривается как гипотетическое происхождение соотношения ума и материи. Это показывает весьма спекулятивную картину принципиально целостного, психофизически нейтрального уровня реальности из которых возникают коррелированные ментальные и материальные области.
Каждый из примеров, обсуждаемых в этом обзоре, имеет как многообещающие, так и проблемные аспекты. Подход Бека и Эклза наиболее детальный. и конкретны в отношении применения стандартных квантовых механизм процесса экзоцитоза. Однако это не решает проблема того, как активность одиночных синапсов входит в динамику нейронных сборок, и это оставляет ментальную причинность квантовых процессы как простое требование. Подход Стэппа предполагает радикально расширенная онтологическая основа как для ментальной области, так и для статус-кво квантовая теория как теория материи без существенного изменения формализм квантовой теории.Хотя это связано с вдохновляющим философской и какой-то психологической подоплеки, ему все же не хватает эмпирическое подтверждение. Предложение Пенроуза и Хамероффа превышает область современной квантовой теории и является наиболее спекулятивный пример среди обсуждаемых. Нелегко увидеть, как картина в целом может быть формально выработана и подвергнута эмпирическому анализу. контрольная работа.
Подход, инициированный Умэдзавой, встроен в структуру квантовая теория поля, более широко применимая и формально более сложнее, чем стандартная квантовая механика.Он используется для описания появление классической активности нейронных комплексов на основа нарушения симметрии в рамках теории квантового поля. Четкое концептуальное различие между состояниями мозга и психическими состояниями часто пропадал. Их отношение к психическим состояниям имеет недавно было указано в рамках двойного аспекта подход.
Двухаспектные подходы Паули и Юнга и Бома и Хейли концептуально более прозрачным и перспективным. Хотя есть теперь огромное количество эмпирически задокументированных корреляций между разумом и материей что поддерживает гипотезу Паули-Юнга, ему не хватает подробного формального основа до сих пор.Работа Хили предлагает алгебраическую основу, которая может привести к теоретическому прогрессу. Новое двухаспектное квантовое предложение Примасом, основанным на различии напряженного ментального времени и лишенное напряжения физическое время, знаменует собой значительный шаг вперед, особенно в том, что касается последовательной формальной структуры.
Может быть, лучший прогноз на будущий успех среди примеров описанное в этом обзоре, по крайней мере в обозримом масштабе времени, идет к исследованию ментальных квантовых свойств, не сосредотачиваясь на связанная мозговая деятельность для начала.ряд соответствующих были разработаны подходы, которые включают конкретные модели для конкретных ситуациях и привели к успешным эмпирическим проверкам и дальнейшие прогнозы. С другой стороны, последовательная теория, стоящая за отдельные модели и связывание различных типов подходов. еще предстоит решить в деталях. Что касается научной практики, то особенно многообещающим аспектом является видимое формирование научной сообщество с конференциями, взаимным сотрудничеством и некоторыми очевидное привлечение молодых ученых к работе.
Природа сознания
Природа сознания То Природа СознанияВозврат на индексную страницу
Пожалуй, нет более неприятной проблемы как для философов, так и для ученых, чем описание природы сознания. Рефлективная природа сознания, его способность рассматривать себя, обеспечивать ощущение бытия, привело некоторых философов предположить, что оно характеризует самую суть того, что значит быть человек.Или, говоря словами Декарта: 90 522.
- Cogito ergo sum
- Каждая мысль имеет тенденцию быть частью личного сознания.
- Внутри каждого личного сознания мысль постоянно меняется.
- В каждом личном сознании мысль чувственно непрерывный.
- Всегда кажется, что он имеет дело с объектами, независимыми от сам.
- Заинтересованы в некоторых частях этих объектов до исключения других и приветствует или отвергает выбирает среди них, в слово все время.
- Ощущение себя как сущности. Я не только вижу красный, я знаю, что это я, доктор Фред, вижу красный. Здесь сознание определяется как построение внутренней репрезентации мира, включающей себя.Именно в этом смысле этот термин чаще всего используется в академических целях учеными-когнитивистами.
- При таком определении когнитивная наука обеспечивает довольно хорошее объяснение природы сознания с точки зрения внутреннего представление о себе, включая самоконтроль. Далее, это учетная запись легко моделируется в компьютерных программах, которые могут проверять, сообщать и изменять себя на основе доступной информации.
- Это определение сознания относится к способности вербализировать чувственный опыт, содержание памяти и мышления. Примерно эквивалентно тому, что мы называем осознанием, или тому, что ученые-когнитивисты вызов кратковременной памяти
- Совершенно очевидно, что нервная система имеет два источника информации. система использует для обработки информации ту, которая немедленно доступна к системам, которые лежат в основе вербальных отчетов, рационального мышления и принятия решений создание и то, чего нет.Некоторая информация в последнем никогда не доступны, такие как функции вегетативной нервной системы и расчеты которые нервная система использует при обработке (например, использование информации о несоответствии сетчатки в обеспечении ощущения визуальной глубины). Другая информация, доступная не сразу, может стать осознанной и База данных знаний Visa Versaone и долговременная память являются примерами последнего.
- Любой обработчик информации должен иметь ограниченный доступ потому что у информации есть как издержки, так и выгоды (пространство или объем памяти, время, ресурсы).
- Есть четыре очень очевидных возможности доступа к сознанию:
- Мы осознаем богатое поле ощущений и далее, содержание этого осознания находится на промежуточном уровне интеграции. не знают о происходящей обработке более низкого уровня. Объекты приходят к нам уже интегрированными как значимые сущности с некоторыми перцептивными постоянство (например, уголь на солнце, снежок в помещении). То, что мы воспринимаем, — это высоко обработанный продукт — сцена в видении, мелодия. на слух, осмысленные слова на языке, а не блики или последовательности высоты звука.
- Второй особенностью является внимание. количество информации, которое мы можем обработать в любой момент времени. Внимание подобно прожектору, который доводит до сознания определенную информацию. Интересно, что, поскольку мозг является устройством параллельной обработки, обработка может происходить и происходит вне сознания.Многие квалифицированные задачи теперь вы выполняете автоматически, не «думая», что изначально требовалось очень сосредоточенное внимание. (Вождение автомобиля, игра на клавиатуре, езда на велосипеде чтобы назвать несколько.)
- В-третьих, содержание доступа к сознанию эмоционально цветной. Этот факт свидетельствует о функциональной эволюции сознания. развивался с какой-то целью. Мотивация и эмоции — это движущийся двигатель организм к какому-либо концу. Разум и сознание не пришли потому что они были изящными вещами, а скорее потому, что они способствовали выживанию и, следовательно, размножению организма.
- Наконец, сознание доступа имеет исполнительную функцию который принимает решения и делает выбор — то, что мы ощущаем как себя, воля, «я». Исполнитель демонстрирует намерение (в философском чувство) в управлении телом, чувствами, умом и т. д.
- Это чувство сознания больше всего используется философами и богословыфеноменальное осознание, субъективный опытчувство находясь в мире.Ощущение «я есть».
- Это чувство сознания, которое наука о познании, или любая наука, имеет трудности с объяснением. Но требует ли объяснение?
- Pinker (1998), в разделе заданного чтения на сознание, предполагает (особенно в вопросах, которые он ставит в этом раздел), что чувствительность является эмерджентным свойством обработки информации. система.
- Он цитирует работы Деннета и других функционалистов. которые считают, что как только мы изолируем вычислительную и неврологическую корреляты доступа к сознанию, объяснять уже нечего. В этом контексте чувствительность рассматривается как «эпифономен», побочный эффект. систем обработки информации, объединяющихся для создания сознания доступа. Хотя описание разума может быть интересным философским упражнение, оно не добавляет и не умаляет нашего понимания того, как ум работает
Этот смысл фиксирует только один
ряда значений, которые стали характеризовать сознание в
современные времена. Современные психологические взгляды на сознание берут свое начало
в классической работе Уильяма Джеймса, Принципы психологии (1890).
Большинство качеств, которые он приписывает, легко обнаруживаются путем самоанализа.
несколько недифференцированный взгляд на сознание по сравнению с более современным
Счета.Они представлены ниже:
Одна из проблем с
современных счетов состоит в том, что сознание определяется в терминах числа
различных видов деятельности ума. Философский, информационный теоретик,
и нейробиологические подходы часто используют сознание для обозначения различных
вещи. Просто обратите внимание на разницу между использованием «сознательного» для обозначения
бодрствовать (не в коматозном состоянии), осознавать (я ощущал действительно странное
запах в комнате), какое-то экзистенциальное состояние (я вдруг
смысла моей жизни и моего места во Вселенной).Пинкер (1998),
определил эти различные варианты использования в How the Mind Works и
также относительный успех научных объяснений этих обычаев.
Он предлагает по крайней мере три способа использования термина «сознание»:
1. Самопознание
Пытаясь ответить на вопросы, которые он задает в
раздел о чувствах — это ценное упражнение, которое поможет вам отточить
собственное понимание и взгляды на эти вопросы.Удачи!!
Вернуться к началу
Немного истории помогает понять, почему мы изучаем сознание именно так, как мы это делаем сегодня
Abstract
Сознание в настоящее время является бурно развивающейся областью исследований в области психологии и неврологии. Хотя это часто связывают с событиями, имевшими место в начале 1990-х годов, современные исследования сознания являются продолжением исследований, начатых в конце 19 века и продолжавшихся на протяжении всего 20 века.С самого начала усилия были основаны на исследованиях животных, чтобы выявить основные принципы организации и функционирования мозга, и на пациентах-людях, чтобы получить представление о самом сознании. Особенно важны и в центре нашего внимания исследования 1950-х, 1960-х и 1970-х годов с участием трех групп пациентов — с амнезией, расщепленным мозгом и слепозрением. Во всех трех группах была обнаружена аналогичная картина результатов: пациенты могли адекватно реагировать на стимулы, которые они отрицали (или, в случае амнезиаков, видели раньше).Эти исследования проложили путь современной волне исследований сознания. На самом деле эта область все еще борется с последствиями открытий, показывающих, что способность сознательно узнавать и сообщать об идентичности визуального стимула может быть отделена в мозге от механизмов, лежащих в основе способности осмысленно вести себя. тот же стимул.
Выяснение того, как наш мозг формирует наш сознательный опыт, является одной из самых интересных и сложных научных тем на сегодняшний день.Выяснение задействованных механизмов имеет решающее значение для более глубокого понимания человеческой природы и проблем, с которыми мы сталкиваемся как отдельные личности и общества. Знание истории текущих проблем сознания дает нам больше возможностей для достижения научного прогресса в этой теме.
Несмотря на центральное значение сознания для психической жизни человека, научная психология имеет с ним сложные отношения (1⇓–3). Многие ранние психологи были интроспекционистами и ценили сознание.Позже бихевиористы запретили его использование в поле. Когнитивисты, свергнув бихевиоризм, сосредоточились на обработке информации, а не на субъективном опыте, удерживая сознание в пределах досягаемости, но редко касаясь его.
Сегодня научное изучение сознания является активной областью исследований в психологии и неврологии. Влиятельные статьи Фрэнсиса Крика и Кристофа Коха в начале 1990-х годов (4⇓–6) часто приписывают спровоцированию такого поворота событий (7⇓⇓–10). В частности, им приписывают определение эмпирического подхода к сознанию: сосредоточив внимание на визуальном восприятии, можно добиться прогресса в отношении сознания, поскольку о зрительной системе мозга известно так много.*
Работы Крика и Коха были действительно важны для стимулирования энтузиазма в отношении исследований сознания и мозга в основной психологии и неврологии. Однако вряд ли это было началом научного интереса и исследований сознания. В 1960-х и 1970-х годах исследования пациентов с расщепленным мозгом, слепым зрением и амнезией заложили концептуальные основы для последующей работы над сознанием. Следует отметить тот факт, что даже тогда большая часть этой работы была сосредоточена на зрительном сознании из-за прогресса, достигнутого в понимании зрительной системы (13, 14).Кроме того, сознание и мозг были предметом ряда научных конференций, начиная с 1950-х годов, на которых присутствовали ведущие исследователи в области психологии и науки о мозге (15⇓–17). Кроме того, теории о том, что такое сознание и как оно связано с мозгом, были предложены рядом выдающихся исследователей задолго до 1990-х годов, в том числе Карлом Лэшли (18⇓–20), Уайлдером Пенфилдом (21), Дональдом Хеббом (22, 23). , Роджер Сперри (24⇓⇓–27), сэр Джон Экклс (28), Джордж Миллер (29), Лорд Брейн (30), Майкл Газзанига (31), Леон Фестингер и его коллеги (32), Джордж Мэндлер (33), Тим Шаллис (34 года) и Майкл Познер с коллегами (35 лет) среди прочих.
Наша цель в этой статье состоит в том, чтобы представить исторический обзор некоторых ключевых результатов исследований и теорий о сознании, которые были омрачены более поздней историей. Основное внимание будет уделяться сознанию как субъективному опыту, а не другим значениям, таким как способность бодрствовать и реагировать на внешние раздражители.
Основы исследований сознания в конце 19-го и начале 20-го веков
Хотя наше внимание будет сосредоточено на середине 20-го века, этот период должен быть контекстуализирован тем фактом, что исследования мозга и сознания, как и многие другие темы в психологии и наука о мозге началась в конце 19 века.Это было время, когда психологические вопросы определялись философским пониманием разума, который часто отождествлялся с сознанием. В результате исследования мозга и поведения естественным образом учитывали роль сознания в управлении поведением мозга.
Как и сегодня, эти ранние исследователи изучали эффекты хирургической абляции или электрической стимуляции областей мозга (1, 36). Несколько исследований показали, что декортикированные животные могут проявлять высокую степень поведенческой гибкости (37, 38).Эти наблюдения привели к спорам о том, были ли поведенческие реакции декортикированных животных обусловлены бессознательной чувствительностью или сознательными ощущениями, и было ли необходимо наличие коры головного мозга для осознанных переживаний (36).
Основные аргументы в пользу того, что кора головного мозга необходима для сознания, были получены в новаторских исследованиях электрической стимуляции Дэвида Ферье (39). В основном он известен своими работами по стимуляции моторной коры животных.Но Феррье (39) также продемонстрировал, что стимуляция теменных и височных долей заставляет животных вести себя так, как если бы они имели зрительные, тактильные, слуховые или обонятельные ощущения, в то время как стимуляция подкорковых сенсорных областей, включая зрительный бугор, этого не делала. Ferrier (39) пришел к выводу, что активности в коре головного мозга может быть достаточно для возникновения сознательных переживаний, в то время как подкорковые процессы бессознательно контролируют сложное поведение (36).
Ферье считал необходимым изучать сознание у людей, предупреждая, что исследователи не могут полагаться только на поведенческие проявления животных: «Жалобный крик, вызываемый ущипыванием кролика за лапу, может быть просто рефлекторным явлением, не зависящим от какой-либо истинной чувство боли» (39).Напротив, исследования людей могут использовать вербальные отчеты для оценки «осознанности впечатлений» (39).
Наблюдения за неврологическими пациентами действительно начали формировать представление о сознании в это время. Наиболее влиятельной работой в этой области была, пожалуй, работа друга и наставника Феррье, Джона Хьюлингса Джексона, который заметил, что эпилептические припадки, возникающие в фокальных областях мозга, иногда сопровождаются изменениями в сознательном опыте (40). Он предположил, что сознание является высшим уровнем мозговой организации и что разум включает взаимодействие между сознательными и бессознательными процессами (41).Значение Феррье и Хьюлингса Джексона в конце XIX века невозможно переоценить. Они сильно повлияли на следующее поколение исследователей, которые будут изучать сознание, а также повлияли на работы Зигмунда Фрейда о сознании и бессознательном.
Одновременно в Германии в конце 19 века как научная дисциплина зарождалась и область экспериментальной психологии, в которой философские вопросы о разуме, особенно о сознании, стали решаться в лабораторных исследованиях с использованием экспериментальных методов физиологии. .Исследования Феррье и его современников сыграли решающую роль в этом развитии. Важна также работа Густава Фехнера, который ввел психофизические методы для строгой связи физических свойств раздражителей с психологическими переживаниями. Следует также отметить Германа фон Гельмгольца, который работал над физиологией ощущений и предложил идею о том, что сознательное восприятие включает в себя бессознательные выводы, предвосхищая идею о том, что сознание зависит от бессознательной обработки.В то время как эти исследователи работали над психологическими темами, первым исследователем, официально признанным экспериментальным психологом, был немецкий ученый Вильгельм Вундт (1). В Соединенных Штатах на эту честь претендовал Уильям Джеймс.
Сознание было главной заботой этих различных исследователей 19-го века. Однако он также стал использоваться безвозмездно для описания человеческого поведения (1). К началу 20 века часто просто предполагалось, что сознание лежит в основе поведения. Этот момент подчеркивается растущим влиянием взглядов Зигмунда Фрейда на бессознательные аспекты разума (42).
Несколько отдельно дарвиновская теория эволюции способствовала волне межвидовых исследований поведения в конце 19-го и начале 20-го веков (43). Хотя Феррье предупреждал об опасностях приписывания психических состояний нечеловеческим видам, последователи Дарвина, как и сам Дарвин, с готовностью использовали человеческие эмоции и другие сознательные психические состояния для объяснения поведения животных (43, 44).
В ответ на эксцессы интерпретации человеческой психологии и необузданный антропоморфизм в психологии животных Джон Уотсон (45) в 1913 г. предложил, чтобы научная психология основывалась на наблюдаемых событиях (стимулах и реакциях), а не на предположениях о психических состояниях.Результатом стало бихевиористское движение, которое по существу запретило субъективный опыт из области экспериментальной психологии на протяжении большей части первой половины 20-го века.
Тем временем медицинские науки работали вне сферы интересов академической психологии и не подвергались ограничениям бихевиористов. Например, физиолог Чарльз Шеррингтон (46) продолжил работу по стимуляции животных по стопам Феррье. Он считается отцом современной нейрофизиологии и особенно известен своими работами по спинномозговым рефлексам (46).Однако для нашей истории особое значение имеет то, что он писал о сознании и обучал Уайлдера Пенфилда.
В 1930-х и 1940-х годах Пенфилд (47 лет) провел новаторские исследования сознания у людей. Он применял электрическую стимуляцию к мозгу бодрствующих пациентов с эпилепсией с целью локализации ключевых областей, связанных с речью, и думал, что этих областей можно избежать, когда он впоследствии хирургическим путем удалил области с судорожной активностью (47). В то время как Феррье и Шеррингтон могли только строить догадки о том, вызывается ли сознательный опыт электрической стимуляцией областей коры головного мозга у обезьян, Пенфилд и его коллеги (47, 48) смогли получить от пациентов словесные отчеты об их субъективных переживаниях.Его работа предоставила убедительные доказательства роли коры головного мозга в сознательных переживаниях (49).
Таким образом, исследования 19-го века положили начало нескольким темам, которые актуальны и сегодня: разум имеет сознательные и бессознательные аспекты, сознательный опыт зависит от бессознательных процессов, а кора головного мозга играет ключевую роль в сознании.
Новый подход к изучению мозга и поведения
Стандартные подходы, применяемые сегодня в исследованиях мозга и поведения, берут свое начало в работах Карла Спенсера Лэшли (50).Он защитил докторскую диссертацию в 1914 году, работая над поведением беспозвоночного организма, гидры, в Университете Джона Хопкинса. Там он познакомился с Джоном Уотсоном, который опубликовал свое первоначальное заявление о бихевиоризме (45) во время учебы Лэшли в Хопкинсе.
Через Уотсона Лэшли познакомился с работой пастыря Айвори Франца (51 год), первого исследователя, который использовал новые методы бихевиоризма в сочетании с поражениями головного мозга для изучения мозговых механизмов поведения. Он разработал поведенческие задачи для проверки определенных функций мозга, чтобы выявить последствия повреждения мозга, которые не были очевидны при простом наблюдении.Лэшли использовал этот подход в своих знаковых исследованиях, направленных на поиск «инграммы», механизма хранения памяти (52⇓–54). Хотя Лэшли и Уотсон оставались друзьями на протяжении многих лет, они расходились во мнениях по одному важному вопросу. В 1923 г., когда бихевиоризм только зарождался, Лэшли опубликовал статью, в которой упрекал бихевиористов за их жесткие взгляды на сознание (20).
Подход Франца/Лэшли к изучению мозга и поведения получил название, когда Лешли использовал термин «нейропсихология» в лекции 1936 года в Бостонском обществе психиатрии и неврологии (55).В последующие годы область нейропсихологии процветала с использованием подхода Франца/Лэшли в моделях на животных, а также в исследованиях пациентов с естественными поражениями от неврологических заболеваний или хирургических повреждений, сделанных с целью лечения неврологических проблем. Многие из ключевых фигур в научной истории исследований мозга и поведения в 20-м веке, включая многих исследователей, которых мы обсудим ниже, представлены в генеалогическом древе Лэшли † (дополнительную информацию см. в SI Приложение , Вставка 1).
В 1950-х годах, когда когнитивная наука начала заменять бихевиоризм, Лэшли (54) опубликовал важную статью, в которой подчеркивалось, как сознание возникает из бессознательной обработки информации. Эта идея перекликалась с Феррье и Гельмгольцем и была основополагающей в ранней когнитивной науке (2, 29, 56), а также стала основополагающим предположением в более поздней истории исследований сознания, которые мы рассматриваем ниже.
Нейропсихология животных проложила путь
Нейропсихологические исследования на животных представляют интерес для нашего обсуждения сознания не потому, что они обязательно открыли что-то о сознании как таковом.Напротив, эта работа была важна, потому что она обеспечила нейроанатомическую и концептуальную основу, которая определяла дизайн и интерпретацию исследований пациентов-людей.
Важнейшим институтом нейропсихологических исследований на животных в 1940-х годах был Центр приматов Йеркса во Флориде, которым руководил Лэшли. Исследователи были обучены подходу Франца/Лэшли и использовали определенные поведенческие задачи для проверки определенных функций мозга. Когда нейрохирург Карл Прибрам занял пост директора Yerkes вскоре после окончания Второй мировой войны, он продолжил поведенческий подход, установленный Лэшли, но с дополнительной нейрохирургической изощренностью. ‡ Область нейропсихологии животных процветала во время десятилетнего правления Прибрама в Йеркесе. Молодые исследователи, которым суждено было стать лицом этой области, отточили свои научные навыки в Йерксе под руководством Прибрама.
Основным методом, использовавшимся в то время, было хирургическое размещение поражений, и группа Yerkes изучала последствия поражений во всех основных долях коры головного мозга, а также в подкорковых областях, таких как миндалевидное тело. В традициях Лэшли животных изучали с помощью специальных поведенческих задач, предназначенных для проверки гипотез о работе мозга.Хотя было сделано много важных открытий, для наших целей следует отметить исследования, которые прояснили, какие области височной доли способствуют различным аспектам синдрома Клювера-Бьюси.
Генрих Клювер и Пол Бьюси опубликовали основополагающую статью в 1937 году (57, 58). Клювер интересовался мозговыми механизмами, лежащими в основе галлюцинаций, вызванных мескалином. Он заметил, что обезьяны, получавшие мескалин, часто причмокивали губами — симптом, который возникает, когда у людей с височной эпилепсией возникают припадки и сообщают о галлюцинациях (59).Бьюси, человек-нейрохирург, был нанят для получения повреждений височной доли у обезьян. Было обнаружено, что животные демонстрируют ряд поразительных поведенческих изменений, включая повышенную робость, гипероральность и гиперсексуальность. Клювер и Бьюси назвали это состояние «психической слепотой». Животные не ослепли, но зрительные раздражители потеряли свое значение — змеи и люди перестали им угрожать; они пытались есть предметы, ранее известные как несъедобные, и пытались заниматься сексом с другими видами.Хотя о подобных выводах сообщалось намного раньше (60), как мы увидим, статья Клювера и Бьюси оказала огромное влияние на формирование исследований мозга и поведения, которые последовали за Второй мировой войной в Соединенных Штатах, где фундаментальная наука была приостановлена. во время военных действий.
Феномен психической слепоты или то, что неврологи называют «зрительной агнозией», был предметом большой работы в Йерксе. Это было достигнуто с помощью обучения визуальной дискриминации для создания стимулов со сложным визуальным значением.Исследования Мортимера Мишкина и его коллег (13, 61, 62) выявили дефицит таких задач после повреждения подобластей височной доли. В частности, повреждение либо латеральной височной доли (которая связана со зрительной корой), либо вентральной височной доли (которая связана с гиппокампом) ухудшает поведенческие характеристики. Одним из следствий было то, что сложная визуальная обработка стала пониматься как простирающаяся за пределы затылочной доли в височную долю. Кроме того, поскольку задачи зависели от обучения и памяти, работа стала особенно важной для понимания того, как воспоминания формируются и хранятся в мозгу, особенно через гиппокамп, как обсуждается ниже.
Другая работа Мисхина и его коллег (63⇓⇓–66) вовлекала определенные области префронтальной коры в задачи, которые нагружают кратковременную память или то, что сейчас называется «рабочей памятью» (67, 68). Основываясь на этом исследовании, более поздние поведенческие исследования префронтальной коры у обезьян послужили основой для понимания роли префронтальной коры в рабочей памяти человека (69⇓–71). Это важно здесь, потому что, начиная с 1970-х годов, многие исследователи отождествляли сознание с содержимым системы кратковременной памяти (33, 35, 72) или с доступностью информации для исполнительных систем планирования (73).Рабочая память и префронтальная кора по-прежнему занимают центральное место в когнитивных теориях сознания (74⇓⇓⇓–78).
Мишкин возглавил лабораторию нейропсихологии в Национальном институте психического здоровья, где продолжал заниматься вопросами, поднятыми синдромом Клювера-Бьюси. В частности, он и его коллеги исследовали роль височной доли в восприятии, памяти и аффективной/эмоциональной обработке (79⇓⇓–82). Различие между вентральным и дорсальным потоками зрительной обработки, имеющее решающее значение для современных исследований сознания, было выявлено в его лаборатории (79), как и ключевая роль периринальной коры как связующего звена между зрительной корой и гиппокампом в формировании памяти (81). ).
Ларри Вейскранц, еще один член группы Прибрама, также работал над височной долей и зрительной памятью (62), а также над важностью миндалевидного тела в аффективных аспектах синдрома Клювера-Бьюси (83). Из Йеркса Вейскранц перебрался в Кембридж, а затем стал заведующим кафедрой экспериментальной психологии в Оксфорде. Одной из тем, которой он занимался после переезда в Англию, был вклад областей коры в память (84). Тем не менее, направление его карьеры было определено его работой о слепом зрении (85), явлении, которое занимает центральное место в текущих дебатах о природе сознания у людей.
Здесь было упомянуто лишь несколько примеров результатов и последствий исследований, проведенных в лаборатории Йеркса в 1950-х годах, но трудно переоценить важность этой группы. Эти исследователи подготовили почву для многих будущих исследований мозговых механизмов восприятия, памяти, эмоций и высшего познания, а также сознания.
Нейропсихологические исследования человека сделали сознание основным направлением психологии и неврологии
Нейропсихологические исследования пациентов позволили получить новое представление о мозге и поведении, включая отношение сознания к мозгу.Особенно важными были исследования трех групп пациентов (78), которым мы уделим внимание ниже. Это были пациенты с амнезией (у которых естественные или хирургические повреждения медиальной части височной доли нарушили способность формировать и вспоминать новые воспоминания), пациенты с расщепленным мозгом (у которых два полушария были хирургически разделены, чтобы уменьшить воздействие трудноизлечимой эпилепсии), и слепозрящие пациенты (у которых повреждение зрительной коры вызывало кажущуюся слепоту в поле зрения, противоположном очагу поражения).Во всех трех группах результаты продемонстрировали поразительную диссоциацию между тем, что пациенты могли делать в поведении, и тем, что они могли сознательно сообщить. Другие группы пациентов (кома, геминиглект, афазия, прозопагнозия и дислексия) также демонстрировали диссоциацию между эксплицитным знанием и поведением, что способствовало возникновению интереса к сознанию ( SI Приложение , вставка 2) (86). Однако здесь основное внимание уделяется пациентам с амнезией, расщепленным мозгом и слеповидящими из-за их широкого влияния на эту область.
Амнезия.
На протяжении большей части первой половины 20-го века преобладало мнение, что память широко распространена в мозге, а не локализована в определенной области. Это было частично основано на работе Лэшли, предполагавшей, что память больше зависит от количества поврежденной ткани коры, чем от места повреждения, при этом разные области являются «эквипотенциальными» в своей способности хранить воспоминания (52, 54). Приливы изменились в 1950-х годах.
Главной фигурой в этих кардинальных переменах была Бренда Милнер, аспирант Университета Макгилла.Особенно ее интересовала память и интеллектуальные функции височной доли, но ее работа оказалась особенно важной для понимания отношения памяти к сознанию. Милнер работала над докторской диссертацией под руководством известного психолога Дональда Хебба, который обучался у Лэшли и много писал о памяти и поведении, а также о сознании (22, 23). Милнеру было известно об упомянутых выше исследованиях стимуляции, проведенных Пенфилдом, заведующим отделением нейрохирургии в McGill.Хебб был в долгу перед Пенфилдом, у которого было несколько пациентов с удалением височной доли, поскольку это основная область эпилепсии, и Пенфилд согласился позволить Милнеру изучить их. § Она проверила 45 пациентов с повреждением височной доли на заданиях, оценивающих когнитивные функции, но в основном сосредоточилась на влиянии таких поражений на обучение, особенно зрительное обучение и память.
Ее диссертация, опубликованная в 1954 г. (87), началась с подробного обзора того, что было известно о функциях височной доли из исследований на обезьянах, и особенно о влиянии поражений височной доли на зрительное обучение, поскольку это казалось особенно актуальным. к зрительной памяти человека.Милнер в значительной степени полагался на работу Мортимера Мишкина (88), который изучал визуальное различение обезьян в McGill для получения докторской степени, прежде чем присоединиться к Pribram в Yerkes. Хотя Мишкин обнаружил, что глубокие поражения височной доли с участием гиппокампа нарушают работоспособность, он интерпретировал этот эффект как вызванный повреждением проводящих путей нервных волокон, проходящих через височную долю (88).
В своих исследованиях пациентов Пенфилда Милнер использовала различные тесты. Из этого она сделала вывод, что, как и у обезьян, височная доля играет ключевую роль в зрительном обучении у людей.После выпуска она осталась в McGill и продолжила исследование психологических функций височной доли. Однако ее самое важное открытие было сделано не на пациентах Пенфилда, а на пациенте, которого Уильям Сковилл оперировал в Хартфорде, Коннектикут (89). Это был пациент Х.М., исследования которого произвели революцию в исследованиях памяти (90).
Первоначальные исследования HM интерпретировались с точки зрения общего дефицита памяти, так называемой глобальной амнезии. Однако более поздняя работа Милнера (91) и Сюзанны Коркин (92) определила, что ХМ и другие пациенты с амнезией сохраняли способность учиться и запоминать, как выполнять моторные навыки (например, рисовать объекты, глядя на их перевернутое отражение в зеркале). .Со временем были идентифицированы другие примеры сохранной памяти, и стало ясно, что, помимо двигательных навыков, пациенты также могут приобретать когнитивные навыки (93), могут формировать поведенческие привычки и могут вырабатывать павловские условные реакции (94). Экстраполируя эти данные, Ларри Сквайр и Нил Коэн (93) в 1980 г. предположили, что дефицит памяти, вызванный повреждением височной доли, ограничивается декларативной памятью, памятью, которую можно пережить сознательно. Например, хотя пациенты могли выучить двигательные навыки и пройти тренировку, они не могли сознательно вспомнить, что недавно приобрели навык или были тренированы.Сознательную память стали называть «декларативной» или «эксплицитной», а бессознательную память стали называть «процедурной» или «имплицитной» (95, 96). Сама эксплицитная память была разделена на два подтипа: эпизодическую и семантическую (97).
HM и другие пациенты с проблемами, связанными с явной памятью, имели повреждения, которые включали относительно большую область височной доли. Исследования на животных могут быть более точными в нацеливании на конкретные подобласти, участвующие в эксплицитной памяти; эти области стали известны как «система памяти медиальной височной доли» (98).Например, исследования Мишкина и Мюррея (99) и Сквайра и Зола-Моргана (98) показали, что гиппокамп, энторинальная кора, парагиппокампальная область и перихринальная кора вносят свой вклад в хранение новых воспоминаний. Благодаря этим знаниям стало возможным найти отдельные случаи, подтверждающие вклад различных областей в различные аспекты сознательно доступной памяти у людей (100, 101).
Тенденция последних лет заключается в признании того, что префронтальная кора играет важную роль в извлечении явных воспоминаний, включая сознательный опыт извлеченных воспоминаний (102⇓⇓–105).Другая недавняя тенденция сосредоточилась на том, как явные воспоминания используются для создания сознательных симуляций будущего и других гипотетических переживаний (106, 107). Как мы увидим, данные всех трех групп пациентов намекают на роль префронтальной коры в сознательном опыте
Синдром расщепленного мозга.
Хирургия расщепления головного мозга включает в себя хирургическое рассечение мозолистого тела и других меньших церебральных спаек с целью облегчения неизлечимой эпилепсии. Эти пути состоят из аксонов, которые соединяют соответствующие области в двух полушариях.Заметив сообщения о том, что после восстановления после операции такие пациенты отличаются отсутствием заметных эффектов процедуры, Роджер Сперри, исследователь мозга из Калифорнийского технологического института, задался вопросом о фактической функции мозолистой оболочки. Он инициировал серию исследований на кошках и обезьянах, чтобы попытаться разгадать эту загадку, которую он назвал «одной из самых интригующих и сложных загадок функционирования мозга» (108).
Исследования Сперри на животных с операциями на расщепленном мозге подтвердили клиническое впечатление от людей.Таким образом, после повреждения мозолистого тела животные с расщепленным мозгом выглядели довольно обычными. По традиции Лэшли, его наставник в Йеркесе, Сперри (108) и его коллеги разработали специальные экспериментальные задачи, чтобы пролить свет на функцию мозолистого тела и других спаек.
В этих исследованиях, помимо рассечения различных комиссур, перекрест зрительных нервов также был рассечен, чтобы ограничить поток зрительной информации от каждого глаза к противоположному полушарию. В качестве первого шага животные научились реагировать на подкрепление.На этом этапе тренировались и тестировались один глаз и полушарие. Впоследствии окклюзия была переключена на другой глаз для оценки другого полушария. Животные, которым вводили только участок перекреста зрительных нервов, показали хорошие результаты с каждым глазом. Однако, когда комиссуры также были рассечены, нетренированный глаз и полушарие не могли работать. Тем не менее то же самое полушарие затем без труда изучило задачу самостоятельно. Таким образом, обучение обычно осуществляется обоими полушариями, но когда спайки перерезаны, нетренированное полушарие не может получить доступ к памяти.Многие варианты этих исследований были выполнены в лаборатории Сперри (31, 108, 109).
В начале 1960-х годов Сперри начал сотрудничать с Джозефом Богеном, нейрохирургом из Лос-Анджелеса, который проводил операции по расщеплению мозга у людей с трудноизлечимой эпилепсией. Пациентов изучал Майкл Газзанига, аспирант лаборатории Сперри (31, 110). Поскольку зрительный перекрест не был частью этой операции, Газзанига должен был найти какой-то другой способ ограничить визуальные стимулы одним полушарием.Учитывая, что визуальная информация в правом поле зрения отправляется в левое полушарие, а визуальная информация в левом поле зрения отправляется в правое полушарие, он мог проецировать стимулы на экран и ограничивать полушарие, получающее входные данные, до тех пор, пока глаза были стационарными. Чтобы движения глаз не действовали, стимулы предъявлялись кратковременно (около 250 мс). Он также разработал специальные тесты, адаптированные к особым свойствам человеческого мозга и, в частности, к проблемам, возникающим в результате латерализации функций.
Например, у большинства людей способность говорить и понимать устную и письменную речь локализована в левом полушарии. Таким образом, люди с типичным мозгом могут называть обычные объекты, которые появляются либо в левом, либо в правом поле зрения, потому что зрительная информация, достигающая зрительной коры в одном полушарии, передается в ту же область в другом полушарии через мозолистое тело. В то время как пациенты с расщепленным мозгом могут давать вербальные отчеты об информации, представленной правому полю зрения и, следовательно, левому полушарию, они не могут называть стимулы в левой половине зрительного пространства, которые, таким образом, видит правое полушарие.Однако они могут невербально реагировать на стимулы, видимые правым полушарием, указывая на предметы или хватая их левой рукой, которая преимущественно связана с правым полушарием. Точно так же с завязанными глазами эти испытуемые могут называть предметы, находящиеся в их правой руке (предпочтительно связанные с левым полушарием), но не предметы, находящиеся в левой руке.
Хотя правое полушарие пациентов с расщепленным мозгом не могло вербально сообщать о своем внутреннем состоянии, оно, тем не менее, могло реагировать невербально (например, указывая пальцем), чтобы показать, что оно осмысленно обрабатывало визуальные стимулы.Это привело к идее, что после операции по расщеплению мозга каждое полушарие имеет не только отдельные способности контроля поведения, но, возможно, и отдельные психические системы — два сознательных существа. Возможность существования двух разумов, по одному в каждом полушарии, обсуждалась в научной и популярной литературе (111⇓⇓–114). Однако степень возможного мышления в правом полушарии было трудно проверить из-за отсутствия его способности давать вербальный отчет.
В начале 1970-х Газзанига (115⇓⇓⇓–119) начал исследования новой группы пациентов, прооперированных в Дартмуте.Многие основные выводы об изоляции восприятия, памяти и познания в двух полушариях подтвердились (115⇓⇓⇓–119). Один из этих пациентов (называемый PS) представил, возможно, первое убедительное доказательство того, что у пациентов с расщепленным мозгом может существовать двойное сознание. Этот пациент мог читать обоими полушариями, но говорить мог только левым (115, 120). Хотя правое полушарие не могло говорить, оно могло вербально отвечать на визуальные вопросы в левом поле зрения, используя левую руку для выбора букв Эрудита.На вопрос «Кто ты?» левая рука написала его имя «Пол». Также на вопрос о желаемой профессии левая рука написала «автогонщик». Это представляло особый интерес, поскольку левое полушарие говорило «рисовальщик» на словесно поставленный вопрос. Несмотря на то, что они не могли общаться, два полушария разделяли личную идентичность (Пол), но имели разные жизненные амбиции.
Результаты показали, что изолированное правое полушарие может иметь отдельное сознательное осознание себя и видение будущего.Более обширные исследования, проведенные Gazzaniga (116, 118) и коллегами последующих пациентов, особенно JW, также подтвердили идею двойной психической системы. Ключевой нерешенный вопрос заключается в том, все ли пациенты с расщепленным мозгом имеют двойное сознание или у некоторых патология головного мозга приводит к некоторой компенсаторной реорганизации и изменению того, что может делать правое полушарие ( SI Приложение , вставка 3).
Другим важным результатом этой работы было предположение о том, какую роль может играть сознание в нашей ментальной экономике (78, 115⇓⇓⇓–119, 121, 122).С точки зрения левого полушария ответы, исходящие из правого полушария, генерируются бессознательно. Исследования с участием пациентов, которые могли читать через правое полушарие, были разработаны для выявления поведенческих реакций путем подачи визуальных вербальных команд в левое поле зрения. Затем экспериментатор спросил вслух: «Зачем вы это сделали». Затем пациент ответил устным ответом через левое полушарие. Левое полушарие обычно принимало вещи спокойно, рассказывая историю, которая делала ответы понятными.Например, когда правому полушарию давали команду «встать», он (его левое полушарие) объяснял свое действие словами: «О, мне нужно было потянуться». Очевидно, это была чистая болтовня, поскольку левое полушарие не было осведомлено об информации, которая приказала ему встать.
Для объяснения этих результатов была привлечена теория когнитивного диссонанса Леона Фестингера (123). Теория предполагала, что несоответствие между тем, что человек ожидает, и тем, что происходит на самом деле, создает состояние внутреннего несогласия или диссонанса.Поскольку диссонанс вызывает стресс, он требует уменьшения. Таким образом, когда пациент осознал, что его тело вызвало реакцию, которую «он» не инициировал, возник диссонанс, и конфабуляция причины возникновения реакции была средством уменьшения диссонанса. Сегодня «рационализация после принятия решения» является активной темой исследований, в которых изучается, как люди задним числом оправдывают свои решения и действия в жизни (124, 125).
Нарративы, сотканные левым полушарием, рассматривались как интерпретации ситуаций и были предложены в качестве важного механизма, используемого людьми для поддержания чувства ментального единства перед лицом нейронного разнообразия (115⇓⇓⇓–119).Позже было высказано предположение, что процесс повествования/интерпретации зависит от когнитивных функций префронтальной коры, связанных с рабочей памятью, и согласуется с когнитивными теориями сознания (78, 121, 122, 126).
Слепое зрение.
Слеповидение — это клиническое состояние, которое чаще всего обсуждается в контексте современной науки о сознании. Повреждение первичной зрительной коры вызывает кажущуюся слепоту в поле зрения, противоположном поражению (85). Тем не менее, когда об этом попросят, слеповидящие пациенты могут делать предположения об идентичности или наличии визуальных стимулов, представленных в «слепом» поле, с уровнями точности, которые намного выше случайного.Они сознательно слепы, но могут «видеть» в достаточной степени, чтобы контролировать поведение.
О существовании такого остаточного зрения после повреждения первичной зрительной коры (V1) сообщили в 1967 г. Ларри Вейскранц и Николас Хамфри (127). Обезьяна (по имени Хелен) с двусторонним повреждением зрительной коры по-прежнему могла реагировать на зрительные стимулы (моргание, тянущиеся к стимулам, зрачковые реакции и т. д.). Аналогичные результаты были также описаны ранее у пациентов с повреждением затылочной доли Riddoch (128) и Poppel et al.(129). Однако как у пациентов, так и у обезьян субъективная феноменология была неясна.
Weiskrantz (85), который, как упоминалось выше, прошел обучение в Yerkes, сделал два важных вклада в решение вопроса о том, может ли сознательный опыт возникать после повреждения V1. Во-первых, он представил то, что назвал «ключами комментариев». В каждом испытании, после того как пациент делал вынужденный выбор ответа относительно стимула, Вейскранц просил их нажимать клавиши, чтобы явно указать, видели ли они стимул сознательно или реагировали на каком-то другом основании.Это может показаться простой экспериментальной процедурой, но она отражала открытое отношение Вейскранца к изучению субъективной феноменологии и сознания, что противоречило нормам экспериментальной визуальной психофизики того времени. Вейскранц пришел к выводу, что сверхслучайные предположения пациентов были субъективно бессознательными. Это привело к его второму ключевому вкладу: он ввел термин «слепое зрение», пояснив, что явление, наблюдаемое у этих пациентов, связано с избирательным нарушением сознательного опыта (85, 130).
Ключи комментариев также использовались у обезьян с повреждениями зрительной коры, приводящими к слепозрению. Например, на основе таких исследований Stoerig и Cowey (131) предположили, что обезьяны, вероятно, обладают визуальным феноменальным сознанием. Weiskrantz (85) отметил, что это «легко принять, но не доказать». Он утверждал, что, поскольку сознание не всегда необходимо для человеческого восприятия и поведения, свидетельство того, что животные производят соответствующие поведенческие реакции на визуальные стимулы, само по себе не обязательно квалифицируется как свидетельство того, что они осознают то, что видят (85).
Даже интерпретация человеческих открытий о сознании была встречена с некоторым скептицизмом, особенно со стороны эмпирически строгих ученых-зрителей (обзор в ссылке 132). Чтобы выяснить, действительно ли слеповидящие пациенты не осознавали стимулы или они имели в виду, что плохо их видели, когда говорили, что не видели их сознательно, исследователи показали, что слепозрение качественно отличается от слабого, околопорогового зрения (обзор в ссылке 132). . В частности, обнаруживаемость стимулов ухудшается при слепом зрении по сравнению с тем, что можно было бы ожидать, учитывая результаты испытуемых в задачах с принудительным выбором.(Теория обнаружения сигналов описывает эти психофизические данные в ссылке 133). Это, в свою очередь, решает другую проблему, заключающуюся в том, что поражение пациентов-людей может быть неполным (135). У обезьян поражения были созданы хирургическим путем и тщательно подтверждены, поэтому вопрос о неполном поражении можно было исключить (136⇓–138). Это согласуется с выводом о том, что поведенческие реакции при слепом зрении не связаны с сохраненной корой в V1.
Хотя слепозрение связано со зрением, оно также связано с аффективными процессами. В частности, было обнаружено, что пациенты могут бессознательно обнаруживать эмоциональные выражения на лицах, представляемых в слепое поле (139). Эти результаты также демонстрируют возможность поразительной диссоциации между сознательным опытом и глубиной бессознательной обработки сложных стимулов. Они также подтверждают мнение о том, что процессы в миндалевидном теле могут управляться бессознательно и не обязательно отражают сознательные эмоции (140).
Что может быть нейронной основой слепого зрения? Известно, что некоторые стимулы, такие как движение, могут вызывать активность в экстрастриарных зрительных областях даже при отсутствии V1 (137, 138). В ходе новых исследований этот путь по-прежнему уточняется более подробно, но визуальный сигнал, вероятно, идет от сетчатки к подкорковым областям, таким как латеральное коленчатое тело, верхнее двухолмие и легочная кость, а оттуда прямо к экстрастриарным областям, минуя V1. 138). Это приводит к вопросу о том, почему пациенты не в сознании, учитывая активность в зрительных (экстрастриарных) областях.Интуитивное представление может заключаться в том, что необходима обратная связь с V1 (141). Однако такая точка зрения была бы несовместима с выводами о том, что пациенты без V1, тем не менее, иногда могут иметь сознательные визуальные переживания (142, 143).
Weiskrantz (85) предположил, что проекция сигналов в префронтальную кору может иметь решающее значение для зрительного сознания. Хотя префронтальная кора получает прямые проекции от экстрастриарных областей, а не от самого V1, идея состоит в том, что при повреждении V1 динамика сигналов в экстрастриарных областях может не обеспечивать достаточно нормальное распространение в префронтальную кору.Эта гипотеза была подтверждена в нескольких нейровизуализационных исследованиях (144, 145), в которых префронтальная кора показала более высокую активность в сознательном восприятии по сравнению со слепозрением у одного пациента, который имел слепое зрение только в части поля зрения. Это также совместимо с другими открытиями нейропсихологии. Используя то, что иногда называют методом двойного поражения, Накамура и Мишкин (146) обнаружили, что у обезьян с односторонними лобными и теменными поражениями в сочетании с другими абляциями, которые блокировали поток информации из зрительной коры в лобную и теменную кору в оставшихся полушарие, демонстрировал хроническое «слепоподобное» поведение.Таким образом, наличия неповрежденной зрительной коры недостаточно для зрительного поведения, если только она не связана с оставшимися лобной и теменной корой. Как предположил Вейскранц, сигналы к префронтальной коре могут быть необходимы для осознания (85), по крайней мере, у людей.
Выводы
1) Идея о том, что исследования сознания могут продвинуться вперед, сосредоточившись на зрении, не была новой идеей в 1990-х годах. Это было неявным предположением, лежащим в основе практически всей работы над сознанием с конца 19-го века, а также на протяжении всего 20-го века, включая, помимо прочего, исследования пациентов с амнезией, расщепленным мозгом и слепым зрением.
2) Данные, полученные в каждой из трех групп пациентов, продемонстрировали глубокую диссоциацию между тем, что пациенты могли сообщить, и тем, на что они могли поведенчески реагировать. Эти диссоциации концептуально важны, поскольку нарушения не заключаются в общей способности обрабатывать какую-либо информацию. В частности, они связаны с неспособностью субъективно сообщать о сознательном опыте.
3) Исследователи всех трех направлений — амнезия (106, 107), расщепление мозга (3, 117, 121, 140) и слепое зрение (76, 85, 147) — независимо друг от друга пришли к выводу, что сознание включает в себя высшие когнитивные функции. процессы, которые, по крайней мере частично, зависят от префронтальной коры.Этот вывод согласуется с современными когнитивными теориями сознания, включая теорию глобального рабочего пространства (74, 53) и теорию более высокого порядка (76⇓–78, 148).
Заявление о доступности данных.
Нет данных, связанных с этой рукописью.
- Copyright © 2020 Автор(ы). Опубликовано ПНАС.
7.1 Состояния сознания – Введение в психологию
Роберт Бисвас-Динер и Джейк Тини
Что бы вы ни делали — выполняли домашнее задание, играли в видеоигру, просто выбирали футболку — все ваши действия и решения связаны с вашим сознанием.Но так часто, как мы его используем, вы когда-нибудь останавливались, чтобы спросить себя: что на самом деле такое сознание? В этом модуле мы обсудим различные уровни сознания и то, как они могут повлиять на ваше поведение в различных ситуациях. Кроме того, мы исследуем роль сознания в других, «измененных» состояниях, таких как гипноз и сон.
Цели обучения
- Дайте определение сознания и различайте состояния высокого и низкого сознания
- Объясните взаимосвязь между сознанием и предубеждением
- Поймите разницу между популярными изображениями гипноза и тем, как он в настоящее время используется в терапевтических целях
Случалось ли вам когда-нибудь, чтобы другой автомобилист останавливался рядом с вами на красный свет, распевал свои мозги, или ковырялся в носу, или иным образом вел себя не так, как обычно на публике? Есть что-то в одиночестве в машине, что побуждает людей отключаться и забывать, что другие могут их видеть.Хотя эти небольшие потери внимания забавны для остальных из нас, они также поучительны, когда речь идет о теме сознания.
Рис. 7.2. Этот парень поет от всего сердца в своей мобильной музыкальной студии, где работает один человек. Вы когда-нибудь делали это?Сознание это термин, обозначающий осознание. Он включает в себя осознание себя, телесных ощущений, мыслей и окружающей среды. В английском языке мы используем противоположное слово «бессознательный», чтобы указать на бесчувственность или барьер на пути к осознанию, как в случае «Тереза упала с лестницы и ударилась головой, потеряв сознание.И все же психологическая теория и исследования предполагают, что сознание и бессознательное сложнее, чем падение с лестницы. То есть сознание — это больше, чем просто «включено» или «выключено». Например, Зигмунд Фрейд (1856–1939) — психолог-теоретик — понимал, что даже когда мы бодрствуем, многие вещи остаются за пределами сферы нашего сознательного восприятия (например, когда вы находитесь в машине и забываете, что остальной мир может видеть в вас). окна). В ответ на это понятие Фрейд ввел понятие «подсознания» (Freud, 2001) и предположил, что некоторые из наших воспоминаний и даже наши основные мотивы не всегда доступны нашему сознанию.
Поразмыслив, легко увидеть, насколько скользко тематическое сознание. Например, находятся ли люди в сознании, когда мечтают? А когда они пьяны? В этом модуле мы опишем несколько уровней сознания, а затем обсудим измененные состояния сознания, такие как гипноз и сон.
В 1957 году маркетолог вставил слова «Ешьте попкорн» в кадр фильма, который показывали по всей территории Соединенных Штатов. И хотя этот кадр проецировался на киноэкран всего на 1/24 секунды — скорость слишком высокая, чтобы ее можно было воспринять сознательным сознанием, — исследователь сообщил об увеличении продаж попкорна почти на 60%.Практически сразу все формы «подсознательного обмена сообщениями» были отрегулированы в США и запрещены в таких странах, как Австралия и Великобритания. Несмотря на то, что позже было показано, что исследователь выдумал данные (он даже не вставил слова в фильм), этот страх перед влиянием на наше подсознание сохраняется. По сути, этот вопрос противопоставляет друг другу различные уровни осознания. С одной стороны, у нас есть «низкое осознание» тонких, даже подсознательных влияний. С другой стороны, есть вы — сознательное мышление, чувство вас, которое включает в себя все, что вы в данный момент осознаете, даже читая это предложение.Однако, если мы рассмотрим эти различные уровни осознания по отдельности, мы сможем лучше понять, как они работают.
Низкая осведомленность
Вы постоянно получаете и оцениваете сенсорную информацию. Хотя в каждом моменте слишком много образов, запахов и звуков, чтобы их все можно было сознательно учесть, наш мозг, тем не менее, обрабатывает всю эту информацию. Например, вы когда-нибудь были на вечеринке, ошеломленные всеми людьми и разговорами, когда из ниоткуда вы слышите, как зовут вас по имени? Даже если вы понятия не имеете, что еще говорит этот человек, вы каким-то образом осознаете свое имя (подробнее об «эффекте вечеринки с коктейлем» см. модуль Noba о внимании).Таким образом, даже если вы не осознаете различные раздражители в вашем окружении, ваш мозг обращает на них больше внимания, чем вы думаете.
Подобно рефлексу (например, подпрыгивание при испуге), некоторые сигналы или важная сенсорная информация автоматически вызывают у нас ответ, даже если мы никогда не воспринимаем его сознательно. Например, Öhman и Soares (1994) измерили незначительные изменения потоотделения у участников, боящихся змей. Исследователям мелькали изображения разных объектов (например,г., грибы, цветы и, самое главное, змеи) на экране перед ними, но делал это на такой скорости, что участник понятия не имел, что он или она на самом деле видел. Однако, когда показывались изображения змей, эти участники начинали больше потеть (т. е. признак страха), хотя понятия не имели, что только что видели!
Хотя наш мозг воспринимает некоторые стимулы без нашего сознательного осознания, действительно ли они влияют на наши последующие мысли и поведение? В знаменательном исследовании Bargh, Chen и Burrows (1996) участники решали головоломку по поиску слов, в которой ответы относились к словам о пожилых людях (например, о пожилых людях).например, «старый», «бабушка») или что-то случайное (например, «ноутбук», «помидор»). После этого исследователи тайно измерили, как быстро участники шли по коридору, выходя из эксперимента. И хотя никто из участников не знал темы ответов, те, кто решил головоломку со старыми словами (по сравнению с теми, кто использовал другие типы слов), шли по коридору медленнее!
Рисунок 7.3 Прайминг-исследования и репликацияЭтот эффект называется праймингом (т. е. легкой «активацией» определенных понятий и ассоциаций из памяти) был обнаружен в ряде других исследований.Например, подталкивание людей к питью из теплого стакана (а не из холодного) приводило к более «теплому» поведению по отношению к другим (Williams & Bargh, 2008). Хотя все эти влияния происходят за рамками нашего сознательного осознания, они все же оказывают значительное влияние на последующие мысли и поведение.
За последние два десятилетия исследователи добились успехов в изучении аспектов психологии, которые существуют за пределами сознательного понимания. Как вы понимаете, трудно использовать самоотчеты и опросы, чтобы спрашивать людей о мотивах или убеждениях, о которых они сами могут даже не подозревать! Один из способов обойти эту трудность можно найти в тесте имплицитных ассоциаций , или IAT (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998).Этот метод исследования использует компьютеры для оценки времени реакции людей на различные раздражители, и его очень сложно подделать, поскольку он записывает автоматические реакции, которые происходят в миллисекундах. Например, чтобы пролить свет на глубоко укоренившиеся предубеждения, IAT может представить фотографии лиц европеоидной и азиатской расы, одновременно прося участников исследования как можно быстрее нажимать кнопки, обозначающие «хорошо» или «плохо». Даже если участник нажимает «хорошо» для каждого отображаемого лица, IAT все равно может обнаруживать небольшие задержки в ответе.Задержки связаны с большими умственными усилиями, необходимыми для обработки информации. Когда информация обрабатывается быстро — как в примере с белыми лицами, оцениваемыми как «хорошие», — ее можно противопоставить более медленной обработке — как в примере с азиатскими лицами, оцениваемыми как «хорошие», — и разница в скорости обработки является отражающей. предвзятости. В связи с этим IAT использовался для исследования стереотипов (Nosek, Banaji & Greenwald, 2002), а также самооценки (Greenwald & Farnam, 2000). Этот метод может помочь выявить бессознательные предубеждения, а также те, которые мы мотивированы подавлять.
Рисунок 7.4. Фактический снимок экрана из IAT (теста на неявные ассоциации), который человек может использовать для проверки своих собственных мысленных репрезентаций различных когнитивных конструкций. В данном конкретном случае это тест бессознательной реакции человека на представителей различных этнических групп. [Изображение: предоставлено Энтони Гринвальдом из Project Implicit]
High Awareness
То, что на нас могут влиять эти «невидимые» факторы, не означает, что они беспомощно контролируют нас.Другая сторона континуума осознания известна как «высокое осознавание». Это включает в себя усиленное внимание и тщательное принятие решений. Например, когда вы слушаете забавную историю на свидании, или думаете, какое расписание занятий было бы предпочтительнее, или решаете сложную математическую задачу, вы входите в состояние сознания, которое позволяет вам хорошо осознавать и фокусироваться на конкретных деталях. в вашей среде.
Рисунок 7.5. Медитация веками практиковалась в религиозном контексте.В последние 50 лет это становится все более популярным как светская практика. Научные исследования связывают медитацию со снижением стресса и улучшением самочувствия.Осознанность – это состояние высшего сознания, которое включает осознание мыслей, проходящих через голову. Например, вы когда-нибудь огрызались на кого-то в отчаянии только для того, чтобы воспользоваться моментом и подумать, почему вы так агрессивно отреагировали? Это более напряженное рассмотрение ваших мыслей можно описать как расширение вашего сознательного понимания, когда вы уделяете время рассмотрению возможных влияний на ваши мысли.Исследования показали, что, когда вы занимаетесь этим более осознанным рассмотрением, вас меньше убеждают неуместные, но предвзятые влияния, такие как присутствие знаменитости в рекламе (Petty & Cacioppo, 1986). Более высокая осведомленность также связана с распознаванием того, что вы используете стереотип, а не с справедливой оценкой другого человека (Gilbert & Hixon, 1991).
Люди чередуются между низким и высоким состояниями мышления. То есть мы переключаемся между сосредоточенным вниманием и менее внимательным состоянием по умолчанию, и у нас есть нейронные сети для обоих (Raichle, 2015).Интересно, что чем меньше мы обращаем внимания, тем больше вероятность того, что на нас повлияют бессознательные стимулы (Chaiken, 1980). Хотя эти тонкие влияния могут воздействовать на нас, мы можем использовать наше высшее сознание для защиты от внешних воздействий. В так называемой модели гибкой коррекции (Wegener & Petty, 1997) люди, которые осознают, что на их мысли или поведение влияет неправомерный внешний источник, могут исправить свое отношение вопреки предвзятости.Например, вы можете знать, что на вас влияет упоминание определенных политических партий. Если вы были мотивированы рассмотреть политику правительства, вы можете принять во внимание свои собственные предубеждения, чтобы попытаться рассмотреть политику справедливым образом (по ее собственным достоинствам, а не привязываться к определенной партии).
Чтобы сделать связь между низшим и высшим сознанием более ясной, представьте, что мозг подобен путешествию по реке. В низком осознании вы просто плывете на маленьком резиновом плоту и позволяете течениям толкать вас.Просто плыть по течению не очень сложно, но у вас также нет полного контроля. Более высокие состояния сознания больше похожи на путешествие в каноэ. В этом сценарии у вас есть весло, и вы можете управлять им, но для этого требуется больше усилий. Эта аналогия применима ко многим состояниям сознания, но не ко всем. А как насчет других состояний, таких как сон, мечтание или гипноз? Как они связаны с нашим сознанием?
Таблица 7.1 Состояния сознанияГипноз
Если вы когда-либо наблюдали за выступлением сценического гипнотизера, возможно, он нарисовал вводящий в заблуждение портрет этого состояния сознания.Например, загипнотизированные люди на сцене находятся в состоянии, похожем на сон. Однако по мере того, как гипнотизер продолжает свое шоу, вы обнаружите некоторые глубокие различия между сном и гипнозом. А именно, когда вы спите, услышав слово «клубника», вы не будете махать руками, как цыпленок. В сценических представлениях загипнотизированные участники кажутся очень внушаемыми, до такой степени, что они, по-видимому, находятся под контролем гипнотизера. Такие выступления развлекательны, но имеют способ сделать сенсацией истинную природу гипнотических состояний.
Рис. 7.6. Люди, находящиеся на сцене под гипнозом.Гипноз — это реальное, задокументированное явление, которое изучалось и обсуждалось более 200 лет (Pekala et al., 2010). Франц Месмер (1734–1815) часто считается одним из первых людей, «открывших» гипноз, который он использовал для лечения членов элиты, испытывавших психологические расстройства. Именно от имени Месмера мы получили английское слово «загипнотизировать», означающее «завораживать или приковывать внимание человека». Месмер приписывал эффект гипноза «животному магнетизму», предполагаемой универсальной силе (подобной гравитации), которая действует во всех человеческих телах.Даже в то время такое объяснение гипноза не имело научного подтверждения, и сам Месмер часто становился центром споров.
На протяжении многих лет исследователи предположили, что гипноз это психическое состояние, характеризующееся снижением периферийного сознания и повышенным вниманием к отдельному стимулу, что приводит к повышенной восприимчивости к внушению (Kihlstrom, 2003). Например, гипнотизер обычно вызывает гипноз, заставляя человека обращать внимание только на голос гипнотизера.По мере того, как человек все больше и больше сосредотачивается на этом, он начинает забывать контекст обстановки и реагирует на внушения гипнотизера, как если бы они были его собственными. Некоторые люди от природы более внушаемы и, следовательно, более «гипнабельны», чем другие, и это особенно верно для тех, у кого высокие показатели эмпатии (Wickramasekera II & Szlyk, 2003). Один из распространенных «трюков» сценических гипнотизеров состоит в том, чтобы отбрасывать добровольцев, которые менее внушаемы, чем другие.
Диссоциация — это отделение сознания от всего, кроме того, на чем сосредоточено основное внимание.Например, если вы когда-либо мечтали в классе, вы, вероятно, были настолько поглощены фантазией, что не слышали ни слова, которое сказал учитель. Во время гипноза эта диссоциация становится еще более выраженной. То есть человек настолько концентрируется на словах гипнотизера, что теряет перспективу остального окружающего мира. Вследствие диссоциации человек менее усерден и менее застенчив в отношении своих собственных мыслей и поведения. Подобно состояниям низкой осведомленности, когда человек часто действует в соответствии с первой мыслью, пришедшей в голову, так и в гипнозе человек просто следует за первой мыслью, которая приходит в голову, т.е.д., внушение гипнотизера. Тем не менее, только потому, что человек более восприимчив к внушению под гипнозом, это не означает, что он/она будет делать все, что ему прикажут. Чтобы быть загипнотизированным, вы должны сначала захотеть, чтобы были загипнотизированы (т. е. вы не можете быть загипнотизированы против своей воли; Lynn & Kirsh, 2006), и как только вы будете загипнотизированы, вы не будете делать ничего, что вы бы также не сделали. делать в более естественном состоянии сознания (Lynn, Rhue, & Weekes, 1990).
Сегодня гипнотерапия по-прежнему используется в различных форматах, и она возникла на основе ранних экспериментов Месмера с этой концепцией.Современная гипнотерапия часто использует комбинацию релаксации, внушения, мотивации и ожидания для создания желаемого психического или поведенческого состояния. Хотя существуют смешанные данные о том, может ли гипнотерапия помочь в снижении зависимости (например, в отказе от курения; Abbot et al., 1998), есть некоторые свидетельства того, что она может быть успешной при лечении людей, страдающих острой и хронической болью (Ewin, 1978; Syrjala et al. др., 1992). Например, в одном исследовании изучалось лечение ожоговых больных гипнотерапией, псевдогипнозом (т.е., состояние плацебо) или отсутствие лечения вообще. После этого, хотя у людей в состоянии плацебо боль уменьшилась на 16 %, у тех, кто находился в реальном состоянии гипноза, боль уменьшилась почти на 50 % (Patterson et al., 1996). Таким образом, даже несмотря на то, что гипноз может стать сенсацией для телевидения и кино, его способность диссоциировать человека от его окружения (или его боли) в сочетании с повышенной внушаемостью рекомендаций врача (например, «вы будете меньше беспокоиться о своей хронической боли» ) — это задокументированная практика с реальной медицинской пользой.
Теперь, подобно гипнотическим состояниям, трансовые состояния также включают диссоциацию себя; однако говорят, что люди в состоянии транса имеют меньше добровольного контроля над своим поведением и действиями. Трансовые состояния часто возникают во время религиозных церемоний, когда человек считает, что он или она «одержимы» потусторонним существом или силой. Находясь в трансе, люди сообщают анекдотические рассказы о «высшем сознании» или общении с большей силой. Тем не менее, основная часть исследований, изучающих этот феномен, склонна отвергать утверждение о том, что эти переживания представляют собой «измененное состояние сознания».
Большинство современных исследователей описывают как гипноз, так и состояния транса как «субъективные» изменения сознания, а не как отдельные или развившиеся формы (Kirsch & Lynn, 1995). Точно так же, как вы чувствуете себя по-другому, когда находитесь в состоянии глубокого расслабления, гипнотические и трансовые состояния просто отличаются от стандартного сознательного опыта. Исследователи утверждают, что, несмотря на то, что как гипнотические, так и трансовые состояния появляются и ощущаются совершенно иначе, чем нормальный человеческий опыт, их можно объяснить стандартными социально-когнитивными факторами, такими как воображение, ожидание и интерпретация ситуации.
Сон
Рисунок 7.7. Сон необходим людям для нормального функционирования.Возможно, во время засыпания вы испытали ощущение падения, а затем обнаружили, что физически дергаетесь вперед и хватаетесь, как будто действительно падаете. Сон — это уникальное состояние сознания; ему не хватает полного осознания, но мозг все еще активен. Люди обычно следуют «биологическим часам», которые влияют на то, когда они естественным образом становятся сонливыми, когда они засыпают и когда они естественным образом просыпаются.Гормон мелатонин повышается ночью и связан с сонливостью. На ваш естественный дневной ритм или Циркадный ритм может влиять количество дневного света, которому вы подвергаетесь, а также ваш график работы и активности. Изменение вашего местоположения, например перелет из Канады в Англию, может нарушить ваши естественные ритмы сна, и мы называем это биоритмом . Вы можете преодолеть смену часовых поясов, синхронизируя себя с местным расписанием, подвергая себя воздействию дневного света и заставляя себя бодрствовать, даже если вы, естественно, хотите спать.
Что интересно, сон сам по себе больше, чем отключение на ночь (или вздремнуть). Вместо того, чтобы выключаться, как свет, одним щелчком выключателя, сдвиг вашего сознания отражается в электрической активности вашего мозга. Пока вы бодрствуете и бодрствуете, активность вашего мозга отмечена волнами бета . Бета-волны характеризуются высокой частотой, но низкой интенсивностью. Кроме того, они представляют собой наиболее непостоянную мозговую волну, и это отражает широкое разнообразие сенсорной информации, которую человек обрабатывает в течение дня.Когда вы начнете расслабляться, эти волны изменятся на альфа волн. Эти волны отражают активность мозга, которая менее частая, более постоянная и более интенсивная. Погружаясь в настоящий сон, вы проходите через множество стадий. Ученые расходятся во мнениях относительно того, как они характеризуют стадии сна: некоторые эксперты утверждают, что существует четыре различных стадии (Manoach et al., 2010), в то время как другие выделяют пять (Šušmáková, & Krakovská, 2008), но все они различают те, которые включают быстрое движение глаз. (БДГ) и небыстрые движения глаз (БДГ).Кроме того, каждая стадия обычно характеризуется своим уникальным паттерном мозговой активности:
- Стадия 1 (называемая NREM 1 или N1) — это стадия «засыпания», отмеченная тета-волнами.
- Стадия 2 (называемая NREM 2 или N2) считается легким сном. Здесь иногда возникают «сонные веретена» или мозговые волны очень высокой интенсивности. Считается, что они связаны с обработкой воспоминаний. NREM 2 составляет около 55% всего сна.
- Стадия 3 (называемая NREM 3 или N3) составляет от 20 до 25% всего сна и отмечается большей мышечной релаксацией и появлением дельта-волн.
- Наконец, быстрый сон характеризуется быстрыми движениями глаз (БДГ). Интересно, что эта стадия — с точки зрения активности мозга — похожа на бодрствование. То есть мозговые волны возникают менее интенсивно, чем в другие стадии сна. Быстрый сон составляет около 20% всего сна и связан со сновидениями.
Сны, пожалуй, самый интересный аспект сна.На протяжении всей истории снам придавалось особое значение из-за их уникальной, почти мистической природы. Считалось, что они являются предсказаниями будущего, намеками на скрытые аспекты личности, важными уроками о том, как жить, или возможностью заниматься невозможными делами, такими как полет. Существует несколько конкурирующих теорий о том, почему люди видят сны. Во-первых, это наша бессознательная попытка осмыслить наш повседневный опыт и знания. Другой, популяризированный Фрейдом, состоит в том, что сны представляют собой запретные или неприятные желания или желания.Независимо от конкретной причины, мы знаем несколько фактов о снах: все люди видят сны, мы видим сны на каждой стадии сна, но сны во время быстрого сна особенно ярки. Одной из недостаточно изученных областей исследования сновидений являются возможные социальные функции снов: мы часто делимся своими снами с другими и используем их в развлекательных целях.
Сон выполняет множество функций, одна из которых — дать нам период умственного и физического восстановления. Детям обычно требуется больше сна, чем взрослым, поскольку они развиваются.На самом деле это настолько важно, что недостаток сна связан с широким спектром проблем. Люди, которые не высыпаются, более раздражительны, у них замедленная реакция, им труднее удерживать внимание и они принимают более неверные решения. Интересно, что это вопрос, относящийся к жизни студентов колледжей. В одном часто цитируемом исследовании исследователи обнаружили, что каждому пятому учащемуся требуется более 30 минут, чтобы заснуть ночью, каждый десятый время от времени принимает снотворное, и более половины сообщают, что по утрам чувствуют себя «в основном уставшими» (Buboltz, et al, 2001).
Психоактивные препараты
16 апреля 1943 года Альберт Хоффман, швейцарский химик, работавший в фармацевтической компании, случайно проглотил недавно синтезированное лекарство. Наркотик — диэтилимид лизергиновой кислоты (ЛСД) — оказался сильным галлюциногеном. Хоффман вернулся домой и позже сообщил об эффектах препарата, описав их как видение мира через «кривое зеркало» и переживание «необычных форм с интенсивной калейдоскопической игрой цветов». Хоффман открыл то, что уже знали представители многих традиционных культур по всему миру: существуют вещества, которые при попадании в организм могут оказывать сильное влияние на восприятие и сознание.
Лекарства по-разному воздействуют на физиологию человека, и исследователи и врачи склонны классифицировать лекарства в соответствии с их эффектами. Здесь мы кратко рассмотрим 3 категории наркотиков: галлюциногены, депрессанты и стимуляторы.
Галлюциногены
Возможно, галлюциногены — это вещества, которые исторически использовались наиболее широко. Традиционные общества использовали растительные галлюциногены, такие как пейот, эбене и псилоцибиновые грибы, в самых разных религиозных церемониях. Галлюциногены – это вещества, которые изменяют восприятие человека, часто вызывая видения или галлюцинации, которые не являются реальными. Существует широкий спектр галлюциногенов, и многие из них используются в качестве рекреационных веществ в промышленно развитых обществах. Общие примеры включают марихуану, ЛСД и МДМА (также известный как «экстази»). Марихуана — это высушенные цветы растения конопли, которые часто курят для получения эйфории . Активный ингредиент марихуаны называется ТГК и может вызывать искажения в восприятии времени, может создавать ощущение бессвязных, не связанных между собой мыслей и иногда вызывает повышенный голод или чрезмерный смех.Употребление и хранение марихуаны незаконны в большинстве мест, но, похоже, эта тенденция меняется. Уругвай, Бангладеш и некоторые страны США недавно легализовали марихуану. Частично это может быть связано с изменением общественного мнения или с тем фактом, что марихуана все чаще используется в медицинских целях, например, для лечения тошноты или лечения глаукомы.
Депрессанты
Депрессанты это вещества, которые, как следует из их названия, замедляют физиологические и психические процессы организма.Алкоголь является наиболее широко используемым депрессантом. Эффекты алкоголя включают снижение торможения, а это означает, что пьяные люди с большей вероятностью будут действовать так, как в противном случае они не хотели бы. Психологические эффекты алкоголя являются результатом того, что он увеличивает уровень нейротрансмиттера ГАМК. Существуют также физические эффекты, такие как потеря равновесия и координации, и они связаны с тем, что алкоголь мешает координации зрительной и двигательной систем мозга. Несмотря на то, что алкоголь так широко распространен во многих культурах, он также связан с множеством опасностей.Во-первых, алкоголь токсичен, а это означает, что он действует как яд, потому что можно выпить больше алкоголя, чем организм может эффективно удалить из кровотока. Когда содержание алкоголя в крови (BAC) человека достигает от 0,3 до 0,4%, существует серьезный риск смерти. Во-вторых, отсутствие суждения и физического контроля, связанное с алкоголем, связано с более рискованным поведением или опасным поведением, таким как вождение в нетрезвом виде. Наконец, алкоголь вызывает привыкание, и люди, злоупотребляющие алкоголем, часто испытывают значительные трудности в своей способности эффективно работать или в своих близких отношениях.
Другие распространенные депрессанты включают опиаты (также называемые «наркотиками»), которые представляют собой вещества, синтезируемые из цветов мака. Опиаты стимулируют выработку эндорфинов в мозге, поэтому медицинские работники часто используют их в качестве болеутоляющих средств. К сожалению, поскольку такие опиаты, как оксиконтин, так надежно вызывают эйфорию, их все чаще используют — нелегально — в качестве рекреационных веществ. Опиаты вызывают сильное привыкание.
Стимуляторы
Рисунок 7.9 Кофеин является наиболее широко потребляемым стимулятором в мире.Скажите честно, сколько чашек кофе, чая или энергетических напитков вы выпили сегодня?Стимуляторы – это вещества, которые «ускоряют» физиологические и психические процессы в организме. Двумя широко используемыми стимуляторами являются кофеин, содержащийся в кофе и чае, и никотин, активное вещество, содержащееся в сигаретах и других табачных изделиях. Эти вещества легальны и относительно недороги, что привело к их широкому использованию. Многих людей привлекают стимуляторы, потому что они чувствуют себя более бдительными, когда находятся под влиянием этих наркотиков.Как и в случае с любым наркотиком, существуют риски для здоровья, связанные с потреблением. Например, чрезмерное потребление этих типов стимуляторов может привести к беспокойству, головным болям и бессоннице. Точно так же курение сигарет — наиболее распространенный способ употребления никотина — связано с более высоким риском развития рака. Например, среди заядлых курильщиков 90% случаев рака легких напрямую связаны с курением (Stewart & Kleihues, 2003).
Существуют и другие стимуляторы, такие как кокаин и метамфетамин (также известный как «кристаллический метамфетамин» или «лед»), которые являются широко используемыми запрещенными веществами.Эти вещества действуют, блокируя «повторное поглощение» дофамина в головном мозге. Это означает, что мозг естественным образом не выводит дофамин, а накапливается в синапсах, вызывая эйфорию и бдительность. По мере того, как эффекты стираются, это стимулирует сильную тягу к большему количеству наркотика. Из-за этого эти мощные стимуляторы вызывают сильное привыкание.
Когда вы думаете о своей повседневной жизни, легко впасть в заблуждение, что существует одна «установка» для вашего сознательного мышления. То есть вы, вероятно, считаете, что придерживаетесь одних и тех же мнений, ценностей и воспоминаний в течение дня и недели.Но «вы» подобны диммеру света, который можно включать от полной темноты до полной яркости. Этот переключатель — сознание. При максимальной яркости вы полностью бдительны и осознаете; при более тусклых настройках вы мечтаете наяву; а сон или потеря сознания представляют собой еще более тусклые настройки. Степень, в которой вы находитесь в высоком, среднем или низком состоянии сознания, влияет на то, насколько вы восприимчивы к убеждению, насколько ясны ваши суждения и сколько деталей вы можете вспомнить.Таким образом, понимание уровней осознания лежит в основе понимания того, как мы учимся, принимаем решения, запоминаем и многих других жизненно важных психологических процессов.
Внешние ресурсы
Приложение: визуальные иллюзии для iPad. http://www.exploratorium.edu/explore/apps/color-uncovered
Книга: Замечательная книга о том, как мало мы знаем о себе: Уилсон, Т. Д. (2004). Незнакомцы с собой . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета. http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674013827
Книга: Еще одна замечательная книга о свободе воли или ее отсутствии?: Wegner, DM (2002). Иллюзия сознательной воли . Кембридж, Массачусетс: MIT Press. https://mitpress.mit.edu/books/иллюзия-сознание-воля
Информация об алкоголизме, злоупотреблении алкоголем и лечении: http://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/support-treatment
Американская психологическая ассоциация располагает информацией о хорошем сне, а также о нарушениях сна http://www.apa.org/helpcenter/sleep-disorders.aspx
Симулятор ЛСД: Этот симулятор использует оптические иллюзии, чтобы имитировать галлюгиногенный опыт ЛСД. Просто следуйте инструкциям в этом двухминутном видео. Отвернувшись, вы можете увидеть мир вокруг себя искаженным или пульсирующим, как при воздействии ЛСД. Эффект временный и исчезнет примерно через минуту.
Национальный фонд сна — некоммерческая организация, выпускающая видеоролики о бессоннице, обучении детей сну и на другие темы https://sleepfoundation.орг/видео-библиотека
Видео: Художник, который периодически принимал ЛСД и рисовал автопортреты: http://www.openculture.com/2013/10/artist-draws-nine-portraits-on-lsd-during-1950s-research-experiment.html
Видео: Интересное видео по вниманию: http://www.dansimons.com/videos.html
Видео: Клип о внетелесных переживаниях, вызванных с помощью виртуальной реальности.
Видео: Клип об иллюзии резиновой руки из научного сериала BBC «Горизонт.
Видео: Отрывок со слепым пациентом из документального фильма «Фантомы в мозгу».
Видео: Демонстрация слепоты, вызванной движением — пристально смотрите на синий движущийся узор. Одно или несколько желтых пятен могут исчезнуть:
Видео: Хоуи Мандель из America’s Got Talent под гипнозом заставляет людей пожимать руки:
Видео: Визуализация мозга, чтение мыслей – выступление Марселя Месулама.http://video.at.northwestern.edu/lores/SO_marsel.m4v
Видео: Лукас Хандверкер — сценический гипнотизер обсуждает терапевтические аспекты гипноза:
Видео: Ted Talk – Саймон Льюис: Не принимайте сознание как должное
Видео: TED Talk on Dream Research:
Видео: Проблема разума и тела – Интервью с Недом Блоком:
Хотите быстро продемонстрировать заправку? (Хотите быстро продемонстрировать, насколько мощными могут быть эти эффекты? Проверьте:
Интернет: хороший обзор грунтовки: http://en.wikipedia.org/wiki/Priming_(психология)
Веб-сайт: Определения сознания: http://www.сознательные сущности.com/definitions.htm
Интернет: узнайте больше о слепоте, вызванной движением, на веб-сайте Майкла Баха: http://www.michaelbach.de/ot/mot-mib/index.html
Вопросы для обсуждения
- Если бы кто-то был в коме после несчастного случая, и вы хотели бы лучше понять, насколько он/она «в сознании», как бы вы это сделали?
- Какие факторы повседневной жизни мешают людям нормально спать? Что мешает вашему сну?
- Как часто вы помните свои сны? Есть ли в ваших снах повторяющиеся образы или темы? Как вы думаете, почему?
- Вспомните случаи, когда вы фантазируете или позволяете своим мыслям блуждать? Опишите это время: вы чаще находитесь в одиночестве или с другими? Есть ли определенные виды деятельности, которыми вы занимаетесь, которые кажутся особенно склонными к мечтам?
- Ряд традиционных обществ используют в церемониях вещества, изменяющие сознание.Как вы думаете, почему они это делают?
- Как вы думаете, меняется ли со временем отношение к употреблению наркотиков? Если да, то как? Как вы думаете, почему происходят эти изменения?
- Учащиеся старших классов и колледжей все чаще используют стимуляторы, такие как аддерол, в качестве учебных пособий и «усилителей производительности». Каково ваше мнение об этом тренде?
Авторство изображений
Рисунок 7.2: Джошуа Оммен, https://goo.gl/Za97c3, CC BY-NC-SA 2.0, https://goo.gl/Toc0ZF
Рис. 7.5: Индрек Торило, https://goo.gl/Bc5Iwm, CC BY-NC 2.0, https://goo.gl/FIlc2e
Рисунок 7.6: New Media Expo, https://goo.gl/FWgBqs, CC BY-NC-SA 2.0, https://goo.gl/FIlc2e
Рисунок 7.7: jaci XIII, https://goo.gl/pog6Fr, CC BY-NC 2.0, https://goo.gl/FIlc2e
Рисунок 7.8: Noba
Рисунок 7.9: Personeelsnet, https://goo.gl/h0GQ3R, CC BY-SA 2.0, https://goo.gl/iZlxAE
Ссылки
Эббот, Н.К., Стед, Л.Ф., Уайт, А.Р., Барнс, Дж., и Эрнст, Э. (1998). Гипнотерапия для отказа от курения. Кокрановская база данных систематических обзоров, 2.
Барг, Дж. А., Чен, М., и Берроуз, Л. (1996). Автоматизм социального поведения: прямое влияние конструкции черты и активации стереотипа на действие. Журнал личности и социальной психологии, 71 (2), 230.
Бубольц, В., Браун, Ф. и Сопер, Б. (2001). Привычки сна и модели студентов колледжа: предварительное исследование. Журнал Американского колледжа здоровья , 50, 131-135.
Чайкен, С. (1980). Эвристическая и систематическая обработка информации и использование источников и сообщений в убеждении. Журнал личности и социальной психологии, 39 (5), 752.
Юин, Д. М. (1978). Клиническое применение гипноза для уменьшения глубины ожога. Гипноз в избранных к двухсотлетию докладах Седьмого Международного конгресса по гипнозу и психосоматической медицине .Нью-Йорк: Пленум Пресс.
Фрейд, С. (2001). Стандартное издание Полного собрания сочинений по психологии Зигмунда Фрейда: Толкование сновидений (Первая часть) (Том 4). Случайный дом.
Гилберт, Д. Т., и Хиксон, Дж. Г. (1991). Проблема мышления: активация и применение стереотипных убеждений. Журнал личности и социальной психологии, 60 (4), 509.
Гринвальд, А. Г., и Фарнхэм, С. Д. (2000). Использование теста имплицитных ассоциаций для измерения самооценки и самооценки. Journal of Personality and Social Psychology , 79, 1022-1038. Гринвальд, А. Г., МакГи, Д. Э., и Шварц, Дж. К. Л. (1998). Измерение индивидуальных различий в имплицитном познании: тест имплицитной ассоциации. Журнал личности и социальной психологии , 74, 1464-1480.
Кильстром, Дж. Ф. (2003). Гипноз и память. В Дж. Ф. Бирне (ред.), Обучение и память , 2-е изд. (стр. 240-242). Фармингтон-Хиллз, Мичиган: Macmillan Reference
Кирш, И.и Линн, SJ (1995). Измененное состояние гипноза: изменения в теоретическом ландшафте. Американский психолог, 50 (10), 846.
Линн С.Дж. и Кирш И. (2006). Основы клинического гипноза . Вашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация.
Линн, С.Дж., Рью, Дж.В., и Уикс, Дж.Р. (1990). Гипнотическая непроизвольность: социально-когнитивный анализ. Психологический обзор , 97, 169–184.
Маноах, Д. С., Таккар, К.Н., Стройновски Э., Эли А., МакКинли С.К., Вамсли Э., … и Стикголд Р. (2010). Сниженная ночная консолидация процедурного обучения при хронической медикаментозной шизофрении связана со специфическими стадиями сна. Журнал психиатрических исследований, 44 (2), 112-120.
Носек, Б.А., Банаджи, М.Р., и Гринвальд, А.Г. (2002). Сбор неявных групповых установок и убеждений с демонстрационного веб-сайта. Групповая динамика, 6 (1), 101-115.
Паттерсон, Д.Р., Эверетт, Дж. Дж., Бернс, Г. Л., и Марвин, Дж. А. (1992). Гипноз для лечения ожоговой боли. Журнал консалтинговой и клинической психологии , 60, 713-17
Пекала, Р. Дж., Кумар, В. К., Маурер, Р., Эллиотт-Картер, Н., Мун, Э., и Маллен, К. (2010). Внушаемость, ожидание, эффекты состояния транса и гипнотическая глубина: I. Значение для понимания гипноза. Американский журнал клинического гипноза, 52 (4), 275-290.
Петти Р. Э. и Качиоппо Дж.Т. (1986). Модель вероятности убеждения. В L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (Том 19, стр. 123–205). Нью-Йорк: Академическая пресса.
Raichle, ME (2015). Сеть режима мозга по умолчанию. Ежегодный обзор неврологии, 38 , 433-447.
Стюарт, Б. и Кляйнхьюз, П. (2003). Всемирный доклад о раке . Всемирная организация здравоохранения.
Сырьяла, К.Л., Каммингс, К., и Дональдсон, Г.В.(1992). Гипноз или когнитивно-поведенческая тренировка для уменьшения боли и тошноты во время лечения рака: контролируемое клиническое испытание. Боль , 48, 137-46.
Вегенер, Д. Т., и Петти, Р. Э. (1997). Гибкая модель коррекции: роль наивных теорий предвзятости в коррекции предвзятости. Достижения в экспериментальной социальной психологии , 29, 142-208.
Викрамасекера II, И. Э., и Шлик, Дж. (2003). Может ли эмпатия быть предиктором гипнотических способностей? Международный журнал клинического и экспериментального гипноза, 51 (4), 390–399.
Уильямс, Л. Э., и Барг, Дж. А. (2008). Ощущение физического тепла способствует межличностной теплоте. Наука, 322 (5901), 606-607.
Охман, А., и Соарес, Дж. Дж. (1994). «Бессознательная тревога»: фобические реакции на маскированные раздражители. Journal of Abnormal Psychology, 103 (2), 231.
Шушмакова, К., и Краковска, А. (2008). Дискриминационная способность отдельных показателей, используемых при классификации стадий сна. Искусственный интеллект в медицине, 44 (3), 261-277.
Почему величайшие умы мира не могут разгадать тайну сознания? | Сознание
Одним весенним утром в Тусоне, штат Аризона, в 1994 году неизвестный философ по имени Дэвид Чалмерс встал, чтобы выступить с докладом о сознании, под которым он имел в виду ощущение того, что ты находишься внутри своей головы, смотришь наружу — или, говоря словами, языка, который может вызвать у нейробиолога аневризму, наличие души. Хотя в то время он этого не осознавал, молодой австралийский ученый собирался разжечь войну между философами и учеными, привлекая внимание к центральной тайне человеческой жизни — возможно, центральной тайне человеческой жизни — — и раскрывая, как смущающе далеки они были от ее решения.
Ученые, собравшиеся в Аризонском университете — на конференцию, которая впоследствии войдет в историю как знаменательная конференция по этому вопросу, — знали, что делают что-то резкое: во многих кругах сознание все еще было табу, слишком странным и современным, чтобы воспринимать его всерьез. , и некоторые из ученых в аудитории рисковали своей репутацией, посещая его. Тем не менее, первые два выступления в тот день, до выступления Чалмерса, не вызвали особого восторга. «Честно говоря, они были совершенно непонятны и скучны — я понятия не имел, о чем кто-то говорил», — вспоминал Стюарт Хамерофф, профессор из Аризоны, ответственный за это мероприятие.«Как организатор, я смотрю вокруг, и люди засыпают или становятся беспокойными». Он забеспокоился. «Но затем третий разговор, прямо перед перерывом на кофе — это был Дэйв». Со своими длинными растрепанными волосами и любовью к джинсам, закрывающим все тело, 27-летний Чалмерс выглядел так, будто заблудился по дороге на концерт Metallica. «Он выходит на сцену с волосами до задницы, он скачет, как Мик Джаггер», — сказал Хамерофф. «Но потом он говорит. И тогда все просыпаются».
Мозг, как начал Чалмерс, создает всевозможные проблемы, чтобы занять ученых.Как мы учимся, храним воспоминания или воспринимаем вещи? Откуда вы знаете, что нужно отдергивать руку от кипятка или слышать свое имя, произносимое через всю комнату на шумной вечеринке? Но все это были, по сути, «легкие проблемы»: при наличии достаточного количества времени и денег их решат специалисты. По словам Чалмерса, существовала только одна по-настоящему трудная проблема сознания. Это была загадка настолько сбивающая с толку, что через несколько месяцев после его выступления люди стали обозначать ее большими буквами — Трудная Проблема Сознания — и вот она: с какой стати все эти сложные мозговые процессы ощущаются как что-то изнутри ? Почему мы не просто гениальные роботы, способные запоминать информацию, реагировать на шумы, запахи и горячие кастрюли, но темные внутри, лишенные внутренней жизни? И как мозг справляется с этим? Как мог 1.4-килограммовый комок влажной розовато-бежевой ткани внутри вашего черепа порождает нечто столь же таинственное, как переживание как , этого розовато-бежевого комка и тела, к которому он прикреплен?
Что вывело аудиторию Чалмерса из оцепенения, так это то, как он сформулировал вопрос. «Во время перерыва на кофе я ходил, как драматург на премьере, подслушивая», — сказал Хамерофф. «И все такие: «О! Тяжелая проблема! Тяжелая проблема! Вот почему мы здесь!»» Философы веками размышляли над так называемой «проблемой разума и тела».Но особая манера Чалмерса возродить ее «вышла за пределы философии и вдохновила всех. Это определило поле. Это заставило нас задаться вопросом: с чем, черт возьми, мы здесь имеем дело?»
Два десятилетия спустя мы знаем о мозге поразительно много: нельзя неделю следить за новостями, чтобы не встретить хотя бы еще одну историю об ученых, обнаруживших область мозга, связанную с азартными играми, или ленью, или любовью с первого взгляда. , или сожаление – и это только исследования, которые попадают в заголовки.Тем временем область искусственного интеллекта, которая сосредоточена на воссоздании способностей человеческого мозга, а не на том, каково это быть им, колоссально продвинулась вперед. Но как несносный родственник, который предлагает себе остаться на неделю, а потом не уезжает, Трудная Проблема остается. Когда сегодня утром я ударился ногой о ножку обеденного стола, как скажет вам любой, кто изучает мозг, нервные волокна, называемые «С-волокнами», отправили сообщение в мой спинной мозг, посылая нейротрансмиттеры в часть моего мозга, называемую таламус, который активировал (среди прочего) мою лимбическую систему.Отлично. Но почему все это сопровождалось мучительной вспышкой боли? И вообще, что такое боль?
Подобные вопросы, лежащие на границе между наукой и философией, откровенно злят некоторых экспертов. Они заставили других утверждать, что сознательных ощущений, таких как боль, на самом деле не существует, независимо от того, что я чувствовал, когда в тоске прыгал по кухне; или, альтернативно, что растения и деревья также должны быть сознательными. «Сложная проблема» вызвала в серьезных журналах споры о том, что происходит в голове у зомби, или — если процитировать название знаменитой статьи философа Томаса Нагеля 1974 года — вопрос «Каково быть летучей мышью? ” Некоторые утверждают, что проблема отмечает границу не только того, что мы знаем в настоящее время, но и того, что наука когда-либо могла бы объяснить.С другой стороны, в последние годы горстка нейробиологов пришла к выводу, что эта проблема, наконец, может быть решена, но только если мы готовы принять глубоко тревожный вывод о том, что компьютеры или Интернет тоже могут вскоре стать сознательными. .
На следующей неделе эта загадка станет еще более достоянием общественности с открытием новой пьесы Тома Стоппарда «Сложная проблема» в Национальном театре — первой пьесы, которую Стоппард написал для Национального театра с 2006 года, и последней, которую глава театра , Николас Хитнер, будет руководить перед тем, как покинуть свой пост в марте.77-летний драматург мало что рассказал о содержании пьесы, за исключением того, что она касается вопроса «что такое сознание и почему оно существует», рассматриваемого с точки зрения молодого исследователя, которого играет Оливия Виналл. Выступая перед Daily Mail, Стоппард также разъяснил возможное неправильное толкование названия. «Дело не в эректильной дисфункции, — сказал он.
Работа Стоппарда уже давно сосредоточена на грандиозных экзистенциальных темах, поэтому тема подходит: когда разговор переходит к Трудной проблеме, даже самые упрямые рационалисты быстро впадают в размышления о смысле жизни.Кристоф Кох, главный научный сотрудник Института наук о мозге Аллена и ключевой участник многомиллиардной инициативы администрации Обамы по составлению карт человеческого мозга, заслуживает доверия настолько, насколько это возможно для нейробиологов. Но в декабре он сказал мне: «Я думаю, что самое раннее желание, которое побудило меня изучать сознание, заключалось в том, что я хотел тайно показать себе, что оно не может быть объяснено с научной точки зрения. Я был воспитан католиком, и мне хотелось найти место, где я мог бы сказать: хорошо, здесь вмешался Бог.Бог сотворил души и вложил их в людей». Кох уверял меня, что давно отказался от таких невероятных представлений. Затем, немного позже, и на полном серьезе, он сказал, что, основываясь на своем недавнем исследовании, он не исключает, что у его iPhone могут быть чувства.
Со всей серьезностью Кох сказал, что, по его мнению, не исключено, что его iPhone может испытывать чувства
К тому времени, когда Чалмерс произнес свою речь в Тусоне, наука уже давно энергично пыталась игнорировать проблему сознания. .Источник враждебности восходит к 1600-м годам, когда Рене Декарт обозначил дилемму, которая свяжет ученых в узлы на долгие годы. С одной стороны, понял Декарт, нет ничего более очевидного и бесспорного, чем тот факт, что вы сознательны. Теоретически все остальное, что, как вам кажется, вы знаете о мире, может быть тщательно продуманной иллюзией, состряпанной, чтобы обмануть вас — в этот момент современные писатели неизменно ссылаются на Матрицу — но само ваше сознание не может быть иллюзорным. С другой стороны, это наиболее достоверное и знакомое явление не подчиняется ни одному из обычных правил науки.Это не кажется физическим. Это не может наблюдаться, кроме как изнутри, сознательным человеком. Его даже нельзя толком описать. Разум, заключал Декарт, должен состоять из какого-то особого, нематериального материала, не подчиняющегося законам природы; это было завещано нам Богом.
Эта религиозная и довольно двусмысленная позиция, известная как картезианский дуализм, оставалась господствующей предпосылкой в 18 веке и на заре современных исследований мозга. Но она всегда должна была становиться неприемлемой для все более светского научного истеблишмента, который принимал физикализм — позицию, согласно которой существуют только физические вещи, — как свой основной принцип.И все же, даже когда нейробиология в 20-м веке набирала обороты, убедительного альтернативного объяснения так и не появилось. Так мало-помалу тема стала табуированной. Мало кто сомневался, что мозг и разум очень тесно связаны: если вы сомневаетесь в этом, попробуйте несколько раз ударить свой мозг кухонным ножом и посмотреть, что произойдет с вашим сознанием. Но , как они были связаны — или были ли они каким-то образом одним и тем же — казалось загадкой, которую лучше оставить философам в своих креслах.Еще в 1989 году в «Международном психологическом словаре» британский психолог Стюарт Сазерленд мог гневно заявить о сознании, что «невозможно определить, что оно такое, что оно делает или почему оно развилось. На нем не написано ничего, что стоило бы читать».
Только в 1990 году Фрэнсис Крик, один из первооткрывателей двойной спирали, воспользовался своим положением, чтобы сломить ряды. Нейронаука к настоящему времени продвинулась достаточно далеко, заявил он в несколько раздражительной статье, написанной в соавторстве с Кристофом Кохом, что сознание больше нельзя игнорировать.«Примечательно, — начали они, — что большая часть работ как в когнитивистике, так и в нейробиологии не имеет отношения к сознанию» — отчасти, как они подозревали, «потому что большинство исследователей в этих областях не видят никакого полезного подхода к проблеме». ». Они представили собственный «набросок теории», утверждая, что определенные нейроны, возбуждающиеся на определенных частотах, могут каким-то образом быть причиной нашего внутреннего осознания — хотя и неясно, как именно.
Иллюстрация Пита Гэмлена«Люди думали, что я сошел с ума, раз вмешиваюсь, — вспоминал Кох.«Старший коллега пригласил меня на ланч и сказал: да, он очень уважает Фрэнсиса, но Фрэнсис — лауреат Нобелевской премии и полубог, и он может делать все, что хочет, тогда как у меня еще не было должности. так что я должен быть невероятно осторожным. Придерживайтесь более массовой науки! Эти бахромчатые штучки — почему бы не оставить их до пенсии, когда ты на грани смерти, а о душе можно побеспокоиться и все в таком духе?»
Примерно в это же время Дэвид Чалмерс начал говорить о зомби.
В детстве у Чалмерса была близорукость на один глаз, и он живо помнит тот день, когда ему впервые надели очки, чтобы исправить эту проблему. «Внезапно у меня появилось нормальное бинокулярное зрение», — сказал он. «И мир просто выскочил. Для меня это было трехмерным, чего раньше не было». Он часто думал об этом моменте, когда стал старше. Конечно, вы могли бы рассказать простую механическую историю о том, что происходило в линзах его очков, его глазном яблоке, его сетчатке и его мозгу.«Но как это объясняет то, как мир просто так выскакивает?» Для физикалиста история очки-глазное яблоко-сетчатка — это история только . Но для мыслителя убеждений Чалмерса было ясно, что этого недостаточно: он говорил вам, что делает механизм глаза, но не начинал объяснять это внезапное, захватывающее дух ощущение глубины и ясности. Мысленный эксперимент Чалмерса с «зомби» — это его попытка показать, почему механического объяснения недостаточно — почему тайна сознательного осознания уходит глубже, чем может объяснить чисто материальная наука.
«Послушайте, я не зомби, и я молюсь, чтобы вы не были зомби, — сказал Чалмерс в одно из воскресений перед Рождеством, — но дело в том, что эволюция могла произвести зомби вместо сознательных существ… и не стало!» Мы пили эспрессо в его студенческой квартире в Нью-Йоркском университете, где он недавно занял постоянную должность на факультете философии, который многие считают ведущим в англоязычном мире; коробки с его вещами, присланными из Австралии, лежали нераспакованными в гостиной.Чалмерс, которому сейчас 48 лет, недавно подстригся, чтобы уступить академической респектабельности, и он носит меньше джинсовой ткани, но его идеи остаются такими же хэви-металлическими, как и всегда. Сценарий зомби выглядит следующим образом: представьте, что у вас есть двойник. Этот человек физически похож на вас во всех отношениях и ведет себя так же, как вы; он или она разговаривает, ест и спит, выглядит счастливым или встревоженным точно так же, как и вы. Единственная разница в том, что у двойника нет сознания; это — в отличие от стонущего, забрызганного кровью ходячего трупа из фильма — это то, что философы подразумевают под «зомби».
Таких бессознательных гуманоидов, конечно же, не существует. (Или, может быть, лучше было бы сказать, что я знаю, что я не один, во всяком случае, я никогда не мог бы знать наверняка, что вы не один.) Но дело в том, что в принципе кажется, что они могли бы. Эволюция могла произвести существ, которые были бы атом за атомом такими же, как люди, способными на все, что могут делать люди, за исключением того, что у них не было искры сознания внутри. Как объяснил Чалмерс: «Я сейчас разговариваю с вами и вижу, как вы себя ведете; Я мог бы сделать сканирование мозга и выяснить, что именно происходит в вашем мозгу, но, похоже, это может согласовываться со всеми доказательствами того, что у вас вообще нет сознания.«Если бы к вам подошли я и мой двойник, не зная, кто из них кто, даже самый мощный из существующих сканеров мозга не смог бы отличить нас друг от друга. И того факта, что можно даже вообразить этот сценарий, достаточно, чтобы показать, что сознание не может состоять только из обычных физических атомов. Так что сознание должно каким-то образом быть чем-то дополнительным — дополнительным ингредиентом в природе.
Чалмерс недавно подстригся и носит меньше джинсов, но его идеи остаются такими же хэви-металлическими, как и всегда это наиболее заметно в его книге 1996 года «Сознательный разум».Испепеляющий тон философа Массимо Пильюччи резюмирует тысячи слов, которые были написаны против идеи зомби: «Давайте отнесем зомби к фильмам категории B и попробуем немного серьезнее относиться к нашей философии, не так ли?» Да, это может быть правдой, что большинство из нас в нашей повседневной жизни думают о сознании как о чем-то сверх нашего физического существа — как если бы ваш разум был «шофером внутри вашего собственного тела», как цитирует духовного автора Алана Уоттса. Но принять это как научный принцип означало бы переписать законы физики.Все, что мы знаем о Вселенной, говорит нам о том, что реальность состоит только из физических вещей: атомов и составляющих их частиц, деловито сталкивающихся и комбинирующихся. Прежде всего, отмечают критики, если этот нефизический ментальный материал существовал, то как он мог вызывать физические вещи — например, когда чувство боли заставляет меня отрывать пальцы от края кастрюли?Тем не менее, время от времени наука намекает, что этот жуткий дополнительный ингредиент может быть реальным.В 1970-х годах в бывшей Национальной больнице нервных болезней в Лондоне невролог Лоуренс Вайскранц столкнулся с пациентом, известным как «ДБ», с слепым пятном в левом поле зрения, вызванным повреждением головного мозга. Вейскранц показал ему образцы полосатых линий, расположенных так, чтобы они попадали на область его слепоты, а затем попросил его сказать, были ли полосы вертикальными или горизонтальными. Естественно, Д.Б. запротестовал, что вообще не видит полос. Но Вайскранц настаивал на том, чтобы он все равно угадывал ответы, и ДБ угадывал их почти в 90% случаев.Очевидно, его мозг воспринимал полосы, не осознавая их. Одна интерпретация состоит в том, что ДБ был полузомби с мозгом, как и у любого другого мозга, но частично лишенным магического дополнения сознания.
Чалмерс знает, насколько невероятными могут показаться его идеи, и относится к этому спокойно: на философских конференциях он любит взбираться на сцену, чтобы спеть «Зомби-блюз», оплакивающий страдания бессознательного. («Я веду себя так же, как ты действуешь / Я делаю то же, что и ты / Но я не знаю / Каково это быть тобой.)) «Тщеславие такое: не будет ли скучно быть зомби? Сознание — это то, ради чего стоит жить, а у меня даже его нет: у меня зомбирование». Песня улучшилась с момента ее дебюта более десяти лет назад, когда он пытался удерживать мелодию. «Теперь я понял, что звучит лучше, если просто кричать», — сказал он.
Иллюстрация Пита ГэмленаДебаты о сознании вызвали больше клеветы и ярости, чем большинство других в современной философии, возможно, из-за того, насколько запутанной является проблема: противоборствующие стороны склонны не просто не соглашаться, но и находить позиции друг друга явно нелепыми.По общему признанию, крайний пример касается философа канадского происхождения Теда Хондериха, чья книга «О сознании» была описана в статье его коллеги-философа Колина Макгинна в 2007 году как «банальная и бессмысленная», «мучительная», «абсурдная», полный спектр от посредственного до смехотворного и просто плохого». Макгинн добавил в сноске: «Обзор, который появляется здесь, не такой, каким я его изначально написал. Редакторы попросили меня «смягчить тон» оригинала, [и] я это сделал». (Нападение могло быть частично мотивировано отрывком из автобиографии Хондериха, в котором он упоминает «моего маленького коллегу Колина Макгинна»; в то время Хондерих сказал этой газете, что разозлил Макгинна, назвав свою подругу «не простой, как старый».)
Макгинн, честно говоря, сделал себе карьеру на такой топорной работе. Но сильные чувства, лишь чуть более вежливо выраженные, — обычное дело. Не все согласны с тем, что с самого начала существует Трудная проблема, превращающая всю дискуссию, начатую Чалмерсом, в бессмысленное упражнение. Дэниел Деннетт, известный атеист и профессор Университета Тафтса за пределами Бостона, утверждает, что сознание, как мы о нем думаем, — это иллюзия: просто нет ничего, кроме губчатого вещества мозга, и этого губчатого вещества. на самом деле не порождает нечто, называемое сознанием.Здравый смысл может подсказать нам, что существует субъективный мир внутреннего опыта, но затем здравый смысл подсказал нам, что Солнце вращается вокруг Земли и что мир плоский. Сознание, согласно теории Деннета, похоже на фокус: нормальное функционирование мозга просто создает видимость того, что происходит что-то нефизическое. Деннет утверждает, что искать реальную, субстанциальную вещь, называемую сознанием, так же глупо, как настаивать на том, что персонажи романов, таких как Шерлок Холмс или Гарри Поттер, должны состоять из особого вещества, называемого «фиктоплазмой»; идея абсурдна и ненужна, так как персонажей изначально не существует.Это тот момент, когда дебаты обычно сводятся к недоверчивому смеху и покачиванию головой: ни один из лагерей не может до конца поверить в то, что говорит другой. Для противников Деннета он просто отрицает существование чего-то, что всем известно наверняка: их внутреннего опыта образов, запахов, эмоций и прочего. (Чалмерс предположил, в основном в шутку, что сам Деннет мог быть зомби.) Это все равно, что утверждать, что рака не существует, а затем утверждать, что вы вылечили рак; не один критик самой известной книги Деннета «Объяснение сознания» шутил, что ее название должно быть «Объяснение сознания».Ответ Деннета характерно легкомыслен: объяснять вещи, настаивает он, — это именно то, чем занимаются ученые. Когда физики впервые пришли к выводу, что единственная разница между золотом и серебром заключается в количестве субатомных частиц в их атомах, пишет он, люди могли почувствовать себя обманутыми, жалуясь, что их особая «золотость» и «серебристость» были объяснены. Но теперь все согласны с тем, что золото и серебристость на самом деле просто различия в атомах. Как бы ни было трудно это принять, мы должны признать, что сознание — это всего лишь физический мозг, делающий то, что делает мозг.
«История науки состоит из полных случаев, когда люди думали, что явление совершенно уникально, что для него не может быть возможного механизма, что мы могли бы никогда его не решить, что не было ничего подобного во вселенной », — сказала Патриция Черчленд из Калифорнийского университета, самопровозглашенная «нейрофилософ» и одна из самых откровенных критиков Чалмерса. Мнение Черчленда о Трудной проблеме, которое она выражает едким курсивом, состоит в том, что это чепуха, которую поддерживают философы, опасающиеся, что наука вот-вот решит одну из головоломок, которые годами заставляли их с прибылью работать.Посмотрите на прецеденты: в 17 веке ученые были убеждены, что свет не может быть физическим, что он должен быть чем-то оккультным, выходящим за рамки обычных законов природы. Или возьмем саму жизнь: ранние ученые были убеждены, что должен существовать какой-то волшебный дух — élan vital — который отличает живые существа от простых машин. Но не было, конечно. Свет — это электромагнитное излучение; жизнь — это просто ярлык, который мы даем определенным видам объектов, которые могут расти и воспроизводиться.В конце концов нейробиология покажет, что сознание — это просто состояния мозга. Черчленд сказал: «История науки действительно дает представление о том, как легко уговорить себя на такое мышление — что если мой большой, чудесный мозг не может представить решение, то это должна быть очень, очень сложная проблема. !”
Решения появляются регулярно: литература переполнена ссылками на «теорию глобального рабочего пространства», «туннели эго», «микротрубочки» и предположениями о том, что квантовая теория может проложить путь вперед.Но неразрешимость аргументов побудила некоторых мыслителей, таких как Колин Макгинн, выдвинуть интригующую, хотя и в конечном итоге пораженческую возможность: что, если мы просто конституционно неспособны когда-либо решить Трудную проблему? В конце концов, наш мозг эволюционировал, чтобы помогать нам решать приземленные проблемы выживания и размножения; нет особой причины предполагать, что они должны быть способны решить любую большую философскую головоломку, которую мы им подбрасываем. Эта позиция стала известна как «мистерианство» — после того, как в 1960-х годах в Мичигане появилась рок-н-ролльная группа ? и мистерианцы, которые сами позаимствовали это название из произведения японской научной фантастики, но суть их в том, что на самом деле нет никакой загадки в том, почему сознание не было объяснено: дело в том, что люди не справляются с этой задачей.Если мы изо всех сил пытаемся понять, что может означать, что разум является физическим, может быть, это потому, что мы находимся, по словам американского философа Джоша Вайсберга, в положении «белок, пытающихся понять квантовую механику». Другими словами: «Этого просто не будет».
Или, может быть, так оно и есть: за последние несколько лет несколько ученых и философов, в том числе Чалмерс и Кох, снова начали серьезно рассматривать точку зрения настолько причудливую, что ею уже более столетия пренебрегают, за исключением последователей восточных духовных традиций, или в более причудливых уголках нью-эйдж.Это «панпсихизм», головокружительное представление о том, что все во вселенной может быть сознательным или, по крайней мере, потенциально сознательным, или сознательным, когда оно помещено в определенные конфигурации. Кох признает, что это звучит нелепо: когда он упоминает панпсихизм, он пишет: «Я часто сталкиваюсь с пустыми взглядами непонимания». Но когда дело доходит до решения Трудной проблемы, безумно звучащие теории представляют собой профессиональную опасность. Кроме того, панпсихизм может помочь разгадать загадку, которая с самого начала связана с изучением сознания: если оно есть у людей, у обезьян, у собак и свиней, а может быть, и у птиц, — ну, где же оно останавливается? ?
Иллюстрация Пита ГамленаУ Коха, ребенка католиков немецкого происхождения, была такса по кличке Пурцель.Согласно церкви, поскольку он был псом, это означало, что у него не было души. Но он скулил, когда беспокоился, и визжал, когда его ранили — «у него определенно была богатая внутренняя жизнь». В наши дни мы мало говорим о душах, но широко распространено мнение, что многие нечеловеческие мозги обладают сознанием — что собака действительно чувствует боль, когда ей причиняют боль. Проблема в том, что нет никакой логической причины ограничивать собак, или воробьев, или мышей, или насекомых, или, если уж на то пошло, деревья или камни.Поскольку мы не знаем, как мозг млекопитающих создает сознание, у нас нет оснований предполагать, что это делает только мозг млекопитающих, или даже что сознание вообще нуждается в мозге. Именно поэтому Кох и Чалмерс оба на страницах New York Review of Books пришли к выводу, что обычный бытовой термостат или фотодиод, подобные тем, которые вы можете найти в своем детекторе дыма, в принципе могут быть сознательными.
Аргумент разворачивается следующим образом: у физиков нет проблем с признанием того, что некоторые фундаментальные аспекты реальности, такие как пространство, масса или электрический заряд, просто существуют.Их нельзя объяснить как результат чего-то другого. Объяснения должны где-то остановиться. Панпсихистская догадка состоит в том, что сознание тоже может быть таким, и если это так, то нет особой причины предполагать, что оно возникает только в определенных видах материи.
Особый поворот этой идеи Кохом, разработанный совместно с нейробиологом и психиатром Джулио Тонони, более узок и точен, чем традиционный панпсихизм. Это аргумент, что все что угодно может быть сознательным при условии, что содержащаяся в нем информация достаточно взаимосвязана и организована.Человеческий мозг, безусловно, отвечает всем требованиям; то же самое можно сказать и о мозге кошек и собак, хотя их сознание, вероятно, не похоже на наше. Но в принципе то же самое может относиться к Интернету, смартфону или термостату. (Этические последствия вызывают тревогу: должны ли мы заботиться о сознательных машинах так же, как о животных? Кох, со своей стороны, старается не наступать на насекомых во время ходьбы.)
В отличие от подавляющего большинства размышлений о Жестком Проблема, кроме того, в том, что «интегрированная информационная теория» Тонони и Коха фактически была проверена.Группа исследователей под руководством Тонони разработала устройство, которое стимулирует мозг электрическим напряжением, чтобы измерить, насколько взаимосвязаны и организованы — насколько «интегрированы» — его нейронные цепи. Конечно же, когда люди погружаются в глубокий сон или получают инъекцию анестетика, когда они теряют сознание, устройство демонстрирует, что интеграция их мозга также снижается. Среди пациентов, страдающих «синдромом запертости», которые находятся в таком же сознании, как и все мы, уровень интеграции мозга остается высоким; среди пациентов в коме – кто не в коме – нет.Соберите достаточно таких доказательств, утверждает Кох, и теоретически вы можете взять любое устройство, измерить сложность информации, содержащейся в нем, а затем сделать вывод, было ли оно сознательным или нет.
Но даже если бы кто-то был готов принять сбивающее с толку утверждение о том, что смартфон может иметь сознание, смогли бы вы когда-нибудь узнать, что это правда? Неужели только сам смартфон мог это знать? Кох пожал плечами. «Это как черные дыры», — сказал он. «Я никогда не был в черной дыре. Лично у меня нет опыта работы с черными дырами.Но теория [которая предсказывает появление черных дыр] кажется всегда верной, поэтому я склонен ее принять».
Иллюстрация Пита ГэмленаБыло бы удовлетворительно по многим причинам, если бы подобная теория в конце концов победила Трудную проблему. С одной стороны, это не потребует веры в жуткие субстанции разума, обитающие внутри мозга; законы физики останутся практически невредимыми. С другой стороны, нам не нужно было бы принимать странное и бездушное заявление о том, что сознания не существует, когда оно так очевидно.Наоборот, говорит панпсихизм, оно повсюду. Вселенная пульсирует вместе с ним.
В июне прошлого года несколько самых выдающихся участников дебатов о сознании, включая Чалмерса, Черчленда и Деннета, сели на высокомачтовую яхту, чтобы совершить путешествие среди льдин Гренландии. Эту морскую конференцию финансировал российский интернет-предприниматель Дмитрий Волков, основатель Московского центра изучения сознания. Около 30 ученых и аспирантов, а также команда провели неделю, скользя по темным водам, мимо надвигающихся заснеженных гор и ледников, в бодрящем холоде, способствующем сосредоточенному мышлению, давая еще один шанс проблеме сознания.По утрам они посещали острова, чтобы отправиться в поход или осмотреть руины древних каменных хижин; во второй половине дня они проводили конференции на лодке. Для Чалмерса сеттинг только обострил безотлагательность тайны: как вы могли чувствовать арктический ветер на своем лице, воспринимать визуальный размах ярких серых, белых и зеленых тонов и при этом заявлять, что сознательный опыт нереален или что он просто результат обычных физических вещей, ведущих себя обычно?
Вопрос был риторический.Деннет и Черчленд не были обращены; действительно, у Чалмерса нет особой уверенности в том, что консенсус возникнет в следующем столетии. «Возможно, будет какая-то удивительная новая разработка, которая оставит нас всех теперь похожими на додарвинистов, спорящих о биологии», — сказал он. «Но меня ничуть не удивит, если через 100 лет нейробиология станет невероятно сложной, если у нас будет полная карта мозга — и все же некоторые люди все еще говорят: «Да, но как все это дает вам сознание?», в то время как другие говорят: «Нет, нет, нет, что только есть сознание!» Круиз по Гренландии завершился в духе коллегиальности и взаимного непонимания.
Было бы поэтично — хотя и глубоко разочаровывает — доказать, что единственное, что человеческий разум не способен понять, — это он сам. Ответ должен быть где-то там. И найти это имеет значение: действительно, можно утверждать, что ничто другое не может иметь большего значения, поскольку все, что вообще имеет значение в жизни, имеет значение только в результате своего воздействия на сознательный мозг. Тем не менее, нет оснований предполагать, что наш мозг будет адекватным сосудом для путешествия к этому ответу.Не говоря уже о том, что если бы мы наткнулись на решение Трудной проблемы, то на каком-то отдаленном берегу, где нейробиология встречается с философией, мы бы даже признали, что нашли его.
Следите за лонгридом в Твиттере: @gdnlongread
- Эта статья была изменена 21 января 2015 года. Конференцию в море финансировал российский интернет-предприниматель Дмитрий Волков, а не Дмитрий Ицков, как было первоначально заявлено. . Это было исправлено.
6.Состояния сознания — Введение в психологию — 1-е канадское издание
Бессознательное убийство
Ночью 23 мая 1987 года Кеннет Паркс, 23-летний канадец с женой, маленькой дочерью и крупными карточными долгами, встал с кровати, сел в машину и проехал 15 миль до дом родителей жены в пригороде Торонто. Там он напал на них с ножом, убив свою свекровь и тяжело ранив тестя. Затем Паркс поехал в полицейский участок и наткнулся на здание, подняв свои окровавленные руки и сказав: «Я думаю, что убил некоторых людей… своими руками.Полицейские арестовали его и доставили в больницу, где хирурги залечили ему несколько глубоких порезов на руках. Только тогда полиция обнаружила, что он действительно напал на своих родственников.
Паркс утверждал, что ничего не помнит о преступлении. Он сказал, что помнит, как заснул в своей постели, а затем проснулся в полицейском участке с окровавленными руками, но ничего между ними. Его защита заключалась в том, что он спал в течение всего инцидента и не осознавал своих действий (Мартин, 2009).
Неудивительно, что этому объяснению поначалу никто не поверил. Однако дальнейшее расследование установило, что у него действительно была длительная история лунатизма, у него не было мотива для совершения преступления, и, несмотря на неоднократные попытки поставить ему подножку в многочисленных интервью, он был полностью последователен в своей истории, что также соответствовало хронологии событий. . Паркс был обследован группой специалистов по сну, которые обнаружили, что структура мозговых волн, возникающих во время сна, была очень ненормальной (Broughton, Billings, Cartwright, & Doucette, 1994).В конце концов специалисты пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением его аномального поведения было лунатизм, вызванный, вероятно, стрессом и беспокойством по поводу его финансовых проблем. Они также согласились с тем, что такая комбинация стрессоров вряд ли повторится, поэтому он вряд ли подвергнется еще одному такому приступу насилия и, вероятно, не представляет опасности для окружающих. Учитывая эту комбинацию доказательств, присяжные оправдали Паркса по обвинению в убийстве и нападении. Он вышел из зала суда свободным человеком (Wilson, 1998).
Сознание определяется как наше субъективное осознание себя и нашего окружения (Koch, 2004). Опыт сознания является фундаментальным для человеческой природы. Мы все знаем, что значит быть сознательным, и мы предполагаем (хотя мы никогда не можем быть уверены), что другие люди ощущают свое сознание так же, как мы ощущаем свое.
Изучение сознания долгое время было важным для психологов и играет роль во многих важных психологических теориях.Например, теории личности Зигмунда Фрейда различали бессознательные и сознательные аспекты поведения, а современные психологи различают автоматических ( бессознательных ) и контролируемых ( сознательных ) поведений и имплицитных ( бессознательное) и явное ( сознательное ) память (Petty, Wegener, Chaiken, & Trope, 1999; Shanks, 2005).
Некоторые философы и религиозные практики утверждают, что разум (или душа) и тело являются отдельными сущностями.Например, французский философ Рене Декарт (1596–1650), изображенный на рис. 6.1, был сторонником дуализма , идеи о том, что разум, нематериальная сущность, отделен (хотя и связан) с физическим телом . . В отличие от дуалистов, психологи считают, что сознание (и, следовательно, разум) существует в мозгу, а не отдельно от него. На самом деле психологи считают, что сознание является результатом активности многих нейронных связей в мозге и что мы испытываем различные состояния сознания в зависимости от того, что в данный момент делает наш мозг (Dennett, 1991; Koch & Greenfield, 2007).
Рисунок 6.1 Портрет Рене Декарта. Французский философ Рене Декарт (1596-1650) был сторонником дуализма, теории о том, что разум и тело являются двумя отдельными сущностями. Психологи, однако, отвергают эту идею, считая, что сознание является результатом деятельности мозга, а не отдельным от него.Изучение сознания также важно для фундаментального психологического вопроса о наличии свободы воли. Хотя мы можем понимать и верить, что некоторые из наших поступков вызваны силами, находящимися вне нашего сознания (т.т. е. бессознательное), мы, тем не менее, верим, что можем контролировать и осознаем, что участвуем в большей части нашего поведения. Обнаружение того, что мы или кто-то другой совершали сложные поступки, например, вождение автомобиля и причинение серьезного вреда другим, совершенно не осознавая этих действий, настолько необычно, что шокирует. И тем не менее психологи все больше убеждаются в том, что большая часть нашего поведения вызвана процессами, о которых мы не знаем и над которыми мы мало или вообще не имеем никакого контроля (Libet, 1999; Wegner, 2003).
Наш опыт сознания функционален, потому что мы используем его, чтобы направлять и контролировать наше поведение, а также логически мыслить о проблемах (DeWall, Baumeister, & Masicampo, 2008). Сознание позволяет нам планировать действия и отслеживать наш прогресс в достижении целей, которые мы перед собой ставим. А сознание лежит в основе нашего чувства морали — мы верим, что у нас есть свободная воля совершать нравственные действия, избегая при этом аморального поведения.
Но в некоторых случаях сознание может стать отталкивающим — например, когда мы осознаем, что не соответствуем нашим собственным целям или ожиданиям, или когда мы верим, что другие люди воспринимают нас негативно.В этих случаях мы можем проявлять поведение, которое помогает нам уйти от сознания; например, при употреблении алкоголя или других психоактивных веществ (Baumeister, 1998).
Поскольку мозг различается по своему текущему уровню и типу активности, сознание преходяще. Если мы пьем слишком много кофе или пива, кофеин или алкоголь влияют на активность нашего мозга, и наше сознание может измениться. Когда мы находимся под наркозом перед операцией или получаем сотрясение мозга после удара по голове, мы можем полностью потерять сознание в результате изменения активности мозга.Мы также теряем сознание, когда спим, и именно с этого измененного состояния сознания мы начинаем нашу главу.
Ссылки
Баумайстер, Р. (1998). Я. В Справочник по социальной психологии (4-е изд., т. 2, стр. 680–740). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: McGraw-Hill.
Бротон, Р. Дж., Биллингс, Р., Картрайт, Р., и Дусетт, Д. (1994). Убийственный сомнамбулизм: история болезни. Сон: Журнал исследований сна и медицины сна, 17 (3), 253–264.
Деннет, округ Колумбия (1991). Объяснение сознания . Бостон, Массачусетс: Литтл, Браун и компания.
ДеУолл, К., Баумайстер, Р., и Масикампо, Э. (2008). Доказательства того, что логические рассуждения зависят от сознательной обработки. Сознание и познание, 17 (3), 628.
Кох, К. (2004). В поисках сознания: нейробиологический подход. Энглвуд, Колорадо: Roberts & Co.
Кох, К., и Гринфилд, С. (2007). Как происходит сознание? Scientific American, 76–83.
Либет, Б. (1999). Есть ли у нас свобода воли? Журнал исследований сознания, 6, 8 (9), 47–57.
Мартин, Л. (2009). Может ли лунатизм быть защитой от убийства? Нарушения сна: для пациентов и их семей. Получено с http://www.lakesidepress.com/pulmonal/Sleep/sleep-murder.htm
Петти Р., Вегенер Д., Чайкен С. и Троп Ю. (1999). Теории двойного процесса в социальной психологии. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Guilford Press.
Шанкс, Д.(2005). Неявное обучение. В К. Ламбертс (ред.), Справочник по познанию (стр. 202–220). Лондон, Англия: Sage.
Вегнер, Д. М. (2003). Лучший трюк разума: как мы испытываем сознательную волю. Тенденции когнитивных наук, 7 (2), 65–69.
Уилсон, К. (1998). Гигантская книга настоящих преступлений. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Robinson Publishing.
Атрибуты изображения
Рисунок 6.1: Портрет Рене Декарта работы Андре Хатала, (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frans_Hals_-_Portret_van_René_Descartes.jpg) находится в общественном достоянии.
Определение сознания на JSTOR
Перейти к основному содержанию Есть доступ к библиотеке? Войдите через свою библиотекуВесь контент Картинки
Поиск JSTOR Регистрация ВходО Служба поддержки .
- Поиск
- Расширенный поиск
- Изображения
- Просматривать
- По тематике
Журналы и книги- По названию
Журналы и книги- Издатели
- Коллекции
- Изображения
- Инструменты
- Рабочее пространство
- Анализатор текста
- Серия JSTOR Understanding
- Данные для исследований


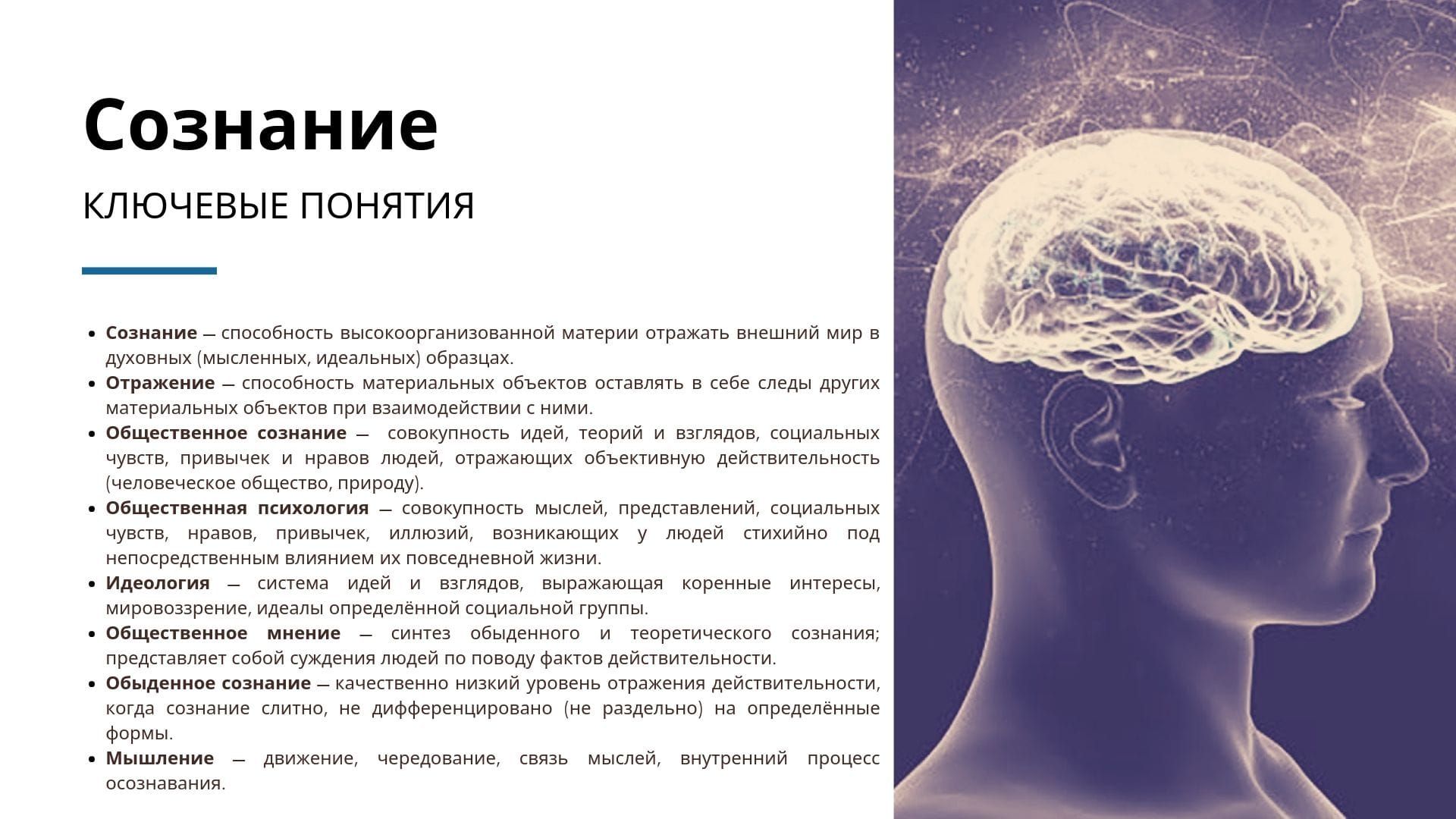 — М.: Либроком, 2013
— М.: Либроком, 2013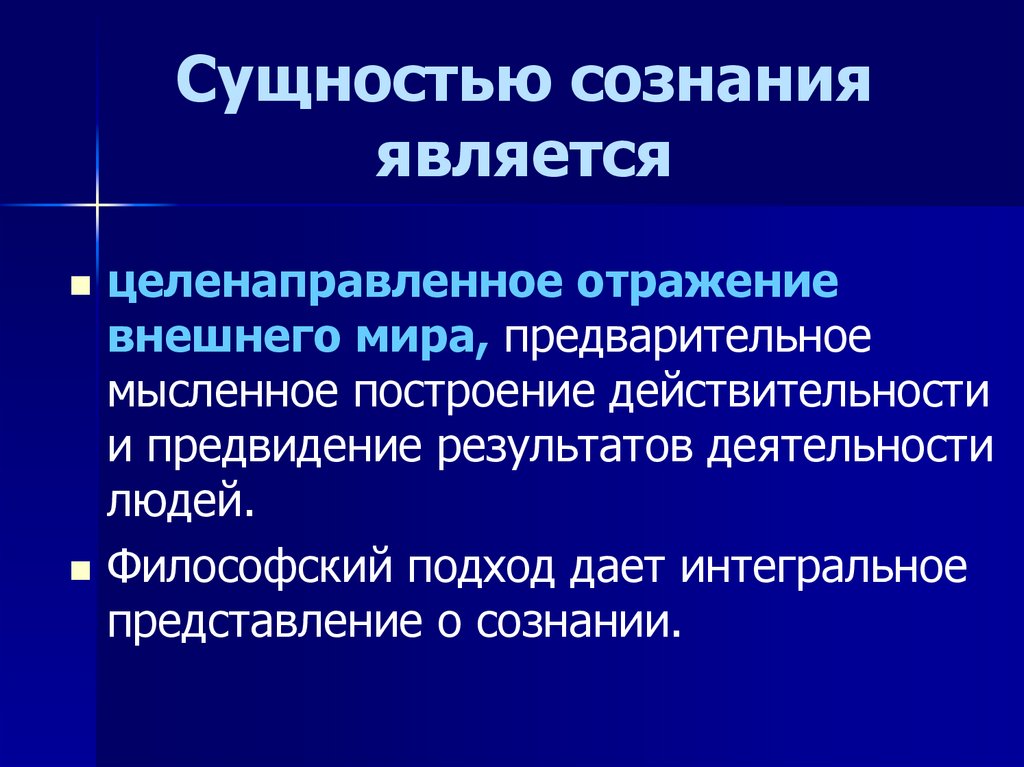 Все мы конечно так или иначе изучали сознание — например, просили участников эксперимента разбить увиденное по категориям или воображать различные образы в темноте, — однако само слово оставалось табу и в серьезных научных трудах никогда не встречалось. Не считая нескольких крупных исключений, ученое общество полагало, что термин «сознание» не имеет никакой ценности для психологии. Зарождавшаяся в те годы когнитивная наука описывала психическую деятельность исключительно с позиции обработки информации, а также сопутствующих этому на молекулярном и нейронном уровне процессов. Определения сознанию никто не давал, этот термин устарел и никому больше не был нужен.
Все мы конечно так или иначе изучали сознание — например, просили участников эксперимента разбить увиденное по категориям или воображать различные образы в темноте, — однако само слово оставалось табу и в серьезных научных трудах никогда не встречалось. Не считая нескольких крупных исключений, ученое общество полагало, что термин «сознание» не имеет никакой ценности для психологии. Зарождавшаяся в те годы когнитивная наука описывала психическую деятельность исключительно с позиции обработки информации, а также сопутствующих этому на молекулярном и нейронном уровне процессов. Определения сознанию никто не давал, этот термин устарел и никому больше не был нужен. Если вы видите, как другого тыкают иглой, ваши болевые нейроны сработают, как если бы это вас проткнули иглой. Это чрезвычайно интересно и поднимает некоторые важные вопросы. Что мешает нам слепо имитировать каждое действие, которое мы видим? Или буквально чувствовать чужую боль? В случае с моторными зеркальными нейронами можно ответить, что могут существовать фронтальные ингибиторные участки, которые подавляют автоматическое подражание, когда оно неуместно. Парадоксально, что эта необходимость подавлять нежелаемые или импульсивные действия могла стать главной причиной развития СВОБОДНОЙ ВОЛИ. Ваша левая нижняя теменная доля постоянно вызывает яркие образы бесчисленных возможностей действия, которые доступны в каком-либо контексте, а ваша лобная кора подавляет их все, кроме одного.
Если вы видите, как другого тыкают иглой, ваши болевые нейроны сработают, как если бы это вас проткнули иглой. Это чрезвычайно интересно и поднимает некоторые важные вопросы. Что мешает нам слепо имитировать каждое действие, которое мы видим? Или буквально чувствовать чужую боль? В случае с моторными зеркальными нейронами можно ответить, что могут существовать фронтальные ингибиторные участки, которые подавляют автоматическое подражание, когда оно неуместно. Парадоксально, что эта необходимость подавлять нежелаемые или импульсивные действия могла стать главной причиной развития СВОБОДНОЙ ВОЛИ. Ваша левая нижняя теменная доля постоянно вызывает яркие образы бесчисленных возможностей действия, которые доступны в каком-либо контексте, а ваша лобная кора подавляет их все, кроме одного. Такие представления могут вызывать лишь весьма ограниченное число реакций. Например, мозг крысы создает только представление первого порядка о кошке как о пушистом движущемся предмете, которого нужно рефлекторно избегать. Однако мозг человека продвинулся далее по пути эволюции: возник «второй мозг», точнее, набор связей между клетками, который в некотором смысле «паразитировал на «первом». Этот «второй мозг» создает мета представления (представления о представлениях — более высокий уровень абстракции), перерабатывая информацию, полученную от «первого мозга», в более управляемые порции, на которых может быть построен более широкий спектр более сложных реакций, включая языковое мышление и мышление символами. Вот почему, вместо простого «пушистого врага», как у крысы, кошка является для нас млекопитающим, хищником, домашним животным, врагом собак и крыс, мяукающим существом с ушами, усами и длинным хвостом, она даже напоминает некоторым Холли Берри в костюме из латекса. Слово «Кошка» символизирует для нас целое облако ассоциаций.
Такие представления могут вызывать лишь весьма ограниченное число реакций. Например, мозг крысы создает только представление первого порядка о кошке как о пушистом движущемся предмете, которого нужно рефлекторно избегать. Однако мозг человека продвинулся далее по пути эволюции: возник «второй мозг», точнее, набор связей между клетками, который в некотором смысле «паразитировал на «первом». Этот «второй мозг» создает мета представления (представления о представлениях — более высокий уровень абстракции), перерабатывая информацию, полученную от «первого мозга», в более управляемые порции, на которых может быть построен более широкий спектр более сложных реакций, включая языковое мышление и мышление символами. Вот почему, вместо простого «пушистого врага», как у крысы, кошка является для нас млекопитающим, хищником, домашним животным, врагом собак и крыс, мяукающим существом с ушами, усами и длинным хвостом, она даже напоминает некоторым Холли Берри в костюме из латекса. Слово «Кошка» символизирует для нас целое облако ассоциаций. Короче говоря, «второй мозг» выделяет объект смысловым значением, создавая мета представлениеие, которое позволяет нам осознавать понятие «кошка» не так, как это делает крыса.
Короче говоря, «второй мозг» выделяет объект смысловым значением, создавая мета представлениеие, которое позволяет нам осознавать понятие «кошка» не так, как это делает крыса. Страшная и ужасная загадка сознания свелась к экспериментальной расшифровке механизмов, с помощью которых мозг различает две пробы, то есть к гораздо более простой проблеме.
Страшная и ужасная загадка сознания свелась к экспериментальной расшифровке механизмов, с помощью которых мозг различает две пробы, то есть к гораздо более простой проблеме. Их жизненная стратегия включала в себя упрямое желание существовать, делиться, цепляться за жизнь до тех пор, пока те или иные гены из ядра не отключат у них волю к жизни и не позволят клетке умереть. Да, приложить понятия «воля» и «желание» к одной-единственной клетке довольно сложно. Откуда возьмутся у столь примитивного организма желания и намерения, которые мы связываем с деятельностью наделенной сознанием психики и интуитивно считаем результатом деятельности большого человеческого мозга? И все же — вот они, эти особенности поведения клетки, тут, как их ни назови. В отсутствие сознательного знания, не имея доступа к запутанным средствам рассуждения, которыми располагает наш мозг, одинокая клетка все же имеет свою позицию в жизни: она хочет жить столько, сколько ей позволит записанная в генах программа. Как бы странно это ни казалось, желание и всё, что необходимо для его удовлетворения, предшествуют определенности знания и оценке окружающих условий, потому что ни знания, ни способности к оценке у клетки, разумеется, нет.
Их жизненная стратегия включала в себя упрямое желание существовать, делиться, цепляться за жизнь до тех пор, пока те или иные гены из ядра не отключат у них волю к жизни и не позволят клетке умереть. Да, приложить понятия «воля» и «желание» к одной-единственной клетке довольно сложно. Откуда возьмутся у столь примитивного организма желания и намерения, которые мы связываем с деятельностью наделенной сознанием психики и интуитивно считаем результатом деятельности большого человеческого мозга? И все же — вот они, эти особенности поведения клетки, тут, как их ни назови. В отсутствие сознательного знания, не имея доступа к запутанным средствам рассуждения, которыми располагает наш мозг, одинокая клетка все же имеет свою позицию в жизни: она хочет жить столько, сколько ей позволит записанная в генах программа. Как бы странно это ни казалось, желание и всё, что необходимо для его удовлетворения, предшествуют определенности знания и оценке окружающих условий, потому что ни знания, ни способности к оценке у клетки, разумеется, нет.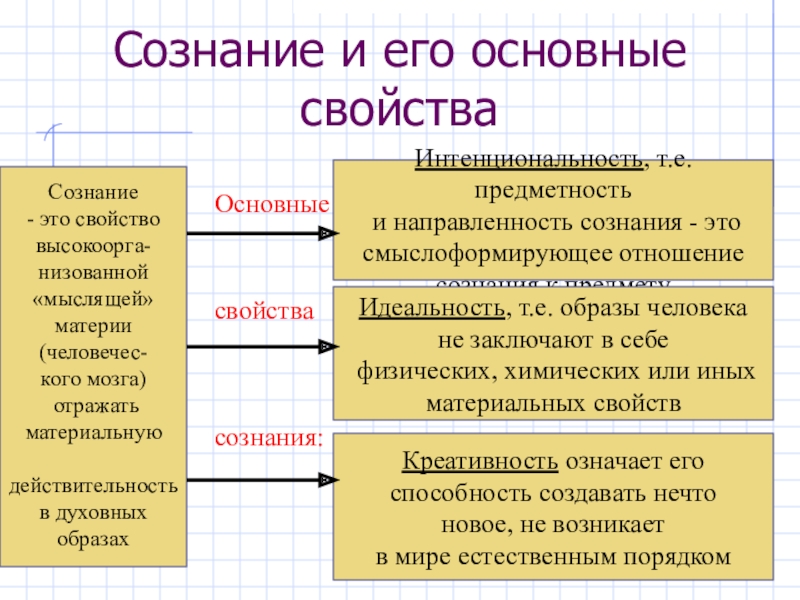 Ядро взаимодействует с цитоплазмой, и вдвоем они выполняют сложные вычисления, направленные на то, чтобы сохранить клетку в живых. Они решают ежесекундно возникающие проблемы, связанные с условиями жизни, и приспосабливают клетку к ситуации так, чтобы клетка выжила.
Ядро взаимодействует с цитоплазмой, и вдвоем они выполняют сложные вычисления, направленные на то, чтобы сохранить клетку в живых. Они решают ежесекундно возникающие проблемы, связанные с условиями жизни, и приспосабливают клетку к ситуации так, чтобы клетка выжила.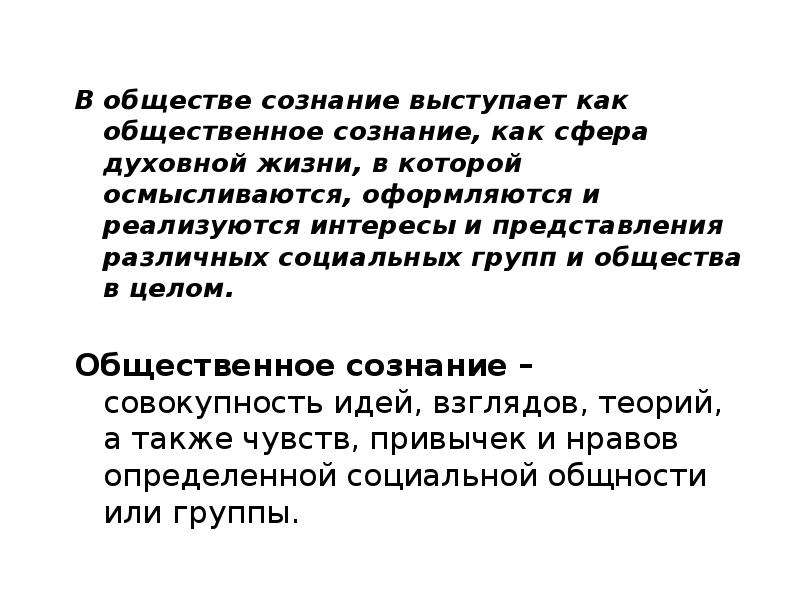
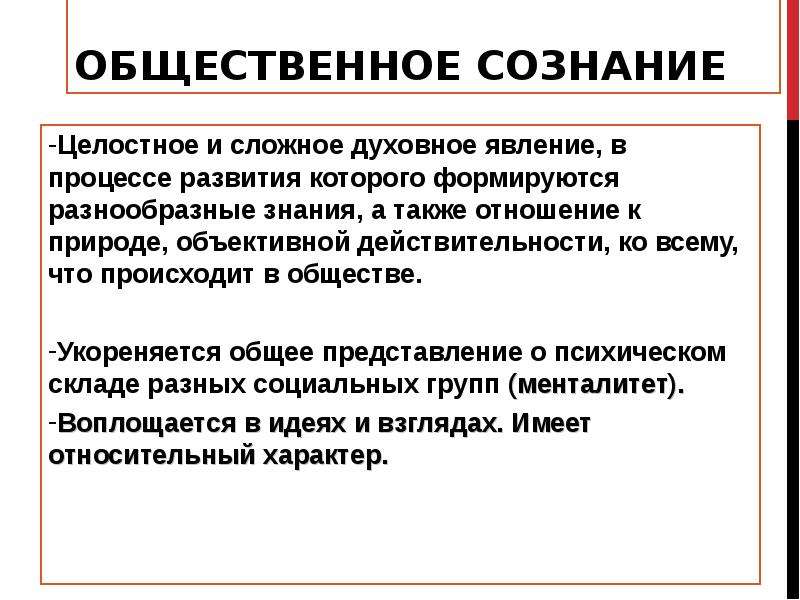 »
»