Культурология это что: Что изучает культурология? / TeachMePlease
Что изучает культурология? / TeachMePlease
В XX веке культурология стала самостоятельной наукой, которая состоит вне рамок философии, но остается связанной с ней через философию культуры. Связь эта имеет характер сложного взаимовлияния и взаимодействия.
Таким образом, культурология сложилась как гуманитарная наука о наиболее общих законах развития и функционирования культуры. В ее структуре выделяют следующие составляющие: объект, предмет, содержание, принципы, категории, законы, методы и функции.
Что же такое культурология? Это наука о культуре. Дисциплина, интегрирующая в себе проблематику и категории социологии, философии, психологии, истории и антропологии.
Объектом культурологии являются: культурные аспекты областей общественной жизни; тенденции и процессы в современной социокультурной среде.
Под предметом понимают совокупность понятий, с помощью которых культурология описывает объективную реальность:
- культурные процессы и явления, связанные отношениями в обществе;
- специфика региональных культур, связь и зависимость культур различных народов и эпох;
- специфика и особенности современной цивилизации, а также тенденции ее развития;
- структура, закономерности, сущность развития и функционирования культурного процесса человека.
К изучению культуры относят два принципа:
- Принцип культурно‑исторического подхода. Он означает, что все явления, события и факты культурного процесса рассматриваются в контексте соответствующего периода и тех условий, в которых они происходили.
- Принцип целостности. Изучение какого‑либо периода в развитии культуры должно включать в себя все многообразие явлений, фактов, событий культурного процесса.
— диахронический метод. Позволяет исследовать культурные процессы и явления в их хронологической последовательности.
— синхронический метод. Состоит в совокупном анализе двух и более культур на протяжении определенного времени их развития.
— сравнительно‑исторический (компаративный) метод. Его суть состоит в том, что он позволяет сравнивать в историческом разрезе многие явления культуры и проникать в их сущность.
— структурно‑функциональный метод. Заключается в разложении изучаемого объекта культуры на составные части и выявлении внутренней связи внутри между ними.
— системный метод. Позволяет выявлять задачи, связанные с обобщающей способностью видеть за конкретными явлениями культуры ее глубинные смыслы.
В культурологии широко используется также эмпирический метод. В его рамках применяются традиционные полевые антропологические методы – описание, классификация, наблюдение, интервью.
Основные культурологические школы и направления:
Общественно‑историческая школа
Общественно‑историческая школа имеет «классические» традиции и восходит к Канту, Гегелю и Гумбольдту. Главными особенностями общественно‑исторической школы являются органицизм культур (в культуре есть периоды зарождения, роста, расцвета, увядания и гибели), локальность, деление на типологии.
Натуралистическая школа
Главная черта — стремление подчеркнуть биологическую составляющую культуры. Это направление объединяет в основном медиков, психологов и биологов, которые, при объяснении культуры, отталкиваются от психо‑биологической природы человека. Основные представители: Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Бронислав Малиновский.
Социологическая школа
В центре внимания представителей данной школы находится само общество, его структура и социальные институты. Идея данной школы заключается в том, что культура есть продукт общественный. Основные представители: Томас Элиот, П. А. Сорокин, Альфред Вебер.
Символическая школа
Самая молодая и одна из самых влиятельных современных школ. Здесь все культурные процессы рассматриваются как коммуникационные. Культура понимается как знаковая система, созданная человеком, так как только он обладает способностью к символизации, а через неё — и к взаимной информации. Основные представители: Фердинанд де Соссюр, Эрнст Кассирер, Клод Леви‑Стросс.
Культура понимается как знаковая система, созданная человеком, так как только он обладает способностью к символизации, а через неё — и к взаимной информации. Основные представители: Фердинанд де Соссюр, Эрнст Кассирер, Клод Леви‑Стросс.
В целом культурология как наука способствует выявлению тенденций и законов развития культуры, что позволяет понять прошлое и настоящее конкретной культуры, дает возможность научно подходить к решению проблем управления культурными процессами в обществе, прогнозировать развитие культуры, оценивать результаты культурной деятельности общества.
Что такое культурология?
Буровский А.М.
Аннотация. Рассматривается множество определений культурологии, анализируются место этой науки в системе знаний, ее цели, предмет и метод. Автор не настаивает на исключительной правоте одного из подходов, скорее пытается их соотнести между собой и примирить.
Ключевые слова: культура, культурология, шедевры культуры, культурная антропология, культурная приматология, антропологический подход, экологические определения, космопланетарный подход, семиотический подход, синтезная теория эволюции, синтезная культурология
Открыть PDF-файл
Отец-основатель
Термин «культурология» ввел в науку американский антрополог Лесли Уайт. Этот незаурядный человек окончил социологический факультет Чикагского университета и начал с полевых исследований индейцев пуэбло на юго-западе США. В результате Уайт пришел к выводу, что культура – важнейшая характеристика общества и человека вообще, независимая от социальных законов и экономики, и что история человечества во многом – история развития культуры.
Термин «культурология» впервые использовал германский ученый В. Оствальд. В науку же ввел его именно Л.Уайт – в 1930 г., когда он прочитал в университете курс «Культурология». В дальнейшем свои идеи он изложил в фундаментальных работах: «Наука о культуре» (1949), «Эволюция культуры» (1959), «Понятие культурных систем: ключ к пониманию племен и наций» (1975).
Учение Лесли Уайта
Уайт полагал, что ни одна из как гуманитарных, так и естественных наук не объясняет, чем принципиально человек отличается от любого другого животного. В них даже не может быть внятно поставлен такой вопрос. Исследователь считал, что нашел ответ на этот вопрос, только человек может превращать любые объекты в символы, наделять их значениями и смыслами вне зависимости от их реальных физических или иных свойств? Символы так же реальны для человека, как физическая или биологическая реальность. Эта реальность и есть культура, а наука, изучающая логику и законы создания и использования символов – культурология.
Для понимания законов развития культуры Л.Уайт применил подход, который много позже Н.Н.Моисеев назовет «физикалистский» [1]. Функционирование и развитие человеческого общества, в конечном счете, есть не что иное, как удовлетворение потребностей. Символы и создаются с целью помогать человеку понимать окружающее и удовлетворять свои потребности. Тогда культура есть не что иное, как система средств получения и использования энергии. И, следовательно, она подчиняется тем же фундаментальным законам, что и другие материальные системы, − законам термодинамики. Культура, как имманентно присущая человеку реальность, возникает вместе с человеком. Все локальные культуры племен, народов и цивилизаций – лишь проявления единого глобального процесса. На протяжении всей творческой жизни Уайт отстаивал идею исследования всех культур в рамках единой целостной науки.
Культура, по мнению исследователя, развивается помимо и независимо от воли людей [2]. Он дал несколько определений, не противоречащих друг другу, но позволяющих очень разные трактовки. Уайт полагал, что культура, по сути, есть нечто «внешнее» для личности человека. Но говорим же мы об индивидуальном человеке, как о носителе культуры? По Уайту, культура надсоматична или суперорганизменна.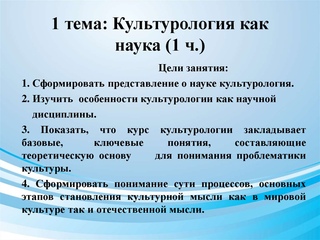
Символический подход к культуре активно развивался в американской этнологии в 1960–1970-е гг. Свой вклад в формирование символической культурологии внесли французские структуралисты Ж.Лакан, М.Вико, К.Леви-Стросс [8], Леви-Брюль [9]. Близкие идеи высказывали и создатели нарративной семиотики, особенно американский лингвист и этнограф Э. Сепир [10].
Сепир [10].
Но структуралисты никогда не были «физикалистами», а Лесли Уайт – был. «Чтобы противостоять космическому потоку, живые организмы должны захватывать свободную энергию из неживых систем и использовать ее для поддержания жизни. С этой точки зрения жизнь есть борьба за свободную энергию. Энергия сама по себе ничего не значит. В культурной системе важна лишь та энергия, которая контролируется, направляется. А это уже достигается технологическими средствами, теми или иными орудиями производства. Культура развивается по мере того, как увеличивается количество энергии, потребляемое в год на душу населения, либо по мере роста эффективности орудий труда, при помощи которых используется энергия» [11]. В среде, окружающей культурную систему, автор различает два фактора. Во-первых, приматы, способные к членораздельной речи и символическому поведению, и, во-вторых, среда Земли и окружающего ее космоса. При этом приматы, рассмотренные вне культурного контекста, являются всего лишь животными, людьми их делает культура. Человек, конечно же, включен в культурную систему, но он лишь «капсула культуры». «Не природа создает культуру, а, наоборот, культура накладывает печать человечности на определенный вид приматов» [12].
Лесли Уайт свою теорию культуры назвал культурологией. Культурология, по его мнению, отрасль антропологии, которая рассматривает культуру (институты, технологии, идеологии) как самостоятельную упорядоченность феноменов, организованных в соответствии с собственными принципами и существующих по своим законам.
Неопределенность термина
Официально моментом рождения культурологии считается 1949 г. – год выпуска книги «Наука о культуре» [13]. Основные работы Уайта появились на русском языке много позже, уже в XXI в. [14]. Но термин «культура» используют уже тысячелетия, и в достаточно разных значениях. Этимология слова «культура» восходит к латинскому “culture” − возделываю, выращиваю.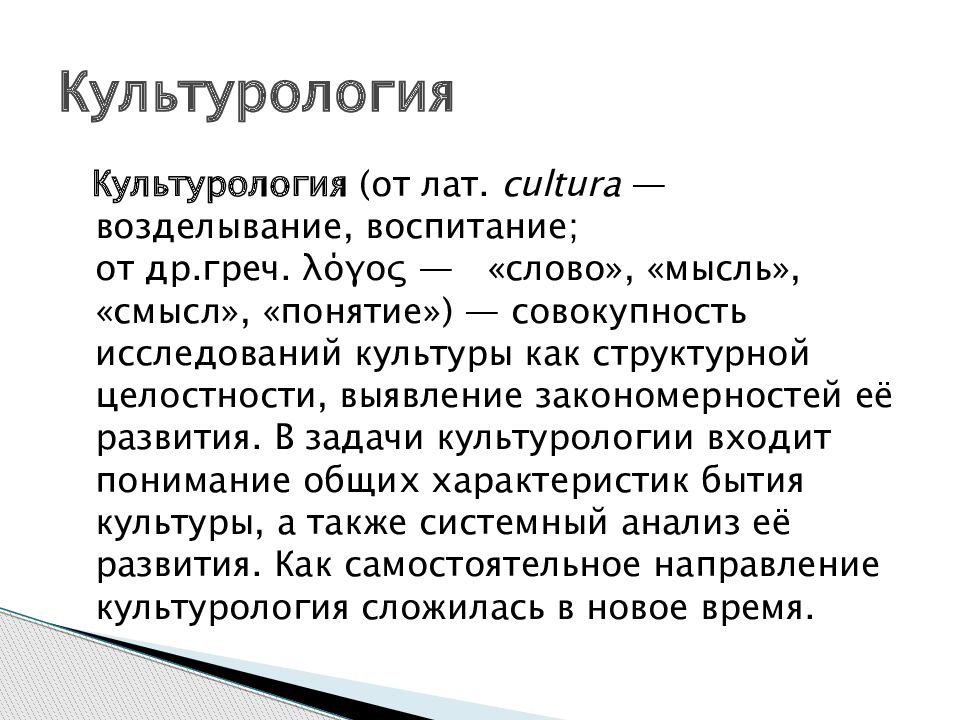 Отсюда многие слова в современных языках, например, «культивация».
Отсюда многие слова в современных языках, например, «культивация».
Концепции культуры пытались создавать Монтескье, Мирабо, Тюрго, Кондорсе – сводя развитие культуры в основном к генезису дико понимаемого ими «разума». И.Гердер рассматривал культуру как раскрытие прогрессивных способностей человеческого ума, а Ф. Клемм почти за столетие до Уайта, в середине XIX в. считал культуру отличительной чертой человека [15].
Тейлор, Фрэзер [16] и другие английские ученые и философы XIX в. попытались дать термину хоть какое-то определение. Основоположник английской антропологии Э.Тейлор заимствовал термин у немецких историков культуры и определил культуру как сложное целое, которое слагается из «знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества» [17]. Данное определение еще наиболее четкое в ряду подобных. В этой «культурологии до культурологии» или вообще не давалось определение, что такое культура, или этому определению придавалось очень мало значения. Видимо, все было ясно и так. Уайт во многом продолжил традицию: понимания культуры как сугубо человеческого феномена, отделяющего человека от остальных живых существ. При неполной ясности самого исходного термина. До сих пор не существует ни единого для всех ученых, ни общепринятого рабочего определения культуры. Само по себе это не так уж трагично: в конце концов, такие понятия, как «материя», «энергия» и тем более «информация» или понятие «жизнь» не имеет такого единого и обязательного для всех значения. Разные ученые и разные школы используют эти термины очень по-разному, а то и произвольно. Часто на научных конференциях уважаемым коллегам достаточно договориться о смысле применяемых терминов, и становится очевидно, что между ними нет явных противоречий. Но терминология – разная.
Сам Уайт дал настолько расплывчатые определения культуры и позволил настолько по-разному их трактовать, что можно быть убежденными сторонниками и чуть ли фанатами отца-основателя, но утверждать прямо противоположные вещи.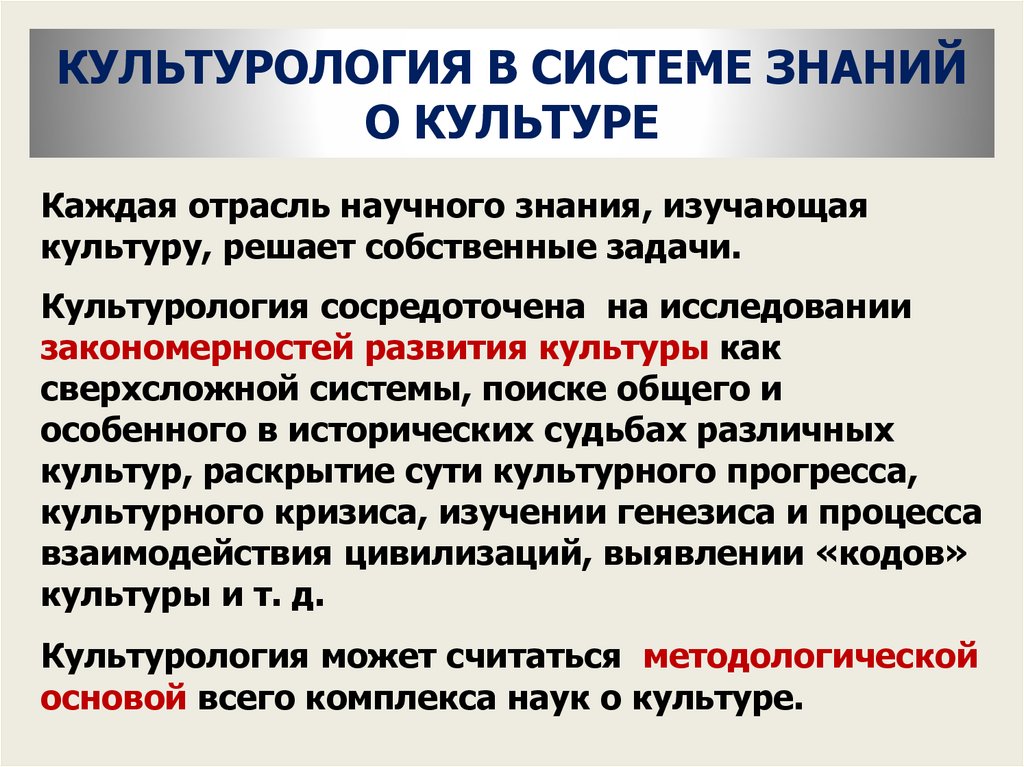 Складывается впечатление, что уважаемых коллег проблема вообще не интересует. I Российский культурологический конгресс в июне 2006 г. в Санкт-Петербурге состоялся как событие масштабное и представительное. Но среди всего прочего, конгресс показал и невероятный разброс самых общих представлений о том, что такое культура, и чем занимается культурология [18].
Складывается впечатление, что уважаемых коллег проблема вообще не интересует. I Российский культурологический конгресс в июне 2006 г. в Санкт-Петербурге состоялся как событие масштабное и представительное. Но среди всего прочего, конгресс показал и невероятный разброс самых общих представлений о том, что такое культура, и чем занимается культурология [18].
В любом серьезном сборнике, пусть самого высокого международного уровня, уважаемые коллеги рассказывают о самых разнообразных предметах, включая «комплекс Кассандры» [19], «комплекс козла отпущения» [20] или проблемы самоидентификации [21]. По их убеждению, исследование почти любых частностей, будь то частности гендерных отношений, образа жизни или изучение отдельных объектов материальной культуры, входит в понятие «заниматься культурологией, изучать культуру». Поскольку такой частный, «вещеведческий подход» в культурологии распространен, рассмотрим его подробнее.
Шедевры культуры
Часто под культурой понимается совокупность неких шедевров культуры (или объектов, понимаемых данным обществом, как шедевры), под культурной деятельностью – создание шедевров, а под культурологией – изучение самих шедевров или обстоятельств и условий их создания. Такой подход – явление, с одной стороны, очень частное. Исследователь Казанского собора вполне может и не давать исчерпывающих определений культуры и вообще не знать ничего, что выходит за пределы его узкоспециальных интересов (например, технические детали, которые использовались при его возведения и т.д.). Изучение любого шедевра или совокупности шедевров показывает примеры такого подхода. В этом смысле исследования Петербурга как громадного исторического города и отдельных объектов его архитектуры дает много подобного рода примеров [22].
Но, вместе с тем, изучение отдельных объектов ближе к предмету культурологии, чем могло бы показаться. Согласно Уайту, все материальные объекты, создаваемые в культуре, представляют собой визуализацию неких идеальных представлений.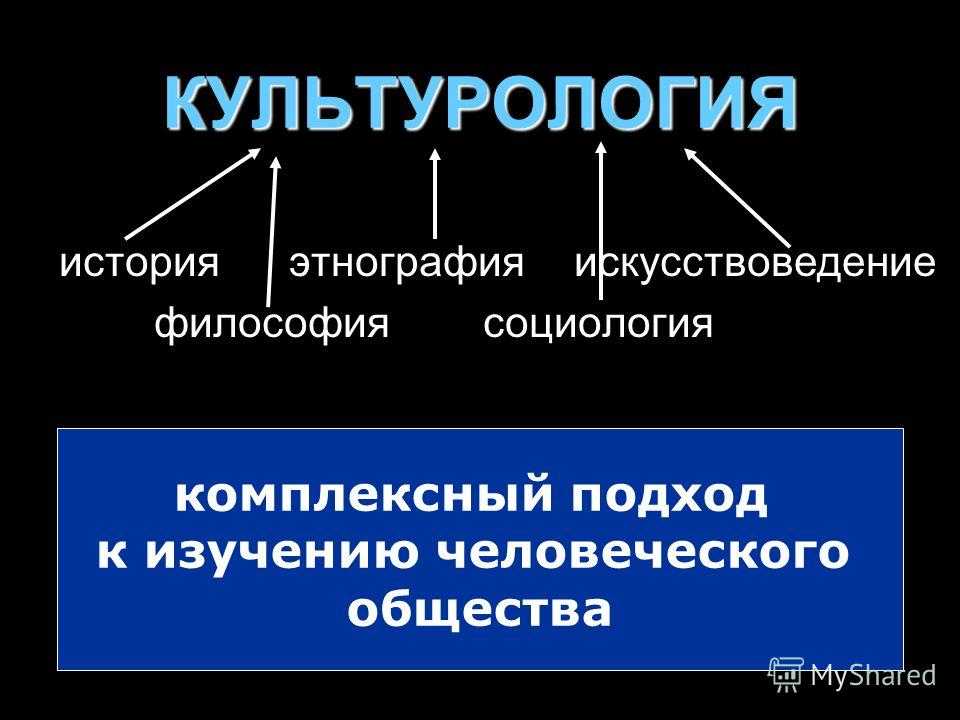 Если так, то задача частного исследования − выявлять эти представления через изучение объектов: городов, отдельных фрагментов городского ландшафта, архитектурных ансамблей и сооружений, скульптурных и живописных произведений [23].
Если так, то задача частного исследования − выявлять эти представления через изучение объектов: городов, отдельных фрагментов городского ландшафта, архитектурных ансамблей и сооружений, скульптурных и живописных произведений [23].
Каждая культура имеет набор объектов, которые она считает для себя особо значимыми. Без знания, что такое Форум или что такое Пантеон римский гражданин просто не мог существовать в этом качестве. Столь же значимыми объектами в Средневековье были многие соборы, а в России XIX в. − Зимний дворец и весь ансамбль Петербурга в целом. Такие сооружения рассматриваются как шедевры − от старофранцузского “Chedeuwer”: в средневековых цехах так назывался модельный образец продукции, который должен был сделать подмастерье. Цех рассматривал шедевр и признавал (или не признавал) его мастером.
Объекты становятся шедеврами культуры по принципу массового признания. То, что сделано отдельным человеком (Монферраном, Росси или Воронихиным), приобретает значение культурного символа. Это происходит, если достигнут определенный уровень качества. Слабые, неискусные сооружения не обладают качеством «искуса» − способностью вызывать интерес, обращать на себя внимание, вызывать эмоциональный отклик. Важное условие превращения произведения в шедевр – если в объекте визуализированы идеи, ценности и символы, значимые для всей культуры. Художник, как принято полагать, совершает акт самовыражения. Но культура признает его как создателя шедевра (а в ряде случаев и поручает ему создание шедевра) только исходя из своих коллективных представлений. В шедевре визуализируется коллективное бессознательное, групповое представление об идеале. Огромное значение имеет прочтение символики образов архитектурных и художественных произведений. Выявление и анализ визуализированных образов – задача относительно легко решаемая. Но часто визуализируются абстрактные представления, и их несравненно труднее «найти&raq@???[24]. Визуализация идеальных ценностей культуры в материальные объекты требует умения понять, что стояло за образами и композиционными формулами для самого создателя сооружения.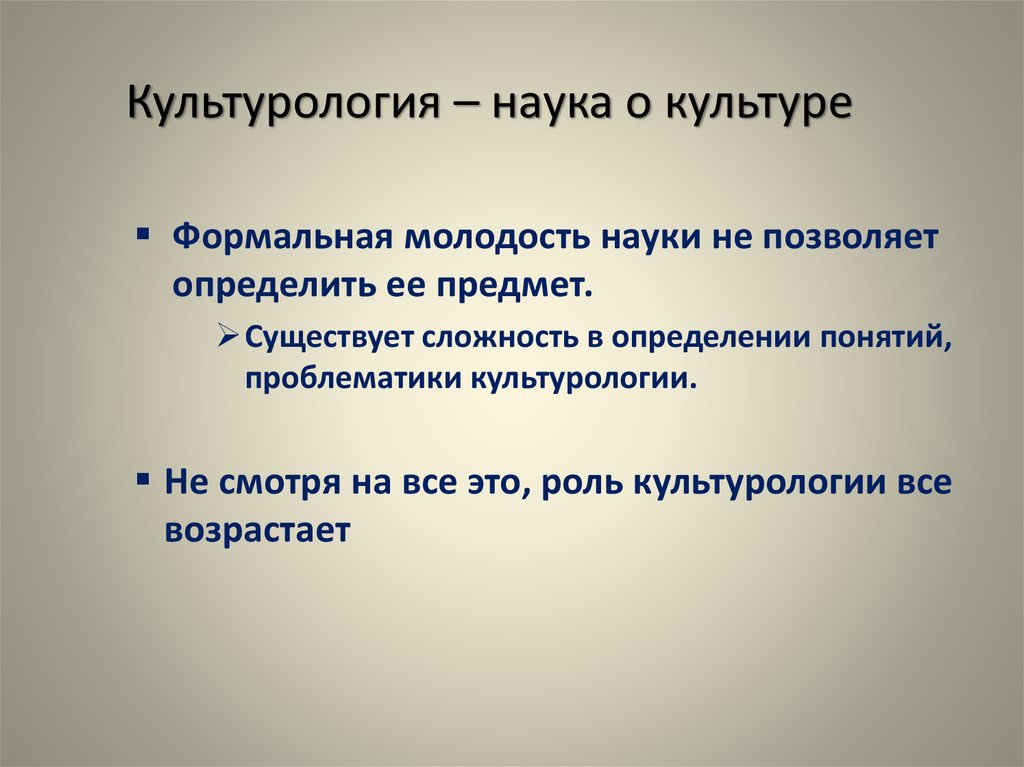 Воплощение идеальных представлений и ценностей культуры в материальные объекты происходит не только в виде визуальных образов, но и в литературных текстах, произведениях музыкального искусства, декламации и т.д. В последнем случае, вероятно, надо говорить об «озвучивании» образа или представления. Изучение шедевров – тоже культурология.
Воплощение идеальных представлений и ценностей культуры в материальные объекты происходит не только в виде визуальных образов, но и в литературных текстах, произведениях музыкального искусства, декламации и т.д. В последнем случае, вероятно, надо говорить об «озвучивании» образа или представления. Изучение шедевров – тоже культурология.
Существующие определения
В архиве автора данной статьи собрано около трехсот определений культуры, но коллегам известно значительно большее их число. Так, согласно и%D@ ???[25]. Само понимание специалистами, что есть культура, может стать предметом специального исследования.
Самым предварительным образом можно выделить четыре направления в даваемых определениях. Чуть ли не самое распространенное из них лучше всего назвать «частичным» или «произвольным». В каждом из них схвачено только то, что автору или «его» школе представляется самым главным. Таковы определения культуры как «культура – это умение красиво танцевать» или «культура есть способность творить произведения искусства» [26]. В сущности, эти определения и не претендуют ни на что. Если их и можно принимать всерьез – то не более чем своего рода «инструмент разового использования», конкретизацию каких-то общих представлений.
В таких понятиях, как «культура микроорганизмов» или «технологическая культура», подобный подход более приемлем именно потому, что не претендует на универсальность. Речь откровенно идет о частном проявлении деятельности человека.
Другой класс определений культура можно назвать «достижительным» или традиционно-советским. Например, культура есть «исторически определенный уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [27]. Этот подход ярко проявляется в структуре традиционных школьных и вузовских учебников по истории: каждый раздел в них завершается главой «Культура античной Греции» или «Культура раннего средневековья» [28]. Получается, что история идет сама по себе, и в организации производства, ведении войн, государственном управлении, создании общественных институтов или рождении новых культура как бы не присутствует. Культура – нечто отдельное от жизни общества. «Достижения», которые лежат отдельно от всего остального. В этом отношении характерно существование особых «домов» и «дворцов культуры». В них как бы сосредоточены эти достижения, а вне них культуры как бы и нет, или она не важна. Это более распространенное отношение, чем кажется. Принципиально аналогичную позицию занимал долгие годы, казалось бы, совершенно немарксистский структуралист Ю.Лотман [29]. Еще труднее заподозрить в марксизме американских ученых, но и у А.Л.Крёбера и К.Клакхона с их идеями «культурных образцов» мы находим нечто очень похожее [30].
Получается, что история идет сама по себе, и в организации производства, ведении войн, государственном управлении, создании общественных институтов или рождении новых культура как бы не присутствует. Культура – нечто отдельное от жизни общества. «Достижения», которые лежат отдельно от всего остального. В этом отношении характерно существование особых «домов» и «дворцов культуры». В них как бы сосредоточены эти достижения, а вне них культуры как бы и нет, или она не важна. Это более распространенное отношение, чем кажется. Принципиально аналогичную позицию занимал долгие годы, казалось бы, совершенно немарксистский структуралист Ю.Лотман [29]. Еще труднее заподозрить в марксизме американских ученых, но и у А.Л.Крёбера и К.Клакхона с их идеями «культурных образцов» мы находим нечто очень похожее [30].
Рассмотрим три другие класса определений подробнее.
Антропологические определения культуры
К традициям западных культур восходят определения типа: «Культура есть все, что отличает человека от животного» или «Культура − это все созданное человечеством». Аморфность определений не позволяет использовать их как рабочие. Лишь немногие авторы претендуют на анализ феномена культуры как явления, имманентно присущего человеку. Германские историки и философы еще в XIX в. полагали, что существует некая мистическая «душа народа», которую они называли латинизированным словом “Mentalitehet”. И в наше время термин «ментальный» и «ментальность» широко распространены, а слово «менталитет» используется для определения духовной культуры или иррациональных компонентов культуры народа или цивилизации.
Н.Я.Данилевский первым высказал убеждение, что глобальная история вовсе не глобальна, история отдельных цивилизаций не имеет между собой ничего общего [31]. Тем самым он заложил основу теории культурно-исторических кругов, которую в ХХ в. продолжили О. Шпенглер [32], А.Тойнби [33] и Лев Гумилев [34].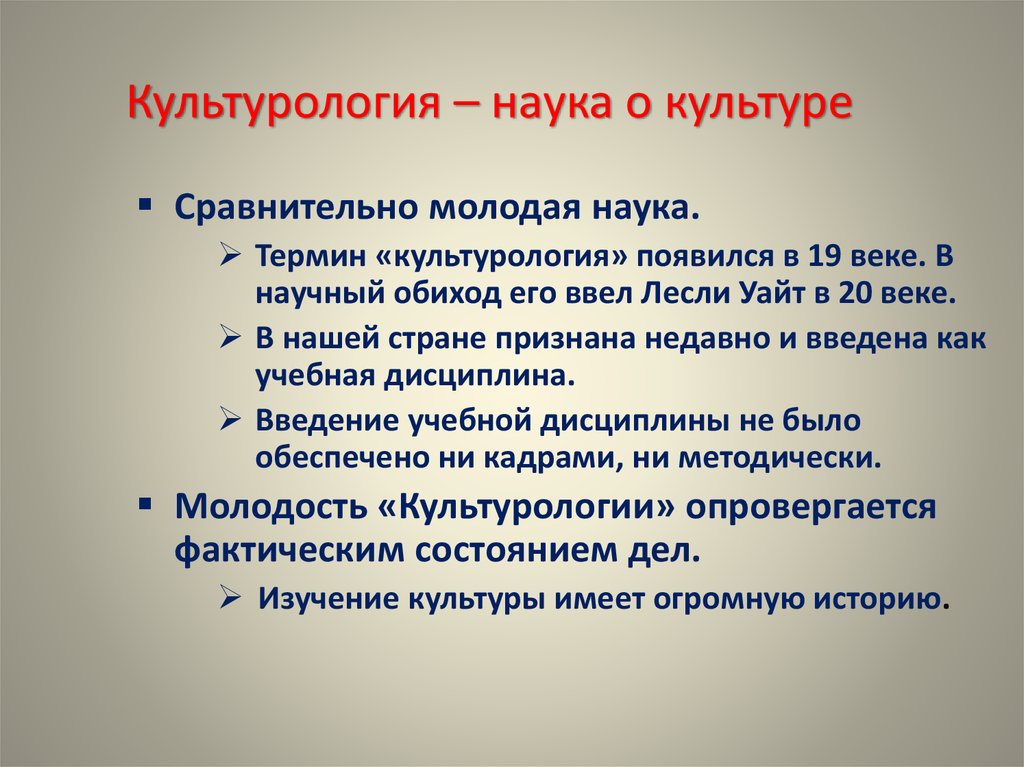 Карл Ясперс не был сторонником этой теории, но его концепция мировой истории, в первую очередь, история развития культуры [35]. Концепция истории школы анналов во многом исходит из того, что история культуры – основное звено, становой хребет истории [36]. Проникая в Россию еще в советское время, концепция проросла во многих исследованиях (обычно без ссылки на источник вдохновения) [37]. Впрочем, и в России вырастала историко-культурологическая школа, только ее развитие было насильственно прервано [38]. Концепция З.Фрейда, согласно которой культура – форма сублимации сексуальной энергии [39], предельно далека от построений глобально-исторического плана, как и теория архетипов К.Юнга [40] или «образов мира» у Эриксона [41]. Но и в этих «культурно-психологических» изысканиях культура – нечто специфически человеческое, невозможное у других животных, и в то же время основополагающее для самоидентификации как отдельного человека, так и крупных исторически сложившихся общностей. В таких концепциях и для Тойнби, и для Юнга культура выступает как система идеальных образов и представлений, в соответствии с которыми организуется материальное – от организации ландшафтов и градостроительства до одежды и прически отдельного человека.
Карл Ясперс не был сторонником этой теории, но его концепция мировой истории, в первую очередь, история развития культуры [35]. Концепция истории школы анналов во многом исходит из того, что история культуры – основное звено, становой хребет истории [36]. Проникая в Россию еще в советское время, концепция проросла во многих исследованиях (обычно без ссылки на источник вдохновения) [37]. Впрочем, и в России вырастала историко-культурологическая школа, только ее развитие было насильственно прервано [38]. Концепция З.Фрейда, согласно которой культура – форма сублимации сексуальной энергии [39], предельно далека от построений глобально-исторического плана, как и теория архетипов К.Юнга [40] или «образов мира» у Эриксона [41]. Но и в этих «культурно-психологических» изысканиях культура – нечто специфически человеческое, невозможное у других животных, и в то же время основополагающее для самоидентификации как отдельного человека, так и крупных исторически сложившихся общностей. В таких концепциях и для Тойнби, и для Юнга культура выступает как система идеальных образов и представлений, в соответствии с которыми организуется материальное – от организации ландшафтов и градостроительства до одежды и прически отдельного человека.
Вершиной «антропологических» определений культуры я склонен считать данное П.И.Вейнбергом: культура – отношение к самому себе, к другим людям, обществу, живой и неживой природе. Это отношение передается новым поколениям в процессе воспитания и проявляется в деятельности [42]. Такое определение позволяет применять его и к индивидуальному человеку, и к любым общностям любого масштаба. Оно максимально операбельно и удобно в использовании. Но легко заметить – на практике все «антропологические» определения касаются вовсе не только человека. Если говорить о психологии, то большая часть феноменов высшей нервной деятельности только у Павлова касается одних только людей. Давно установлено, что животным снятся сны, в их сознании происходит оперирование образами, их анализ и синтез [43]. Так что и символическое поведение человека, по Уайту, может быть сугубо человеческим. Необходимо отметить, что грань между человеком и остальными животными вовсе не так однозначна, как часто пытаются представить. Только у Дарвина и Гексли «промежуточное звено», обезьяночеловек – питекантроп, было заросшим и диким созданием с дубиной в руке. Многолетние исследования археологов и антропологов показывают долгую и неоднозначную картину становления человека. С момента открытия австралопитеков Р.Дарт исходил из того, что они пользовались огнем, владели речью, использовали в качестве орудий палки, кости и рога убитых ими животных. Большинство современных ученых не разделяют «оптимизма» Дарта в отношении австралопитеков. Но как раз изучение ископаемой материальной культуры археологами ставит исследователей в еще более сложное положение, чем палеонтология.
Давно установлено, что животным снятся сны, в их сознании происходит оперирование образами, их анализ и синтез [43]. Так что и символическое поведение человека, по Уайту, может быть сугубо человеческим. Необходимо отметить, что грань между человеком и остальными животными вовсе не так однозначна, как часто пытаются представить. Только у Дарвина и Гексли «промежуточное звено», обезьяночеловек – питекантроп, было заросшим и диким созданием с дубиной в руке. Многолетние исследования археологов и антропологов показывают долгую и неоднозначную картину становления человека. С момента открытия австралопитеков Р.Дарт исходил из того, что они пользовались огнем, владели речью, использовали в качестве орудий палки, кости и рога убитых ими животных. Большинство современных ученых не разделяют «оптимизма» Дарта в отношении австралопитеков. Но как раз изучение ископаемой материальной культуры археологами ставит исследователей в еще более сложное положение, чем палеонтология.
Палеонтология и археология поневоле дают очень противоречивые сведения об одних и тех же эпохах. Палеонтологические определения Homo habilis`а до сих пор неопределенны. Некоторые ученые считают его не человеком, а австралопитеком (подчеркиваю − «считают», с точки зрения биологической систематики; вопрос о «разумности» и о владении культурой пока не обсуждается) [44]. Другие − признают человеком [45]. Третьи склонны считать «промежуточным», совсем особым существом [46]. Было ли это существо человеком – неясно. А культура у него уже есть. С точки зрения биологической систематики, все выглядит сравнительно логично, последовательно, убедительно. Существует род avstralopitekos. Его происхождение и история сравнительно хорошо изучены. Австралопитеки – высокоорганизованные животные, наиболее вероятные предки рода Hоmo. Но в этом роду появляются такие «прогрессивные» существа, как «Люси» [47], а потом от него «отпочковываются» Homo № 3733 оз Кооби-Фора, и Homo habilis из Олдувайского ущелья [48].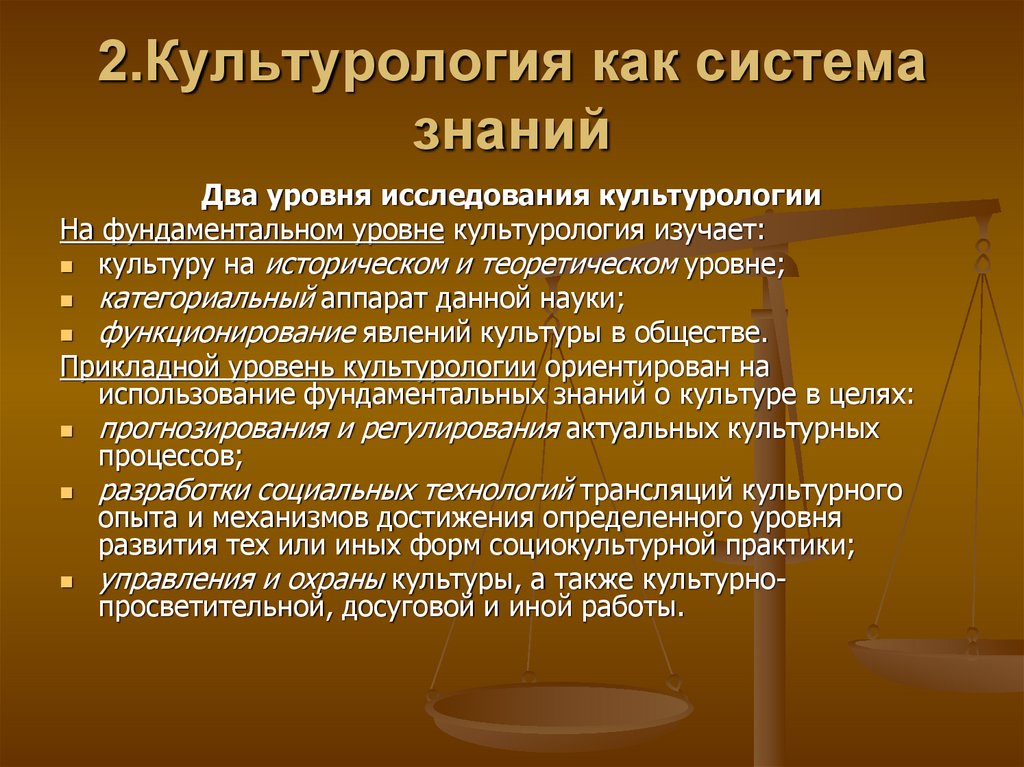 Поскольку эти существа изготовляют каменные орудия, а habilis вскоре овладевает огнем, начинает строить ветровые заслоны, а потом и жилища, начинает активные охоты [49], то вроде бы «очевидно», – на Земле появляется мыслящее существо, активный охотник, преобразователь окружающего. Но человеком, с точки зрения биологии, австралопитек не является! Человека еще нет, а материальная культура уже есть: многим находкам олдувайской культуры по четыре и по пять миллионов лет.
Поскольку эти существа изготовляют каменные орудия, а habilis вскоре овладевает огнем, начинает строить ветровые заслоны, а потом и жилища, начинает активные охоты [49], то вроде бы «очевидно», – на Земле появляется мыслящее существо, активный охотник, преобразователь окружающего. Но человеком, с точки зрения биологии, австралопитек не является! Человека еще нет, а материальная культура уже есть: многим находкам олдувайской культуры по четыре и по пять миллионов лет.
Даже для представителей рода Homo все выглядит не так уж однозначно. С точки зрения Б.В.Поршнева, даже ранние представители людей – вовсе не разумные существа. Создание каменных орудий, строительство жилищ он считает вполне вероятным проявлением сложной инстинктивной деятельности. Известные археологам местонахождения каменных орудий без культурного слоя считает вполне убедительным свидетельством именно такого рода инстинктивного создания материальной культуры – без проявлений интеллекта [50]. Согласно Поршневу, только у человека современного биологического вида, Homo sapiens, деятельность сравнительно разумна [51]. Вряд ли исследователь полностью прав. Находки образцов древнейшего искусства, «каменных ящиков», наполненных черепами пещерных медведей уверенно относят к эпохе мустье. Находка в Торральбе половины туши южного слона, рассеченного повдоль, а потом перенесенного на несколько километров [52] доказывают, что уже задолго до sapiens`ов люди предшествующего биологического вида Homo erectus могли совершать очень сложные символические действия. Но и эректусы ведь не были, строго говоря, людьми – биологически они современному человеку не тождественны.
Еще более интересны доказательства того, что между стадами современных шимпанзе вполне определенно существуют различия на этнографическом, а не биологическом уровне. Шимпанзе путем обучения передают определенные способы пользоваться веточками для извлечения термитов из термитника.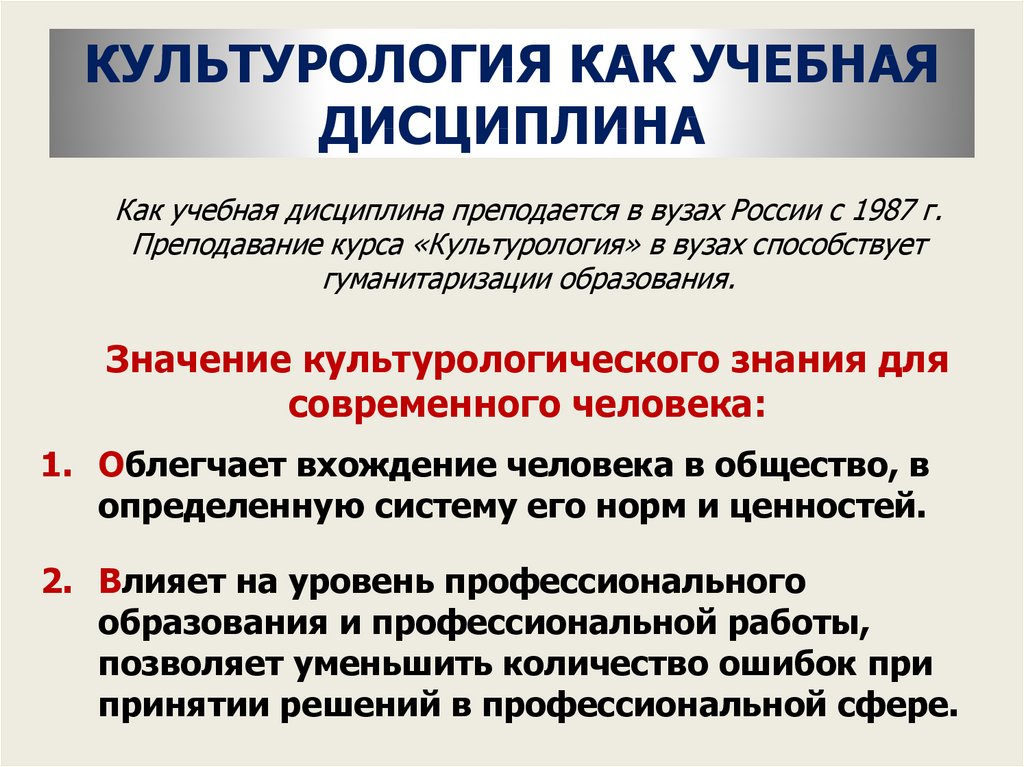 В одних стадах эти веточки длиной в 70 см, в других – около 50. В одних группах шимпанзе термитов, прилипших к очищенной веточке, снимают рукой и отправляют в рот. В других – пропускают через губы саму палочку. Причем детенышей именно учат такого рода действиям, они не наследуются, как сложные инстинктивные программы [53]. Обучение шимпанзе азбуке глухонемых доказало, что эти животные (или не совсем животные?) придают символам значение, сравнимое с тем, которое придает им человек. Они способны шутить, компоновать символы, вполне рассудочно оперировать понятиями [54]. Шимпанзе в дикой природе изготовляют каменные орудия. Делают они это редко, но интенсивность орудийной деятельности у шимпанзе сравнима с деятельностью австралопитеков, которые имели преимущество: ходили вертикально, используя руки для трудовой деятельности. Другие различия не особенно велики.
В одних стадах эти веточки длиной в 70 см, в других – около 50. В одних группах шимпанзе термитов, прилипших к очищенной веточке, снимают рукой и отправляют в рот. В других – пропускают через губы саму палочку. Причем детенышей именно учат такого рода действиям, они не наследуются, как сложные инстинктивные программы [53]. Обучение шимпанзе азбуке глухонемых доказало, что эти животные (или не совсем животные?) придают символам значение, сравнимое с тем, которое придает им человек. Они способны шутить, компоновать символы, вполне рассудочно оперировать понятиями [54]. Шимпанзе в дикой природе изготовляют каменные орудия. Делают они это редко, но интенсивность орудийной деятельности у шимпанзе сравнима с деятельностью австралопитеков, которые имели преимущество: ходили вертикально, используя руки для трудовой деятельности. Другие различия не особенно велики.
Если понимать под культурой способность создавать «вторую природу», то не очень понятно, где грань. Протаптывая тропинки, строя гнезда и роя норы, создавая целые рукотворные ландшафты, как это делают бобры, многие виды высших животных создают именно «вторую природу». Их деятельность считается инстинктивной, как и издаваемые ими звуки, с помощью которых животные коммуницируют. Но все высшие животные еще и обучают своих детенышей определенному поведению, и без родительского, а то и стайного воспитания представитель вида не становится полноценной взрослой особью. Выращенный собаками котенок бросается на грудь хозяину, а выращенный кошками щенок очень старается мурлыкать. Своего рода Маугли животного мира. Где-то проходит неуловимая грань, после преодоления которой негенетические способы передачи информации становятся настолько важны, что инстинктивные отступают на второй план. Это грань рождения культуры. И если так, шимпанзе (возможно, и другие человекообразные обезьяны) уже находятся ЗА этой гранью.
Парадоксально – но анализ именно «антропологических» определений культуры заставляет нас уверенно заявить: вовсе не только люди обладают культурой. Культура рождается ДО человека, и может быть родовым свойством ДРУГИХ ВИДОВ, помимо человека.
Культура рождается ДО человека, и может быть родовым свойством ДРУГИХ ВИДОВ, помимо человека.
Экологические определения культуры
По Э.Маркаряну культура − это способ общества адаптироваться в природной и социальной обстановке [55]. Действительно: каждая культура распространена не на всей Земле, а только на части ее территории: имеет определенное широтное и долготное расположение, высоту над уровнем моря и т.д. Тем самым культура имеет свою географию и предлагает формы адаптации именно к данным физико-географическим условиям. Культура по-разному использует разные ландшафты, которые встречаются на ее территории. Л.Н.Гумилев описывает жизнь якутов, осваивавших долины рек, и эвенков, живших в междуречьях [56]. Обитая на одной территории, якуты и эвенки практически никогда не встречались. Точно так же русские и финно-угорские племена по-разному относились к поймам рек, к опольям и к широколиственным лесам. Применяя экологическое понимание культуры, Лев Гумилев смог отыскать ископаемые остатки материальной культуры хазар [57]: он исходил из того, что в зависимости от типа хозяйства и поселения человека привязаны к определенным точкам ландшафта. Фактически то же сделал и Г.Б.Федоров: он предположил, что летописное упоминание о тиверцах «сидяху на Днестре» должно иметь другое значение: на притоках Днестра. Ведь вести земледельческо-скотоводческое хозяйство непосредственно на обрывистых берегах Днестра физически невозможно. Федоров с трудом убедил руководство Института археологии в осмысленности своего эксперимента и нашел погребения и поселения тиверцев [58]. Эти примеры доказывают рабочий характер экологического понимания культуры. Действительно: культура имеет всегда уникальный набор «своих» ландшафтов, и обитает в данном наборе. Ландшафты входят составной частью в культуру и осмысливаются там в соответствии с ее системой идеальных представлений. А система хозяйства формирует определенные идеальные представления. По Э.Кульпину, особенности китайской цивилизации вызваны именно системой ирригационного земледелия [59].
По Э.Кульпину, особенности китайской цивилизации вызваны именно системой ирригационного земледелия [59].
Каждая культура имеет свою экологию – свою, всегда совершенно оригинальную систему пищевых и производственно-хозяйственных цепочек. Даже в одном и том же ландшафте и при одном уровне развития и способе хозяйствования разные культуры создают разные пищевые цепочки и производственно-хозяйственные цепочки. Достаточно сравнить систему полевых культур немцев, эстонцев и русских в зоне их совместного чересполосного расселения в Прибалтике.
Каждая культура имеет свою энергетику. Жизнь на Земле вообще существует за счет энергии Солнца. Притекая к Земле, космическая энергия превращается в свои земные виды, аккумулируется в животных и растениях, в природных системах. Каждую культуру можно представить себе в виде энергетической системы, которая существует за счет притока энергии Солнца. Культура извлекает энергию, распределяет ее, накапливает и использует. Важнейшими характеристиками здесь является способность к получению максимально возможного количества энергии, умение ее накапливать и расходовать на цели, определяемые системой ценностей: на возведение сооружений, ведение войн, исследование окружающего мира, частную жизнь и т.д. Так подходит к определению и описанию культуры И.И.Крупник, отталкиваясь от материала арктических обществ [60]. На ранних стадиях развития культуры природная обстановка определяет ее в наибольшей степени, чем другие факторы. По мере развития культура становится независимее от природной обстановки. Теперь уже сама культура начинает формировать «природу вне человека» все в большей и большей степени, превращая в один из ее элементов. И Баландин [61], и Назаретян видят природу как «подсистему планетарной цивилизации» [62]. Автору этой статьи доводилось показывать, что, строго говоря, на современной Земле не существует природно-географических зон: «зона широколиственных лесов» и «зона степей» одинаково превращены в антропогенные ландшафты [63].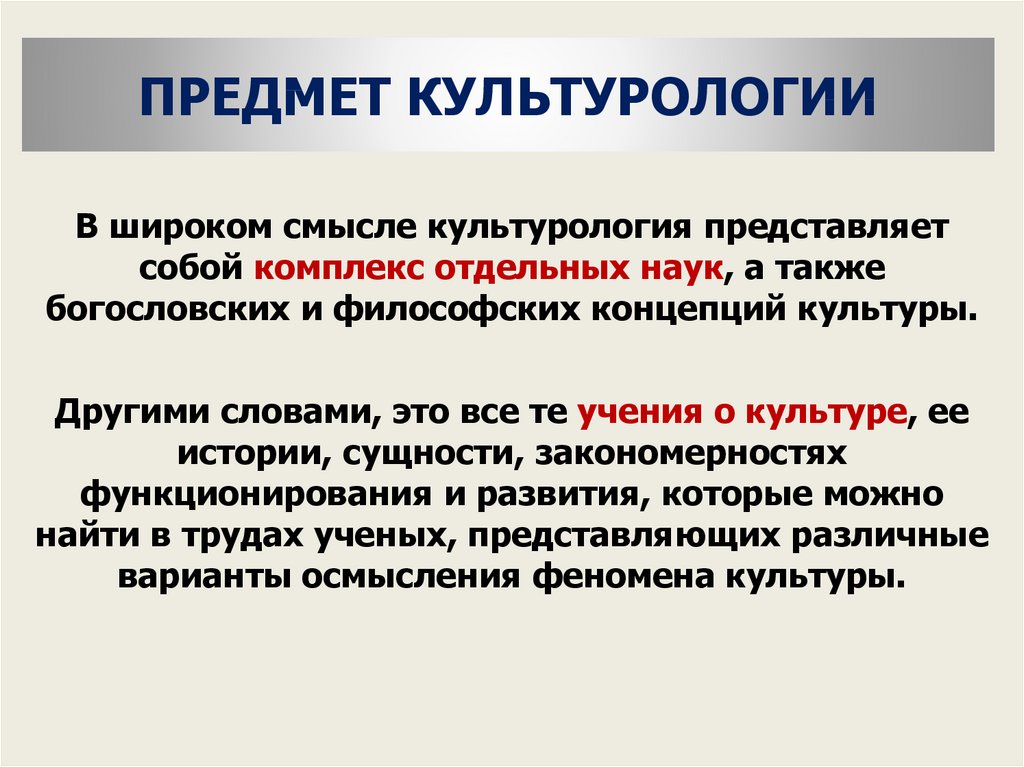
Космопланетарное определение культуры
Культура создает не только отдельные материальные обьекты или их совокупности − но очень сложные био-гео-техногенные структуры, связанные с изменением и усложнением ландшафтных и иных материальных систем путем их рассудочного и целенаправленного преобразования. Американские сторонники «эмерджентной эволюции» [64] и многие философы России и Запада неоднократно писали на данную тему. Но точнее и последовательнее всех показывал это В.И.Вернадский. Культура создает новую реальность сначала в масштабах отдельно взятого планетного тела «Земля», а в некоторой потенции – и в масштабах обозримого космоса. В какой-то степени культура – и есть такая новая реальность. А одновременно культура – закономерное порождение глобальной эволюции. Культура выступает не столько продуктом или свойством человеческого сознания или общественной деятельности, сколько фактором развития не много и не мало – Мироздания. Для современной науки вполне очевидно, что Вселенная, в конечном счете, представляет собой единую суперсистему, обладающую, по крайней мере, одним вектором глобального развития. Вселенная в целом и все входящие в нее подсистемы постоянно усложняются, и при этом интеллектуализируются, наполняются разумом. Роль информационных процессов, интеллектуального начала, рассудочного управления в каждой из систем и в Мироздании в целом поступательно увеличивается. В биологической эволюции это проявляется в появлении видов с все более развитым мозгом, все более сложным поведением, все большей независимостью от окружающей среды, все большей способностью преобразовывать эту среду. Данный процесс в живой природе В.И.Вернадский вслед за американским палеонтологом Дана, назвал цефализацией [65]. Появление и предков человека, и самого человека глубоко закономерно и естественно. Культура просто не могла не появиться и не стать все усиливающимся фактором глобальной эволюции. То, что тело человека состоит из праха умерших звезд, есть не только красивая метафора, но и хорошо известный естественнонаучный факт.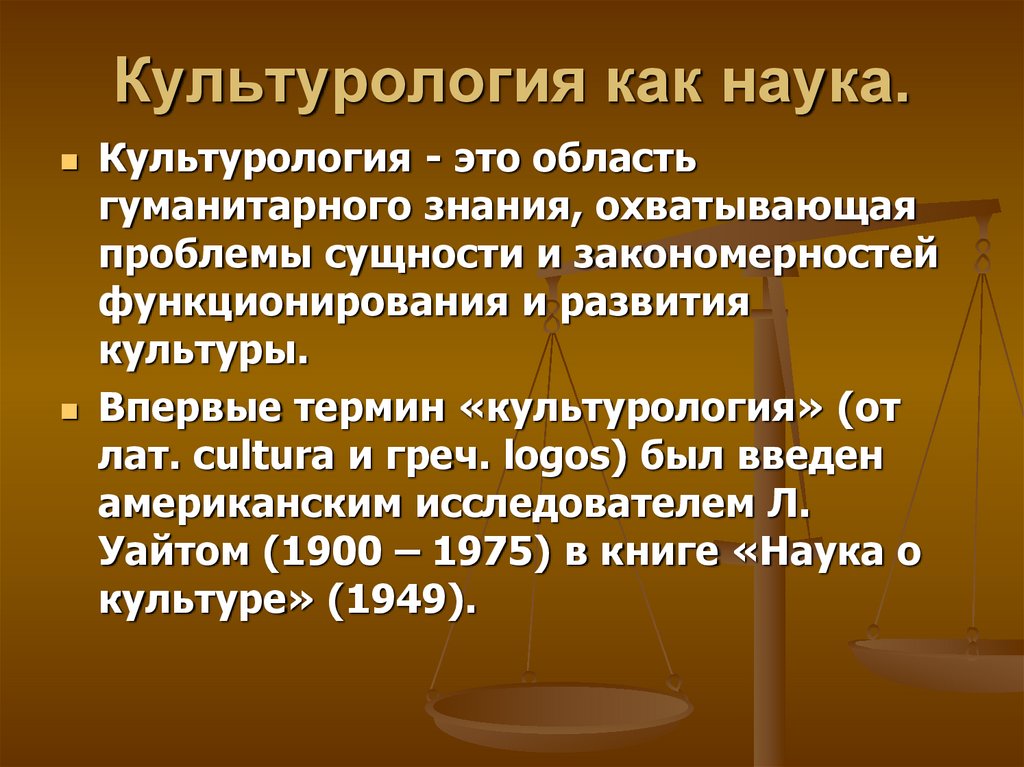 Точно так же представления древних, что человек – «микрокосм в макрокосме», отражающий Вселенную в своем строении, организации и сознании, вовсе не только фигура речи. Этому есть много свидетельств, которые производят порой ощущение, чуть ли не мистики [66].
Точно так же представления древних, что человек – «микрокосм в макрокосме», отражающий Вселенную в своем строении, организации и сознании, вовсе не только фигура речи. Этому есть много свидетельств, которые производят порой ощущение, чуть ли не мистики [66].
Точно так же и культура космопланетарна. И в самом факте ее появления, и в процессе ее саморазвития хорошо видно действие глобальной закономерности усложнения и интеллектуализации. Причем процесс интеллектуализации и рационализации культуры, вытеснения менее рационализованных вариантов более «прогрессивными» очень напоминает цефализацию биосферы. Культура выступает и как фактор принципиального изменения, по крайней мере, двух ключевых систем Вселенной – и тоже согласно этому вектору. Культура создает, во-первых, самого человека как биотехногенное существо. Как существо, все менее зависящее от любых геологических или биогенных процессов, от каких-либо природных закономерностей (или случайностей). То есть усиливает культурное, вытесняя природное в самом человеке [67]. Культура творит планету Земля. Вовсе не живые организмы делают Земной шар таким, каким мы его знаем, а деятельность людей. И эволюция Земного шара происходит не за счет биогенных, а за счет антропогенных процессов. Люди, а не животные и растения, определяют ход эволюции. С появлением человека и, особенно, с появлением антропогенных ландшафтов уже вовсе не живое, а мыслящее вещество определяет ход этих геологических и энергетических процессов. Благодаря культуре и ее развитию мы можем во все возрастающей степени получать, перерабатывать и хранить информацию, все больше включать в информационное поле давно умерших людей (как в нем присутствуют сегодня Аристотель, Лев Толстой или В. Высоцкий). И во все большей степени использовать это информационное поле для преобразования окружающей действительности. В настоящий момент культура изменяет только вещество Земли – но в потенции она готова и к изменению всего вещества Вселенной, которое окажется в пределах ее досягаемости. Конечно же, предполагаемая «постчеловеческая» цивилизация может оказаться и предвидением, и несбывшимся ожиданием. Но если эта постчеловеческая космическая цивилизация состоится, трансформации начнет подвергаться и вещество иных космических тел, помимо Земли. Таким образом, культура способна развиваться и после, и вне человека; и готова к трансформации вещества и организации энергетических потоков вне планеты Земля. То есть, способна выполнить ту же функцию преобразования и создать уже не антропогеосферу [68], а космосферу.
Конечно же, предполагаемая «постчеловеческая» цивилизация может оказаться и предвидением, и несбывшимся ожиданием. Но если эта постчеловеческая космическая цивилизация состоится, трансформации начнет подвергаться и вещество иных космических тел, помимо Земли. Таким образом, культура способна развиваться и после, и вне человека; и готова к трансформации вещества и организации энергетических потоков вне планеты Земля. То есть, способна выполнить ту же функцию преобразования и создать уже не антропогеосферу [68], а космосферу.
Попытка «синтезной культурологии»
С точки зрения классической науки, необходимо выбрать один подход к понятию культуры, и тем самым исключить любые остальные. И предложить это определение, как единственно возможное и универсальное. К счастью, уже давно, с момента появления «принципа относительности» Пуанкаре-Эйнштейна [69], «принципа дополнительности» Н.Бора [70], существует неклассическая наука, в которой картина мира в целом и каждого объекта исследования создается не одной дисциплиной, а их совокупностью. В конце концов, мы живем не в мире умозрительных схем, а в мире феноменов. Схема отражает феномен, возникая в нашем индивидуальном или коллективном сознании (тот самый символ Сепира и Уайта, архетип Юнга, картина мира Эриксона). Чем больше научных дисциплин рассматривают феномен, тем большим числом схем мы можем пользоваться, как инструментами познания. Феномен культуры может рассматриваться с разных ракурсов, в разных аспектах, и в этом совершенно не обязательно видеть некое непримиримое противоречие. Остановка за такой структурой дисциплин, изучающих культуру, которая сможет обеспечить максимально полное понимание сущности и исследование разных сторон феномена. Культурология – не одна дисциплина, а скорее несколько научных дисциплин, объединенных объектом исследования, но имеющих разные предметы.
«Синтезная теория эволюции»
В середине ХХ в. стало невозможно буквально понимать то, о чем писал Ч.Дарвин и другие эволюционисты XIX в. Новые знания, частью созданные в новых науках типа этологии или генетики, не позволяли принимать всерьез «теорию полового отбора» и видеть в эволюции живых организмов только действие законов Менделя и Вейсмана. «Синтезная теория эволюции» включила в себя и это новое знание, и представление об одновременно действующих, но разных факторах эволюции. Эволюционизм М.И.Будыко [71] и А.Л.Яншина [72] мало напоминает сочинения Гексли и Дарвина, но это – эволюционизм!
стало невозможно буквально понимать то, о чем писал Ч.Дарвин и другие эволюционисты XIX в. Новые знания, частью созданные в новых науках типа этологии или генетики, не позволяли принимать всерьез «теорию полового отбора» и видеть в эволюции живых организмов только действие законов Менделя и Вейсмана. «Синтезная теория эволюции» включила в себя и это новое знание, и представление об одновременно действующих, но разных факторах эволюции. Эволюционизм М.И.Будыко [71] и А.Л.Яншина [72] мало напоминает сочинения Гексли и Дарвина, но это – эволюционизм!
Попытка создать «синтезную теорию культуры» или «синтезную культурологию» означает создание такой же по смыслу теории развития человека и культуры. Такая «синтезная культурология» будет отличаться от культурологии не только Фрэзера и Тейлора, но и от культурологи Уайта, но это будет культурология.
Попытаемся обобщить то, что уже сказано о сущности культуры.
1. Культура – способность части высокоорганизованных существ (не обязательно людей) передавать информацию негенетическим путем.
2. Культура – система создания «второй природы», т.е. целенаправленное и рассудочное извлечение, перемещение, трансформация вещества, энергии и информации. Вторая природа существует в виде объектов материальной культуры.
3. Культура – естественное порождение эволюции вещества во Вселенной, следствие и фактор глобальной эволюции. Это закономерно возникающее явление теоретически возможно в любой части известной человеку Вселенной, и на любом биогенном субстрате.
4. Культура – способ адаптации любого биологического вида, обладающего негенетическим способом передачи и переработки информации, к обитанию на любом планетном теле. В известной нам Вселенной − это способ адаптации нескольких высокоорганизованных биологических видов к обитанию на планете Земля.
5. Для культуры человека (Homo sapiens) культура – отношение к самим себе, другим людям, живым существам, к обществу, живой и неживой природе, которое формируется в больших коллективах людей (семьи, сословия, профессиональные группы, народы, религии, цивилизации), развивается, дополняется и передается новым поколениям. Это отношение становится основой для адаптации человека к природным и социальным условиям для целенаправленного изменения «первой природы» и создания «второй природы» – объектов материальной культуры.
Это отношение становится основой для адаптации человека к природным и социальным условиям для целенаправленного изменения «первой природы» и создания «второй природы» – объектов материальной культуры.
6. Культура – система символов (т.е. образов и вербально-логических схем), существующих в индивидуальном и групповом сознании.
7. Культура – система символов, визуализированных в объектах материальной культуры.
Все эти определения культуры следует считать рабочими – ими можно пользоваться при анализе и осмыслении явления, но ни одно из них не является универсальным и единственным. Каждое из семи определений позволяет построить модель изучаемого феномена, культуры. В дальнейшем мы работаем с такой моделью, а при необходимости заменяем ее другой по масштабу или по направленности. Так мы берем пилу для одних операций и долото – для совершенно других. Многое зависит просто от масштаба и от ракурса исследования. Нет смысла говорить о космопланетарном аспекте культуры, если мы изучаем адаптацию данного общества к природной или этнокультурной среде. И нет смысла говорить о системе символов, осмысливая культуру как порождение глобальной эволюции. Противоречий тут не больше, чем между пилой и долотом. Но разумный человек всегда помнит, что феномен больше и сложнее любой, пусть самой сложной и многогранной модели. И любой совокупности моделей.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990.
[2] Очень похожие по смыслу и духу представления мне доводилось слышать от лингвистов и филологов. Для них язык – это самостоятельная субстанция, со своими закономерностями развития. Мы думаем, что разговариваем на языке, но скорее язык разговаривает нами.
[3] Тинберген Н. Поведение животных. М.,1985; Зорина З. А., Полетаева И. М. Основы этологии и генетики поведения. М., 1999.
[4] Дольник В. Портрет человека в компании птиц и зверей. М.,1995.
М.,1995.
[5] Michio K. Twelve Propositions on the Self. A study of Cognitive Consistency in the Sociological Perspective. Sociologiska Institutionen. Uppsala, 1971.
[6] Уайт Л. Возникновение и природа речи // Работы Л. А.Уайта по культурологи: сб. М., 1996. С. 60.
[7] White L.A. Culturological and Psychological Interpretations of Human Behaviour // American Sociological Review. December. 1947.
[8] Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.
[9] Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
[10] Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
[11] Уайт Л. Указ. соч. С. 98.
[12] White L.A. The concept of cultural systems: A key to understanding tribes and nations. N.Y., 1975.
[13] White L.A. The Science of Culture: A Study of Man and Civilization. N. Y., 1949.
[14] Уайт Л. Избранное: эволюция культуры: пер. с англ. М., 2004; Уайт Л. Избранное: наука о культуре. М., 2004.
[15] Klemm G. Allgemeine Cultur-Geschichte der Menschheit. Bd. 1−10. Leipzig, 1843−1852.
[16] Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1982.
[17] Тейлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
[18] I Российский культурологический конгресс, 25−29 авг. 2006 г., Санкт-Петербург: [материалы]. СПб, 2006.
[19] Айхенлауб К. В тени власти и эроса: комплекс Кассандры и психическое онемение // Единство и многообразие в религии и культуре. Философские и психологические корни глобальных противоречий = International readings of theory, history and philosophy of culture. СПб, 2006. № 22. С. 129−133.
[20] Кэллен Дж. МакГрэс. Комплекс козла отпущения: архетипические черты «культуры разрыва» // Единство и многообразие… С. 114−123.
МакГрэс. Комплекс козла отпущения: архетипические черты «культуры разрыва» // Единство и многообразие… С. 114−123.
[21] Конева А. Проблемы идентичности в динамике современного исторического процесса // Единство и многообразие… С. 195−202.
[22] Пыляев М.И. Старый Петербург. СПб., 1889; Пилявский В.И. Архитектура Ленинграда. Л.; М., 1953; Шварц В.С. Ленинград. Художественные памятники: очерки. Л.; М., 1957.
[23] Серпокрыл С.М. Дворцовая площадь. Л., 1973; Чеканова О.А., Ротач А.Л. Огюст Монферран. Л., 1990.
[24] Иванов Вяч. Вс. К семиотическому изучению культурной истории большого города // Труды по знаковым системам. Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Тарту, 1986. Вып. 720; Вилинбахов Г.В. Основание Петербурга и имперская эмблематика // Труды по знаковым системам. XVIII. Семиотика города и семиотика культуры. Петербург. Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Тарту, 1984. Вып. 664; Тарабукин Н. Смысловое значение диагональных композиций в живописи // Труды по знаковым системам. Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Тарту, 1973. Вып. 303; Жегин Л.Ф. Пространственно-временное единство живописного произведение // Программа и тезисы докладов в летней школе по вторичным моделирующим системам, 19−29 авг. 1964 г. Тарту, 1964.
[25] Пользуюсь случаем вынести благодарность директору Института социологии и управления социальный процессов Андрею Вячеславовичу Фролову за эту ценную информацию.
[26] Лев-Старович З. Секс в культурах мира. М., 1991.
[27] Большая советская энциклопедия. 3. изд. М., 1973. Т. 13.
[28] Сказкин С.Д. История Средних веков. М., 1990.
[29] Лотман Ю.М. К проблеме типологии культуры // Труды по знаковым системам. Тарту, 1967.
[30] Kroeber A.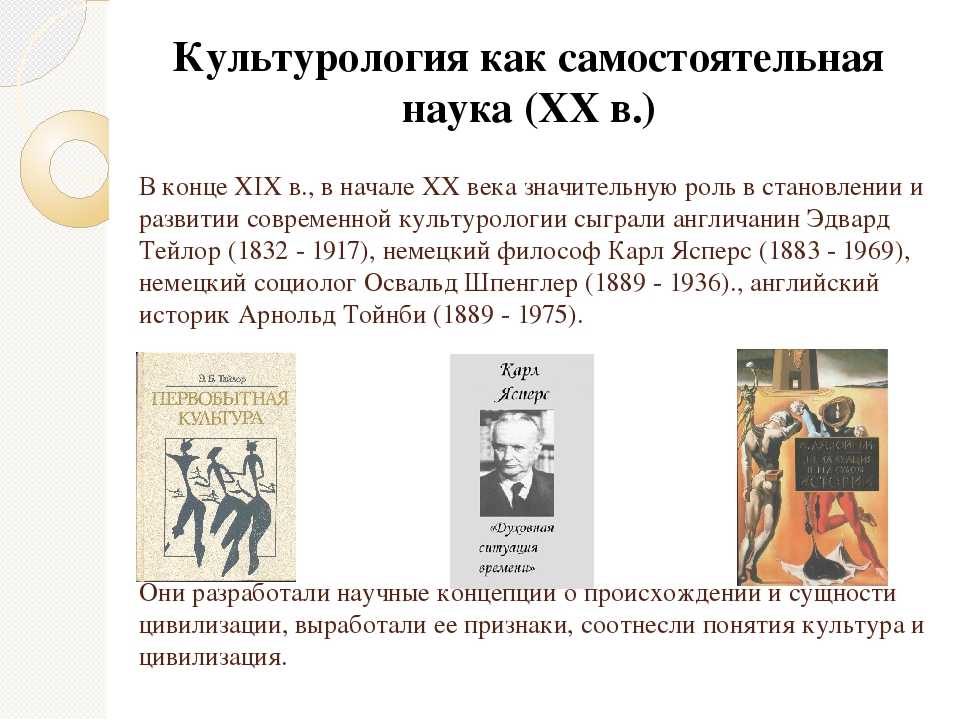 L., Kluckhohn C. Culture: a critical review of concepts and definition. Papers of the Peabody museum of American archaeology and ethnology 47. Cambridge (Mass.), 1952.
L., Kluckhohn C. Culture: a critical review of concepts and definition. Papers of the Peabody museum of American archaeology and ethnology 47. Cambridge (Mass.), 1952.
[31] Данилевский Н.Я. Европа и Россия. М., 1999.
[32] Шпенглер О. Закат Европы. Пг., 1922.
[33] Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1993.
[34] Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989.
[35] Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
[36] Ле Гоф Ж. Цивилизации средневекового Запада: пер. с франц. М., 1992.
[37] Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
[38] Милюков П.Н. Очерки истории русской культуры. М., 1993. Т. 1.
[39] Фрейд З. Я и Оно. М., 1980.
[40] Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.
[41] Эриксон Э.Г. Детство и общество. СПб., 1996.
[42] Вейнберг П.И. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986.
[43] Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной. Истоки, становление, перспективы: очерки междисциплинарной теории прогресса. М., 1991.
[44] Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М., 1977.
[45] Нестурх М.Ф. Происхождение человека. М., 1976.
[46] Якимов В.П. Ископаемые гоминиды и происхождение человека. М., 1966.
[47] Джохансон Дж., Иди Д. Люси. Истоки рода человеческого. М., 1984.
[48] Палеолит Африки. М., 1977. С. 202−240.
[49] Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. Прага, 1985.
[50] Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966.
М., 1966.
[51] Поршнев Б.В. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. М., 1974.
[52] Уайт Э., Браун Д. Первые люди. М., 1978.
[53] Вишняцкий Л.Б. История одной случайности, или Происхождение человека. Фрязино, 2005.
[54] Зорина З.А., Смирнова А.А. О чем рассказали говорящие обезьяны. М., 2006.
[55] Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван, 1969.
[56] Гумилев Л.Н. Указ. соч. С. 346.
[57] Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. Л., 1966.
[58] Федоров Г.Б. Итоги трехлетних работ в Молдавии в области славяно-русской археологии // Краткие сообщения института истории материальной культуры. М., 1954; Вып. 56.
[59] Кульпин Э.С. человек и природа в Китае. Опыт социоестественной истории. М., 1990.
[60] Крупник И.И. Арктическая этноэкология. Модели традиционного природопользования морских охотников и оленеводов Северной Евразии. М., 1989.
[61] Баландин Р.К. Область деятельности человека. Техносфера. Минск, 1982. С. 121.
[62] Назаретян А.П. Законы природы и инерция мышления (комментарий по поводу) // Общественные науки и современность. 1998. № 4. С. 152−161.
[63] Буровский А.М. Человек из биосферы. Постнекласическое знание versus классическая экология // Общественные науки и современность. 1999. № 3. С. 53−69.
[64] Morgan C.L. Emergent evolution. L., 1927; Le Boutillier C., Religious values in the philosophy emergent evolution. N.Y., 1936.
[65] Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1989.
[66] Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. М., 1983; Казначеев В.П. Феномен человека: космические и земные истоки. Новосибирск, 1991; Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека. Проблема комплексного изучения. Новосибирск, 1991.
М., 1983; Казначеев В.П. Феномен человека: космические и земные истоки. Новосибирск, 1991; Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека. Проблема комплексного изучения. Новосибирск, 1991.
[67] Зубаков В.А. Эволюция и человечество // Эволюция геологических процессов в истории Земли. М., 1993. С. 326−336.
[68] Буровский А.М. Антропоэкософия. М., 2005.
[69] Принцип относительности. М.,1935.
[70] Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1964.
[71] Будыко М.И. Изменение окружающей среды и смена последовательных фаун. Л., 1982.
[72] Яншин А.Л. Эволюция геологических процессов в истории Земли. Л., 1988.
© Буровский А. М., 2011
Статья поступила в редакцию 26 апреля 2011 г.
Буровский Андрей Михайлович,
доктор философских наук, кандидат исторических наук,
профессор кафедры этноконфессионального страноведения
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики
(Сакнт-Петербург)
e-mail: [email protected]
Наверх
Понятие культурологии
Слово культурология в переводе на русский язык буквально значит «учение о культуре». В более точном значении – наука о культуре. Культура суть слов, возникшее в латинском языке. В самом простом определении – способ человеческой деятельности. Понятие культурологии используется многими науками. В силу этого в настоящий день насчитывают свыше 500 определений культуры. Данное многообразие связано с гносеологическими причинами, ибо понятие раскрывает свой смысл через понятия конкретной науки. Но многообразие определений раскрывает богатство содержания исходного понятия культуры.
Культурология сравнительно молодая наука, возникла в 20 веке. Вплоть до 19 века новые науки возникали как результат дробления объекта научного исследования на части. К 19 веку данный процесс пришел к логическому пределу. Дробить дальше не было смысла. Но творческий процесс по созданию новых наук продолжился. Однако направление его изменилось. Новые науки стали появляться в результате объединения усилий представителей конкретных наук в связи с решением какой-либо конкретной проблемы. В качестве примера можно назвать экологию. В ряду актуальных проблем обозначилась культура (исследования по антропологии семиотике и проч.).
Вплоть до 19 века новые науки возникали как результат дробления объекта научного исследования на части. К 19 веку данный процесс пришел к логическому пределу. Дробить дальше не было смысла. Но творческий процесс по созданию новых наук продолжился. Однако направление его изменилось. Новые науки стали появляться в результате объединения усилий представителей конкретных наук в связи с решением какой-либо конкретной проблемы. В качестве примера можно назвать экологию. В ряду актуальных проблем обозначилась культура (исследования по антропологии семиотике и проч.).
Изучающий культурологию должен иметь четкое представление о том, что такое научное знание. Наука, или научное знание, не тождественно книжной мудрости, ибо последняя, скорее, итог, плод научного исследования. Но научное знание не тождественно со знанием вообще. Существовали древние цивилизации (Египет, Вавилония и др.), обладающие обширным познанием, но не имевшие науки. Наука возникла в Древней Греции как философия. Научное знание достигается путем личного, свободного поиска истины ради нее самой, как знание, проверяемое эмпирически и логически. Сначала была одна наука – философия, которая включала все знание. Затем, по мере роста научного знания возникли специальные научные дисциплины – физика, астрономия, политология. Предмет их – часть мира. Специализация ученых в некоторых случаях вредит научному исследованию, вредит решению конкретных практических проблем. Многоаспектность проблемы вызвало процесс интеграции. Так возникло понятие культурологии. К сказанному необходимо добавить, что культурология как комплексная научная дисциплина полагает использование многоаспектного метода, т.е. многих методов и методик.
Любая наука использует специфическую системы понятий, позволяющих выявить закономерности предмета исследования. Основные, исходные понятия науки (иногда их, впрочем, не совсем верно) называют категориями. Они очерчивают предмет культурологического исследования. Конкретно к ним относят понятия культурологии, а именно: «культуры», «культурной динамики», «морфологии культуры», «культурогенеза», «инкультурации», «культуной традиции», «инновации», «материальной и духовной культуры», «технической культуры», «контркультуры», «массовой и элитарной культуры» и т.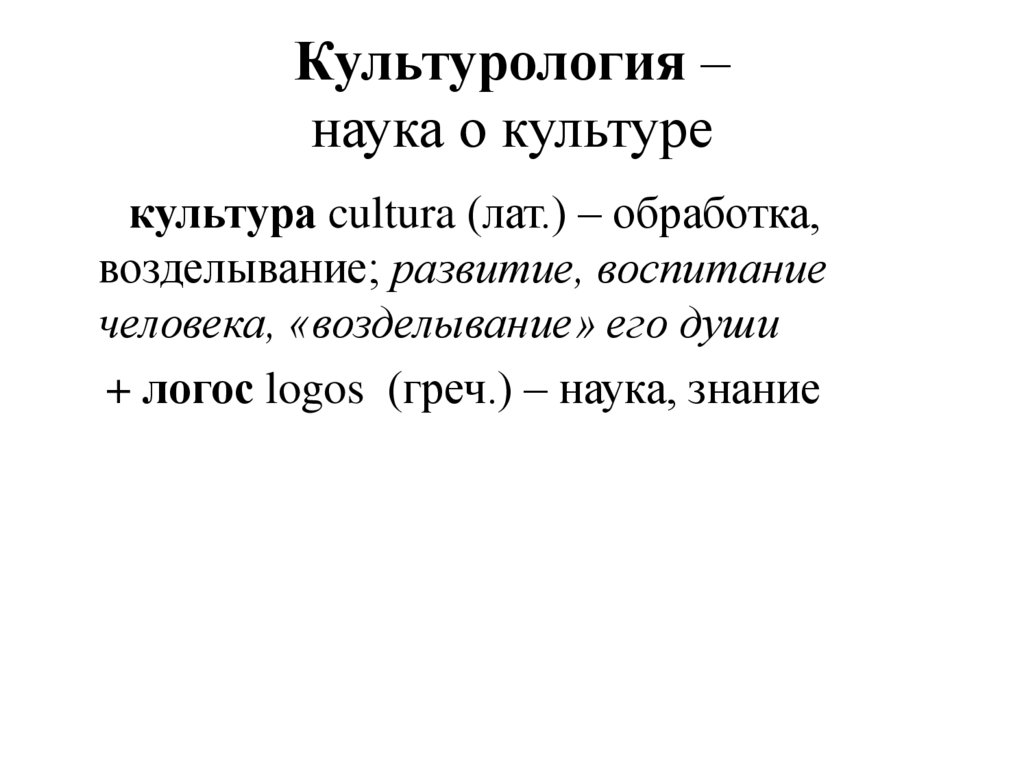 д. Установление их точного смысла является задачей культурологии как науки. Уяснение этого смысла – задача изучающего данную науку.
д. Установление их точного смысла является задачей культурологии как науки. Уяснение этого смысла – задача изучающего данную науку.
Понятие функции имеет вполне ясный смысл. Данное понятие в культурологии увязано с системной концепцией. Функция – это отношение элемента к другому элементу и системе как целому. Культура суть элемент бытия. Исследовать ее функции, значит, выявить ее отношения к природе, обществу, личности. Выявление данных функций позволяет лучше понять специфику предмета и практическую ценность изучаемой науки.
где учиться, зарплата, плюсы и минусы
Культуролог – это специалист в области истории культуры, закономерностей и теорий ее развития, взаимосвязи культурных процессов и явлений, обнаружении и сохранении культурного наследия. При этом под культурой понимаются все ее проявления: от языка до, например, произведений художественного искусства. Эта профессия относится к категории «человек – художественный образ». Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.
Читайте также:
Краткое описание
В отечественных условиях культурология – не слишком широко известная наука, хотя в последние десятилетия она набирает все более высокие темпы развития. Появилась она не так давно – в двадцатом веке – и считается довольно интересной и перспективной во всем мире. Чаще всего профессиональные специалисты в этой области имеют дело с культурным наследием, культурными ценностями (как отечественными, так и мировыми), международными культурными связями. Культурологи хорошо разбираются в истории, филологии, этнографии, философии, религиоведении, искусстве, арт-менеджменте, являясь гуманитарными специалистами широкого профиля.
Особенности профессии
Эта специальность хороша тем, что выпускники получают знания, умения и навыки, позволяющие им работать в широком спектре областей. Если кому-то не хочется работать в музее – он может пойти в коммерческую картинную галерею, если кого-то не радует перспектива устроиться в архив – можно податься в СМИ, и так далее. Во время получения образования будущие культурологи изучают следующее:
Если кому-то не хочется работать в музее – он может пойти в коммерческую картинную галерею, если кого-то не радует перспектива устроиться в архив – можно податься в СМИ, и так далее. Во время получения образования будущие культурологи изучают следующее:
- Историю зарождения и развития всех видов искусства (архитектуры, живописи, художественной литературы, прикладного творчества и многих других).
- Написание статей, библиографий, научных публикаций, проведение исследований и составление презентаций, связанных с историей и развитием культуры.
- Изучение, критический анализ и систематизацию данных, полученных из различных источников, будь то электронные базы данных или бумажные справочные издания.
- Разработку творческих и художественных программ, в том числе, проектов для СМИ.
- Разработку инновационных проектов, предназначенных для сохранения и преумножения культурного наследия (исторического, художественного, природного).
- Консультацию представителей государственных и частных организаций по истории и современного состояния различных искусств, объектов культурного и исторического наследия.
- Разработку образовательных программ, преподавание в учебных заведениях.
- Использование иностранного языка.
Культурологи, как правило, отличаются высоким чувством стиля и вкусом, поскольку это напрямую связано с их профессиональными навыками. Кроме того, для них действительно важны педагогические способности, поскольку работа с клиентами нередко требует умения дать понятные и грамотные разъяснения касательно объектов искусства.
Плюсы и минусы
Плюсы- Новая, перспективная, активно развивающаяся специальность.
- Возможность трудоустройства в близкие по профилю области: журналистику, PR, политику, СМИ, ивент- и рекламные агентства, художественные галереи.
- Креативный характер профессии, возможность творческой самореализации.
- Расширение кругозора (как во время учебы, так и в ходе выполнения рабочих обязанностей).

- Недостаточная распространенность профессии в нашей стране, из-за которой поиск работы по специальности может быть проблемным.
- Необходимость в освоении близких областей деятельности для нахождения работы.
- Низкая заработная плата при неудачном трудоустройстве.
- Необходимость в наличии базовых способностей к восприятию объектов культуры и искусства, художественного взгляда на вещи.
Важные личные качества
Культуролог – это специалист, который должен сочетать в себе творческую жилку со способностью к рациональному мышлению. Без первого невозможно глубоко погрузиться в историю, закономерности, особенности актуального состояния культуры, а без второго – успешно справляться с трудовыми обязанностями практически на любой должности.
Обучение на культуролога
Чтобы стать профессиональным культурологом, нужно получить высшее образование (после окончания 11 классов школы). Код специальности — 51.03.01. Для поступления понадобится предъявить вступительной комиссии результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию (этот предмет является профильным), а также по истории либо иностранному языку на усмотрение вуза.
Обучение может проводиться в очной, очно-заочной или заочной форме, некоторые учебные заведения предлагают также дистанционный формат получения занятий. При получении образования в очной форме процесс обучения длится 4 года, во всех остальных – от 4,5 до 5 лет.
Лучшие вузы для культурологов
- РГГУ
- РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
- МГИУ
- МГОСГИ
- ГАУГН
- МГУКИ
- УРАО
Место работы
Самые профильные варианты возможного трудоустройства для культурологов – это архивы и библиотеки, музеи и галереи, научно-исследовательские организации гуманитарного профиля, культурные центры и учреждения (от выставочных залов до ЮНЕСКО). Однако в том случае, если трудоустроиться в такие организации у специалиста по культурологии не получится, он вполне может попытать счастья в СМИ, рекламных компаниях, издательствах, заняться организацией мероприятий, PR-менеджментом, и даже политикой.
Однако в том случае, если трудоустроиться в такие организации у специалиста по культурологии не получится, он вполне может попытать счастья в СМИ, рекламных компаниях, издательствах, заняться организацией мероприятий, PR-менеджментом, и даже политикой.
Заработная плата
Культуролог – это та профессия, где от места трудоустройства зависит вся финансовая сторона вопроса. Очевидно, что успешные коммерческие проекты, в большинстве случаев, платят таким сотрудникам гораздо больше, чем муниципальные учреждения.
Карьерный рост
Если культуролог устраивается на работу, так или иначе связанную с менеджментом, то со временем он может занять руководящую должность в организации. В остальных же случаях скачки в карьере, скорее, будут вызваны получением опыта, повышением квалификации, освоением близких по профилю умений и, возможно, сменой места работы.
Профессиональные знания
- Организация музейной, экспозиционной, выставочной деятельности.
- Менеджмент в сфере искусства, медийной сфере, издательской деятельности.
- Работа в культурном сегменте административно-политического аппарата.
- Анализ и прогнозирование культурных явлений.
- Использование информационных технологий при выполнении культурной и просветительской деятельности.
- Разработка плана, организация и проведение культурных мероприятий.
- Установление международных культурных связей.
- Экспертиза культурных ценностей.
Известные культурологи
- Андре Мальро, герой Французского Сопротивления, французский культуролог и писатель, автор трактата по философии искусства «Голоса безмолвия».
- П.А. Сорокин, русско-американский культуролог и социолог.
Читайте также:
Культурология
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Теория культуры
Лекция 1
Предмет изучения и основные задачи культурологии
В широкое употребление термин культурология ввел
американский ученый Л. Уайт (1900-1975) как синоним науки о
культуре. Именно ему принадлежит попытка создания общей
теории культуры.
Уайт (1900-1975) как синоним науки о
культуре. Именно ему принадлежит попытка создания общей
теории культуры.
Культурология – комплексная социогуманитарная дисциплина, стремящаяся к созданию системы знаний о культуре как целостном явлении. Культурологическое исследование нацелено на эмпирическое описание культуры, сравнительный анализ культур, изучение межкультурной коммуникации, объяснения истоков общего и специфического, устойчивого и изменчивого в культуре.
Культурология сегодня – наука становящаяся, не выделившаяся полностью из тех дисциплин, на стыке которых она формируется. Культурология предстает интегративной областью знания. Ее базисом выступают отдельные науки о культуре – археология, история, этнография, искусствознание и т. п. В рамках социогуманитарного знания культурология может рассматриваться в качестве методологической основы для остальных, изучающих культурные явления, научных дисциплин, так как определяет общее значение феномена культуры и способы его исследования. Целью культурологического исследования является понимание как своей, так и иной культуры, а предметом становится содержание общественной жизни. Таким образом, культурология изучает взаимодействие элементов культуры: традиций, норм, ценностей, обычаев, социальных институтов, культурных кодов, технологий, идеологий и пр., т. е. небиологическую форму существования человека и смыслы, которыми для него наполнен мир.
Культурология опирается на единство теоретического и
эмпирического знания, т. к. рассматривает и предельные
абстракции, и конкретные культурные явления и процессы.
Современная культурология включает в себя как
фундаментальные, так и прикладные исследования.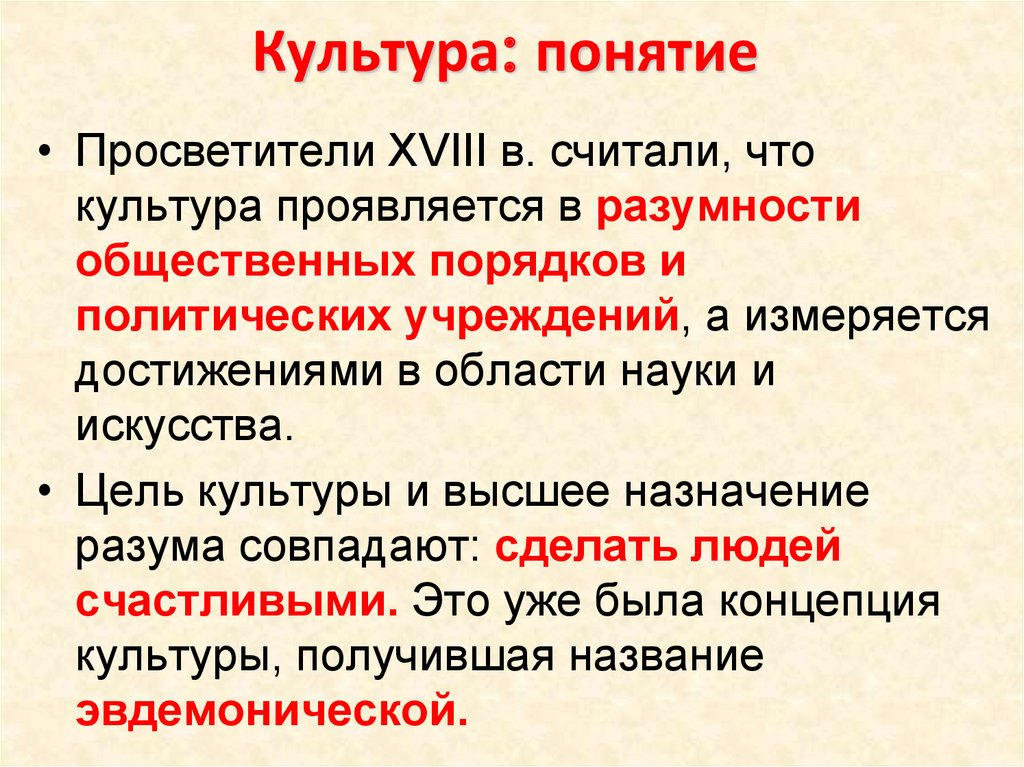
В качестве основных задач культурологического исследования можно назвать следующие:
· анализ культуры как системы культурных феноменов;
· исследование ментального содержания культуры;
· выявление типов связей между элементами культуры;
· исследование типологий культур и культурных единиц;
· разрешение проблем социокультурной динамики;
· исследование культурных кодов и коммуникаций.
Практическое значение культурологических исследований определяется возможностью их применения в сфере массовых коммуникаций и управления.
Потребность в культурологических знаниях особенно возросла в ХХ в. – в период интенсивных изменений социокультурной реальности.
В культурологической науке используются различные методы:
· эмпирический, основанный на сборе и описании фактического материала, особенно важен при полевых исследованиях;
· сравнительно-исторический, позволяющий сравнивать в историческом разрезе самобытные явления культурного комплекса;
· структурно-функциональный, предполагающий разложение изучаемого культурного объекта на составные части и выявление их внутренних связей;
· генетический, позволяющий понять интересующий нас феномен с точки зрения его возникновения и развития;
·
семиотический – исходит из понимания культуры как
внебиологического знакового механизма передачи опыта от
поколения к поколению, как символической системы,
обеспечивающей социальное наследование.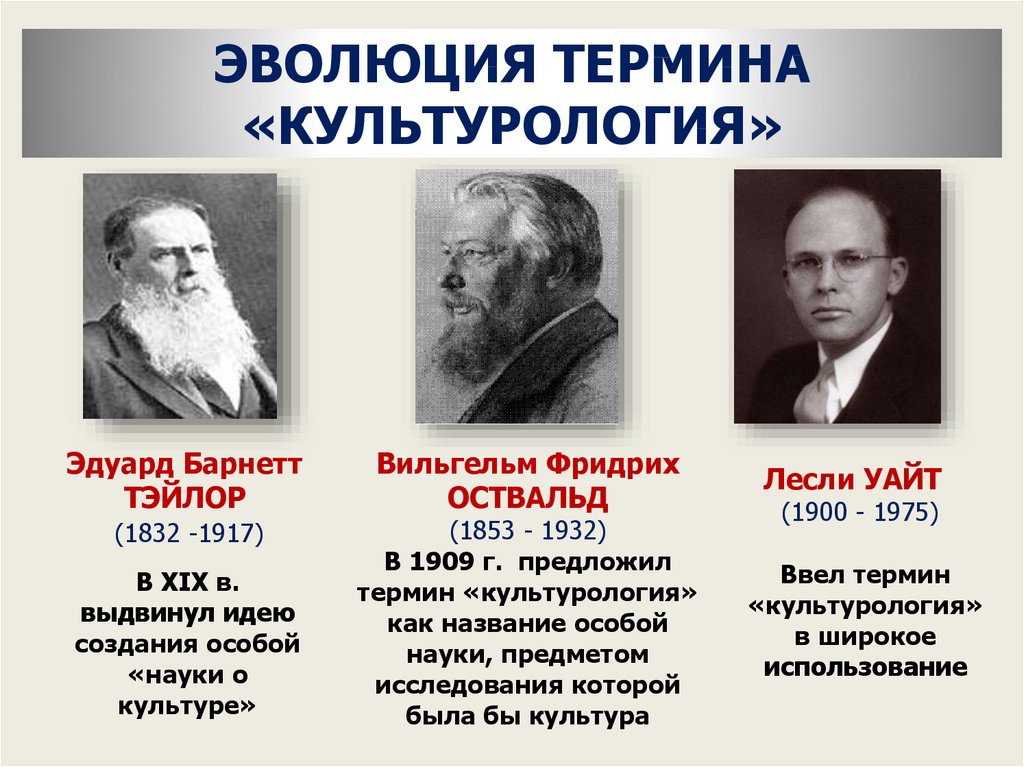
В культурологии выделяют несколько разделов.
Философия культуры выполняет методологическую функцию по отношению ко всей культурологии, т. к. она определяет общий смысл явления культур, представляет различные трактовки культуры, обеспечивает выбор познавательных ориентиров культурологических исследований.
Теория культуры определяет сущность, место и значение конкретных культурных явлений.
История культуры описывает конкретно-исторические особенности культурного развития. Прошлое культуры изучается для понимания ее настоящего.
Социология культуры изучает функционирование культуры в конкретной исторической ситуации.
Культурная антропология фиксирует и анализирует образ жизни и свойства различных культурных объектов: регионов, поселений, областей культуры, социокультурных слоев и групп, индивидов и т. д.
Таким образом, культурология является комплексной социогуманитарной наукой. Возникновение культурологии отражает общую тенденцию современного научного знания к междисциплинарному синтезу для получения целостных представлений о человеке и его культуре. Вместе с тем культурология представляет самостоятельную область знаний.
Можно констатировать, что культурология стремится не просто к описанию «материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством», а к осмыслению всего мира человеческой культуры как системного единства. На это направлены основные задачи культурологии и ее методы. Трудности в становлении культурологической науки обусловлены многоплановостью феномена культуры и сложностью его определения.
Вернуться к оглавлению
Бакалавриат (направление подготовки «Культурология») | Интернет-портал
Бакалавриат направления «Культурология»
Профиль «Социокультурное проектирование»
Бакалавриат – это:
4 года, 4 курса, 4 практики, 1 диплом бакалавра.
Бакалавриат дает базовое образование.
Его достаточно для начала профессиональной деятельности.
Его можно углублять и специализировать, поступая в магистратуру.
Бакалавриат «Социокультурное проектирование» дает возможность поступать в магистратуры столичных и региональных университетов по гуманитарным, социально-экономическим направлениям обучения.
Обучение осуществляется по Учебному плану, в который включены блоки дисциплин:
1 — Гуманитарный, социальный и экономический цикл
2 — Математический и естественнонаучный цикл
3 — Профессиональный цикл
Физическая культура
Практики, Научно-исследовательская работа
Факультативы
Каждый цикл включает базовую и вариативную части.
Базовая часть предлагает дисциплины универсальные для подготовки профессионала в социокультурном проектировании. Вариативная часть позволяет учитывать особенности подготовки такого специалиста в нашем регионе, придавая образованию уникальность. А также реальность и востребованность.
На 1 курсе студенты изучают дисциплины, закладывающие фундаментальные основы гуманитарного образования.
- История
- Этика
- Русский язык и культура речи
- Философия
- Правоведение
- Иностранный язык
- Древний язык
- Математика в социально-гуманитарной сфере
- Информационные технологии
- Основы информационной культуры
- Концепции современного естествознания
- Введение в культурологию
- Теория культуры
- Социальная и культурная антропология
- Методы изучения культуры
- Техники анализа текстов культуры
- История региона
- История культуры
- Историярелигий
- История искусств
- Физическая культура
Образование на 2 курсе концентрируется на практических дисциплинах профессиональной направленности, создающих базу для развития в дальнейшем практических знаний и навыков
3 курс осваивает дисциплины, раскрывающие специфику современной культурной среды, тех условий, в которых живут и работают современные профессионалы.
На 4курсе культурологи развивают и конкретизируют профессиональные знания, умения, навыки, выполняя серию практических проектов, дающих опыт, необходимый для успешного старта на рынке труда
- Второй иностранный язык
- Методика преподавания культурологии
- Проектирование в сфере культуры: зарубежный и российский опыт
- Социокультурное проектирование в сфере туризма
- PR-технологии в сфере культуры
- Теория рекламы
- Искусство ХХ века в системе взаимоотношений «культура-общество»
- Актуальное искусство в современных проектных практиках
- Культурные ресурсы и стратегии развития региона
- Творческие индустрии в современном мире
- Проектирование в сфере культурно-досуговой деятельности
- Проектные технологии в издательской сфере
- История киноискусства
- Кино и проблемы современной культуры
- История мирового театра
- История русского театра
- История западноевропейской музыки
- Музыкальная культура России
Знакомство с реальностью профессиональной деятельности у будущих бакалавров-культурологов происходит на практиках
Практики:
1 курс учебная (этнологическая)
2 курсучебная (музейная)
3 курсучебная (специальная)
4 курспроизводственная (преддипломная)
— приемная комиссия: пр. Ф. Энгельса 7, к. 132, тел.: 8 (4932) 93-98-19 [email protected]
— центр довузовского обучения: 8 (4932) 41-77-26 [email protected]
— кафедра истории и культурологии ИГХТУ: пр. Ф. Энгельса, 27, Гуманитарный факультет, 3 этаж; тел.: (4932) 30-04-44, 30-04-84 [email protected]
Культуролог — где учиться, описание, работа
Профессия культуролог
Специалист, осуществляющий научно-исследовательскую работу в области культурологии. Он изучает развитие, формирование искусства и культуры. Кроме того, культуролог может заниматься изучением народов и народностей, особенностей их быта, традиций, языка и т.д. Зачастую культурологи уезжают в командировки, этнографические экспедиции, где пользуются самым широким спектром инструментов: наблюдением, проведением опросов и проч.
Личные качества
Неотъемлемым качеством культуролога является любовь к истории и искусству. Любознательность, хорошо развитая память, умение грамотно выражать свои мысли как устно, так и письменно, развитый эстетический и художественный вкус также помогут специалисту в данной области успешно справляться с поставленными задачами. Помимо этого, важными качествами в работе будут являться усидчивость, внимательность к мелочам и хорошо развитое воображение.
Где учиться
Несмотря на то что образование в данной сфере довольно редкое, решить абитуриенту, где учиться на культуролога, довольно несложно. Многие гуманитарные вузы Москвы имеют факультеты культурологии, в некоторых из них имеется возможность дистанционного обучения. Наиболее знаменитыми из них являются:
Дополнительное образование в данной области можно получить на курсах культурологии. В Москве такие курсы проводятся в различных центрах искусств.
Плюсы и минусы профессий
Культурологи занимаются научно-исследовательской работы, пишут заметки, статьи, выпускают книги. Поэтому плюсом данной профессии можно назвать возможность проведения собственных исследований и их публикация. Для людей, питающих особую любовь к искусству и культуре, также, безусловно, будет являться плюсом возможность ежедневно соприкасаться с тем, что их действительно интересует. Однако, работу культуролога найти достаточно непросто. В научных лабораториях и научных группах находят свое призвание лишь единицы, остальные же работают в музеях, галереях, архивах, преподают в университетах. Работа в этих областях не только невысокооплачиваемая, но и найти ее в подобных учреждениях тоже весьма непросто.
Карьера, места трудоустройства
Выстраивать карьеру специалисты в области культурологии могут в государственных и коммерческих учреждениях культуры: министерствах, центрах современного искусства, музеях, выставках, фестивалях и других культурных проектах. Область применения знаний и умений культуролога весьма обширна: такие специалисты работают в PR-агентствах, преподают в вузах, работают в СМИ. Поскольку профессионалы данной области не имеют определенной сферы деятельности, то и вакансии культуролога можно встретить довольно нечасто, поэтому их зарплата может варьироваться в зависимости от места работы и занимаемой должности.
Культуролог и искусствовед близкие по смыслу профессии. Искусствовед занимается изучением художественных культур: литературы, театра, музыки, кино, живописи. Культуролог же изучает культуру как целое, не акцентируя внимание на отдельных ее компонентах. В культурологию входит много предметов, а искусствоведение является ее разделом, ее составной частью.
Определение культурологии Merriam-Webster
Куль · тур · ол · о · гы | \ -jē \
: наука о культуре конкретно : методология, особенно связанная с американским антропологом Лесли А.Уайт, который рассматривает культуру как автономный самоопределенный процесс и рассматривает культурные черты (как технологии, идеологии и институты) как продукты предшествующих и сопутствующих культурных элементов и как развивающиеся независимо от других данных (как климатическая среда, физический тип человека). , или человеческие желания и цели)Культурология-транскультура копия
Михаил Эпштейн
Культура — Культурология — Транскультура
В кн .: Михаил Эпштейн. После будущего: парадоксы постмодернизма и современной российской культуры , Амхерст: Массачусетский университет, 1995, стр. 280-306.
В течение последних двух десятилетий концепции постмодернизма, постструктурализма, постистории и постиндустриализма доминировали на теоретической сцене на Западе. Я хотел бы предположить, что сама эта «пост-» парадигма теперь может уйти в прошлое. Нынешняя эра, которая, похоже, началась с краха Берлинской стены в 1989 году, нуждается в пересмотре, вероятно, с точки зрения «прото-», а не «пост-».«
Что касается теории и искусства, то двадцатый век начался задолго до 1900 года, а двадцать первый век, возможно, уже начался. Одним из основных факторов, определяющих его культурную идентичность, является идея плюрализма, которая получила признание во всем мире и приобрела особое значение в бывшем Советском Союзе. Парадоксально, но всемирное распространение плюрализма разрушило его характер как специфически западной, либеральной идеи, а также возродило ценность культурного единства или целостности.Мы живем в более плюралистическом мире, но это единый мир , который ранее был разделен на Восток и Запад (наряду с другими внутренними делениями).
Более того, тип плюрализма, который преобладал в западной культуре 1970-х и 1980-х годов, содержал сильные элементы релятивизма и имел тенденцию игнорировать или даже подрывать само понятие единства. Некоторые постмодернистские мыслители теоретизировали «культуру» как нечто специфическое для каждой отдельной нации, расы, пола, возрастной группы и так далее.Теперь, когда плюралистическое мировоззрение все больше преобладает от Москвы до Берлина и, надеюсь, также до Пекина и Гаваны, многообещающие перспективы транскультурной человеческой идентичности становятся все более осязаемыми. На мой взгляд, наиболее непосредственной целью современных гуманитарных наук должно быть определение паттернов этого нового единства , на основе плюралистических ценностей . (Если читатель любезно согласится со мной в более или менее одновременном изложении различных аспектов нескольких ключевых идей, я приду к определению того, что я имею в виду под «транкультурой», после того, как сначала сосредоточусь на более основных понятиях.)
Понятие «прото-единство» подчеркивает положительные ценности духовной «тотальности», которые были так чудовищно извращены восточным тоталитаризмом. Понятия «органический коллективизм / соборность» ( соборность), и «интегративное знание» ( цельное знание, ) давно стали присущими традиционной русской культуре, так что для политической власти было почти естественно их использовать. концепции в достижении собственных целей. Неудивительно, что один и тот же набор идей может быть поставлен на службу принципиально несовместимым философиям, если вспомнить, например, что российские интеллектуалы разных убеждений неизменно выступали за внутреннее объединение различных способностей человека.Каким образом этот восточный принцип будет ассимилирован в перво-единство будущей цивилизации?
Кроме того, следует задаться вопросом, действительно ли множественные культурные типы — этнические, местные, сексуальные, профессиональные, возникающие в Соединенных Штатах, а также в посткоммунистической России и во многих других странах, — действительно самодостаточны, или зависят ли они друг от друга, чтобы обеспечить основу для будущего культурного синтеза? Как могут слиться различные культурные самобытности, не отказываясь от своих индивидуальных особенностей?
Эти проблемы в прошлом ставились немецкими романтиками, американскими трансценденталистами и русскими религиозными мыслителями, а теперь, накануне двадцать первого века, они вновь обретают свое жизненное значение.Не только мультикультурное, но и транскультурное сознание обещает стать определяющей характеристикой этой новой эпохи, поскольку многочисленные существующие культуры ищут максимально широкие рамки для формирования своего взаимодействия. Этот поиск ставит под сомнение такие общепринятые предположения, как «Восток и Запад», «интеграция и плюрализм», которые часто искажались и интерпретировались как полярные противоположности. Я предлагаю разработать теоретическую модель, которая 1) разделит концепции «тотальности» и «тоталитаризма», (2) освободит плюрализм от безразличного или циничного релятивизма и (3) продемонстрирует, что плюрализм и тотальность не должны рассматриваться как противоречащие друг другу ценности. .
В первую очередь я сосредоточусь на формировании менталитета, который я называю «транскультурным сознанием», поскольку он развивался в России в течение последних 20 лет. В заключение я также проведу ряд параллелей с американской концепцией мультикультурализма.
1. Культура и цивилизация
Хотя вопрос о культуре и цивилизации может показаться давно устаревшим, в современной России он возник заново. Решающее, переходное состояние нашей культуры сегодня предполагает, что это не просто вопрос смены фаз в процессе внутрикультурной эволюции, а вопрос гораздо большего масштаба.Возможно, мы являемся свидетелями зарождения культуры нового типа из недр советской цивилизации. Поэтому может быть полезно вспомнить историческую корреляцию этих двух глобальных концепций, а также различия между ними.
Согласно Освальду Шпенглеру, цивилизация — это закат и закат культуры, время, когда правительственные и технократические механизмы уравнивают все конкретные образы жизни в массовом масштабе, в конечном итоге вытесняя традиционные культурные формы органической духовной деятельности.Шпенглер писал, что
цивилизация — это завершение. Оно следует за культурой, так же как завершение следует за началом, как смерть следует за жизнью и как жесткость следует за формацией. . . Это неизбежный конец; все культуры приходят к состоянию цивилизации с глубокой внутренней необходимостью.
Однако другой вектор или путь эволюции может быть не менее актуальным. Российская и американская история показывают, что возможна и противоположность Шпенглеровскому процессу: культура может быть рождена от цивилизации.В Соединенных Штатах девятнадцатого века существовала мощная буржуазно-демократическая цивилизация, которая достигла высокого технологического и экономического развития, оставаясь при этом почти бедной с точки зрения культуры, импортируя все свои жизнеспособные формы, жанры и т. Д. Из Европы (с за некоторыми исключениями). Появление американской культуры , как самобытного, духовно укоренившегося национального организма, способного оказывать всемирное влияние, — это факт двадцатого века, определенный после окончания Первой мировой войны.То же самое и с Россией. Здесь XVIII век был временем интенсивного развития цивилизованных институтов под влиянием западноевропейских моделей и под влиянием реформ Петра Великого. Образовавшаяся русская цивилизация представляла собой тяжелое сооружение, которое давило на рыхлую и неустойчивую почву. Только в течение следующего столетия, начиная с 1820-х годов, нашей цивилизации удалось пустить настоящие корни на этой национальной почве и тем самым развить уникальную современную русскую культуру, достигнутую через страдания.Известное наблюдение Александра Герцена выражает именно эту мысль: через сто лет после петровских реформ Россия ответила ослепительным феноменом Пушкина. С этой точки зрения культура становится ответом нации через саморазвитие на вызовы цивилизаций других наций.
АнализШпенглера может быть более подходящим для тех органических культур, которые развивались на твердой национальной почве с постоянными этническими характеристиками. Согласно этой модели, такие культуры, как культуры Индии, Китая и Западной Европы, постепенно вырождаются в цивилизации.Но, казалось бы, обратный процесс характерен для регионов, подпавших под сильное иностранное влияние. В тех местах, куда цивилизация вторглась извне, где она кажется заимствованной или объединенной, как в Америке или России, она может фактически предшествовать развитию культуры. Здесь цивилизация превращается в культуру как естественное продолжение своего собственного созревания и упадка.
В тех странах, где цикл развития происходит из уже цивилизованного состояния, характеризующегося преобладанием социальных и политических интересов, центральных идей гражданства и государства, культура представляет сумерки этого мира, в сумерках которого множество тайных интимные, духовные миры обретают новую форму.Цивилизованный «день» с его суетой и суетой деятельности угас, и вслед за ним лучи расходятся сложными узорами во всех направлениях, преломляя разнообразные и фантастические оттенки, расцветы цветов приходят в упадок: богатство неясных культурных метаморфоз порожденный однажды ясным и предсказуемым днем. Все земное уже заявлено, все историческое достигнуто, поэтому по мере того, как цивилизация приближается к своему таинственному концу, окутанная сумраком, она вновь обретает трансцендентное видение и интуицию потустороннего, принадлежащую культуре.Как любил повторять Гегель: «Сова Минервы вылетает в сумерках».
Каждая цивилизация питается идеей истории и прогресса, которая со временем исчерпывается, пока не наступит золотой век метафизических идей. По мере того, как она доживает свое запланированное существование, цивилизация в конце концов преодолевает время, отведенное для ее собственной реализации. Подойдя к концу, цивилизация продолжает существовать в загробной жизни, которая оказывается культурой. Осознавая свою окончательность в эпоху упадка, цивилизация приобретает обостренное ночное видение, характерное для культуры.Он порождает видение следующего мира, поскольку его чувствительность к последним вопросам существования становится все более острой. Политика как преобладающая сфера цивилизованной деятельности уступает место религии, философии и искусству. Таким образом, на протяжении прошлого века «сумерки» петербургской цивилизации (от Николая I до Николая II, от Пушкина до Блока) породили поразительный феномен русской классической культуры, поскольку творческая интуиция усиливалась чувством нарастающий кризис в общественных отношениях.Культура — это закат цивилизации, брожение дистиллированной жидкости и превращение воды в вино — чудо Преображения Господня.
Самым важным моментом в переходе от цивилизации к культуре является всплеск внутреннего раскола, мало чем отличающийся от способности человека видеть себя извне. За очень редкими исключениями (прежде всего в творчестве Радищева и отчасти Державина) русская цивилизация XVIII века была монолитной, лишенной органических «дефектов» саморефлексии.Только в 1820-х годах правящий класс раскололся надвое, породив политическое противостояние в форме декабризма и психологию «чужака» в форме «лишних людей». В результате этого внутреннего раскола в дворянстве и, следовательно, в социальных основах этой цивилизации была создана замечательная культура России XIX века.
Таким образом, культура — это цивилизация, которая осознала свой конец и приняла свой собственный предел в перспективах самоуничтожения: политическая оппозиция, экономический кризис, экологическая катастрофа или культурный метаязык, способный использовать «цивилизованный» язык в практике самоанализ или самокритика.Чувство боли и смерти на работе внутри цивилизации выражает ее потенциал для превращения в культуру. Нам не нужно прятаться от самих себя, искусственно притуплять боль, противостоять грядущей метаморфозе. Цивилизация должна умереть, чтобы из панциря этой прожорливой, металлически однообразной гусеницы, затонувшей в состоянии спячки, неподвижности и окукливания, внезапно могла возникнуть бессмертная душа: культура, ночная бабочка.
Решающим показателем способности культуры размышлять о себе является формирование особой дисциплины, которая, в отличие от всех других, охватывает саму культуру как свой неотъемлемый объект.Это то, что постепенно возникло в России в 1970-1980-х годах под названием «культурология».
2. Что такое культурология?
Наиболее близким английским эквивалентом «культурологии», несомненно, является термин «культурология». Однако современное русское значение передает сущностное понятие единой неделимой дисциплины, которая не может быть сведена к ряду специальных исследований. Объектом исследования в данном случае является культура как целостная система различных культур — национальных, профессиональных, расовых, сексуальных и т. Д.
Поскольку посткоммунистическая культура нового российского государства только недавно родилась из «советской цивилизации», культурология долгое время оставалась белым пятном на карте российских гуманитарных наук. То, что в Советском Союзе называлось «теорией культуры», преподавалось будущим библиотекарям и клубным работникам: теории политического управления делами культуры и административной организации ее учреждений. Однако политика является одной из составных частей культуры и сама подлежит культурологическому анализу и обоснованию.
Слаборазвитость нашей культурологии отнюдь не означает недостатка выдающихся культурологов. Достаточно упомянуть такие имена, как Михаил Бахтин, Алексей Лосев, Сергей Аверинцев, Георгий Гачев, Юрий Лотман, Вячеслав Иванов, Владимир Топоров, Владимир Библер и другие. Но таков парадокс нашей новорожденной культуры: присутствие очень одаренных писателей не обязательно создает великую литературу, а присутствие одаренных ученых не гарантирует высокий уровень научных исследований.Точно так же культурология предполагает социальный образ мыслей, действий и идей, который не может быть реализован усилиями отдельных мыслителей, работающих изолированно. Неудивительно, что все наши культурологи — «мигранты» из других, более специфических областей науки — чаще всего филологии, литературной критики и общей истории искусства — которые «нелегально», на свой страх и риск, перешагнули границы границы их узких дисциплин. Но остается вопрос: когда же культурология сможет развиваться на основе собственного объекта изучения, в масштабе всеобъемлющей системы знаний? Эта интегральная область требует специализации на начальных этапах, но на данный момент у нас должно быть специалистов в универсальном .Только так универсальное может занять свое место среди множества граней специфичности и начать работу по их преобразованию и синтезу. Сегодня нам нужны культурологи не только из области античной филологии, общей славистики или истории русской литературы, но и из культурологии как таковой.
То, что культурология не могла оказать ощутимого влияния на развитие «советской культуры», отражало высокомерие и одномерность последней. Официальная культура сопротивлялась тщательному изучению или сравнению с другими культурами, претендуя на своего рода суперисторический и суперультурный статус.Ему не удалось развить потребность или способность к саморефлексии, и именно это составляет культурологию. На протяжении многих десятилетий советская цивилизация получала право судить, а не быть судимой, поскольку описывала себя языком оценок без объективных концепций, которые она называла «идеологически вредными и чуждыми». Ему не нужна была культурология, а скорее «культурное извинение», и поэтому он потерял истинные атрибуты культуры, которой нужна зона дистанцируемого, неучастного или альтернативного мышления.
По мере того, как русская культура постепенно возрождается от самогипноза и паралича, вызванного манией величия советского государства, она становится тем, чем она всегда должна была быть: только культура и именно поэтому действительно культура — царство активная, объективированная и многогранная свобода, которая также характеризует установки человека с точки зрения свободы принимать или отвергать различные культурные формы, участвовать или отказываться от участия. Влияние культурологии сейчас может свободно расти, поскольку она представляет самоопределение нашей культуры, включая ее способность к самокритике, самоотречению и формированию различных контркультур.В самом деле, контркультуры становятся возможными только в контексте высокоразвитой культуры, как свидетельство ее зрелости и жертвенной полноты, как человек, который достиг высочайшего уровня достижений и не может делать ничего, кроме как отдавать себя другим. (мысль Достоевского). Точно так же развитая культура выплачивает долги природе и вере, жертвуя собой во имя непосредственности, непосредственности, оригинальности, всеобщей гармонии и любви. «Побег на природу» с гарантированным физическим выживанием возможен только благодаря столь щедрой и прочно укоренившейся культуре, что ее можно игнорировать.
Такое самоотчуждение без потери единства возможно только в промежуточном царстве культуры, которое соответствует промежуточному положению человека между царствами Природы и Духа. Осмелюсь добавить еще одно определение культуры к уже сформулированным сотням: культура — это все, что создано человеком, что одновременно создает человека. Гвозди или машины, безусловно, созданы, но в той мере, в какой они служат только для производства других предметов, они не принадлежат культуре.Деревья и цветы могут определенным образом формировать человеческую душу, но сами они не созданы человеком. Культура в самом широком смысле — это самотворение человечества: только в культурной деятельности человек выступает как создатель и творение, уравновешивая атрибуты божественного Создателя и скромного создания. Используя термины теории информации, природа — это текст, получателем которого является человек, а отправителем — Кто-то Другой; Культ, напротив, — это текст, отправитель которого — человек, а получатель — Кто-то Другой.Однако культура — это текст, отправителем и получателем которого является человечество, что делает его советом всех наций и всех поколений во внутренних делах человечества.
В то время как культура — это послание человечества самому себе, культурология — это объективированное самосознание культуры; он исследует постоянное самоотчуждение человеческого духа (в его почти навязчивом производстве внешних объектов), а также его самопознание (в его постоянной интерпретации и присвоении этих объектов).Культурология для культуры — это то же самое, что культура для человечества — средство самопознания и саморегуляции. Если культура — это возделывание природы, то культурология — это не просто изучение культуры, но ее дальнейшее культивирование. В процессе саморефлексии и самоотчуждения культура становится объектом собственной интеллектуальной деятельности, а культурология — средоточием этой деятельности.
Таким образом, науки о культуре можно отличить от естественных наук тем, что первые играют ключевую роль в создании их предмета: физика и биология не являются частями природы, в то время как филология и психология являются частями культуры.Культурология предлагает интегративных знаний о различных частях культуры. Культура включает в себя множество ремесел, наук, занятий, искусств, профессий и верований, все из которых развиваются в их собственных сферах, мало осознавая друг друга. Культурология изучает целое, присутствующее в каждой из этих сфер, как нереализованное другое, как фундаментальное бессознательное, объединяющее все типы общественного сознания: эстетику и этику, искусство и науку, политику и мифологию.Предмет культурологии выходит за рамки всех отдельных областей гуманитарных наук. В своих собственных пределах, например, эстетика ничего не знает о связи между авангардным искусством и религиозным, эсхатологическим сознанием двадцатого века; то же самое и в богословии. Культурология призвана реализовать идеал культурной целостности, поскольку она раскрывает связи и отношения, неизвестные отдельным дисциплинам. Отношения между культурологией и гуманитарными науками аналогичны отношениям между математикой и естественными науками: оба являются сферами метаязыка, метанаучного сознания и описания.Самым широким и всеобъемлющим понятием, соответствующим понятию «природа», является именно понятие «культура».
Что касается взаимоотношений культуры и общества, то давно существует предубеждение в пользу последнего, так что культура воспринималась как побочный продукт определенных стадий общественного развития, то есть как нечто вторичное и случайное. Более того, это способствовало включению культурных исследований в рамки социальных исследований, исключая культурологию в пользу социологии культуры.Однако это равносильно замене эстетики социологией искусства или физики социологией науки. Безусловно, определенные черты социального порядка позволяют или препятствуют определенным элементам содержания в культуре, но это не означает, что содержание само по себе является простой производной социальных отношений: оно обладает собственным источником творческой энергии, которая обеспечивает существенный стимул. и перспективы социального развития. Сфера культуры намного шире и глубже, чем сфера общества как такового.В то время как общество охватывает всех живых людей в их совместной деятельности и взаимосвязи их ролей, культура охватывает деятельность всех предыдущих поколений, накопленную в художественных произведениях, научных открытиях, моральных ценностях и т. Д. Социальный уровень — это всего лишь одна горизонтальная секция культуры, которая в своей совокупности пронизывает все исторические миры, как мы видим в непрерывной миграции текстов и значений — из страны в страну, от поколения к поколению. Культура — это совокупность объективированных отношений людей между собой.И поэтому, по мере того, как человек становится частью культуры, углубляясь в знания о множестве уровней культурного наследия, он / она открывает все новые грани человечности внутри себя.
Конечно, культура обязательно включает социальное измерение, но его нельзя сводить к нему. Жить в обществе и быть свободным от него — вот в чем суть культуры. Он проникает в кровь и кость общества, чтобы освободить людей от ограничений их социального существования, от его репрессивных тенденций и исторических ограничений, подобно тому, как дух не свободен от тела, но представляет собой освобождающую силу, способную преодолевать внешние препятствия.Общество может развиваться только с питанием несоциальных, метасоциальных и транссоциальных элементов, таких как те, которые содержатся в культурных продуктах разных эпох, в их мистических откровениях, художественных образах и этических императивах. Культура — это пористое и губчатое свойство социального тела, которое позволяет ему дышать воздухом во все времена.
Как сила освобождения, идеал культуры — а не идеал политики или технологий — преобладает в истинно демократических обществах.Расширяя предложенное выше определение, я бы добавил, что культура — это создание человека постольку, поскольку он / она свободны от физических, социальных и других потребностей; в то же время культура действует и для освобождения других людей. Это объективированная форма свободы, передаваемая через времена и пространства, так что один человек может стать представителем всего человечества в его прошлом, настоящем и возможном будущем.
Социальные катаклизмы и революции всех видов (такие, какие Россия переживает сегодня) вновь подчеркивают нашу потребность в самых глубоких возможных перспективах освобождения, тех культурных перспективах, которые открываются после политического переворота (и часто в оппозиции к нему). ) и выходит далеко за рамки политики.Это причина того, что следующие слова, написанные Осипом Мандельштамом в 1920 году, так актуальны для нашего нынешнего контекста.
В состоянии божественного безумия поэты говорят на языке всех времен и культур. Нет ничего невозможного. Поскольку комната умирающего открыта для всех, дверь старого мира распахнулась для толпы. Внезапно все становится общим достоянием. Иди и возьми. Все в пределах досягаемости: все лабиринты, все тайники, все потайные ходы.Слово превратилось не в семиствольную флейту, а в тысячуствольную, оживленную дыханием всех веков одновременно.
В подлинной культурной деятельности нельзя заниматься, не давая или создавая что-то новое взамен, однако в российских библиотеках, если заглянуть в тематический каталог в разделе «культура», можно найти библиографию по библиотекам, музеям, историческим памятникам, коллекционерам и реставраторам. , клубы, кружки и общества культуры, учреждения и агентства, занимающиеся культурой.Это указывает на распространенное заблуждение, что культура заключается в деятельности по сбору, сохранению и восстановлению культурных продуктов, или же она приравнивает культуру к работе по пропаганде, просвещению и популяризации — как будто все главные сокровища культуры были созданы в прошлом. , и единственная оставшаяся задача — справедливо и справедливо распределить их среди масс. Запад часто называют «обществом потребления», и хотя это может быть в некотором смысле точным, столь же очевидно, что для того, чтобы потреблять в возрастающих количествах, нужно сначала произвести то, что нужно потреблять.Советское общество, с другой стороны, можно назвать обществом распределения , поскольку в центре внимания находится проблема: кто сколько получает, а не кто сколько создает. Потребление не обязательно является жизненно важным вопросом, особенно с учетом того, что качество производимой продукции зачастую таково, что на самом деле она не предназначена для потребления, тогда как регулируемое распределение обеспечивает ключ к достижению равенства на минимально возможном уровне как потребления, так и производства. «Распределительный комплекс», или невроз, также функционирует в рамках российской культурной сферы: хотя для создания чего-то действительно нового уходит мало усилий, главная задача состоит в том, чтобы распространить то, что уже есть, большая часть чего была создана (не обязательно нами) десятилетиями. и столетия назад.Отсюда акцент на таких ретроспективных мероприятиях, как «культурные» приложения своего досуга, «культурные» мероприятия, «культурно-массовая» работа, «культурные экскурсии», « культорг » (культурный организатор на рабочем месте), « культурник » (организатор культуры на курортах) и т. Д. В общепринятом понимании культура приравнивается к разнообразию готовых навыков, владению традициями, что находит свое отражение в создании уникального выражения: «культурный человек», что примерно означает «начитанный», «начитанный». информированный, «вежливый», внимательный.»Но культура — это не сумма привычек и навыков, какими бы благородными они ни были; скорее, это сфера творчества и свободы, где человек становится своим собственным творением и творцом. Культура — это, по сути, лаборатория, где проверяются творческие возможности.
3. Лаборатория культуры
По этим причинам культура нуждается не только в библиотеках, музеях и школах (хотя их тоже часто не хватает), но, прежде всего, в лабораториях, специализирующихся на экспериментальном производстве предметов и идей культуры в небольших количествах, но действительно нового качества. подход, исключающий акцент на распределении.В конце концов, культура Нового времени зародилась в ремесленных мастерских, лабораториях алхимиков и мастерских художников. Каждая эпоха культурного смятения (важной частью которой всегда является политическая «перестройка г. г.») возобновляет нашу извечную потребность в «второстепенных», социально не связанных формах интеллектуального производства, явно обособленных от доминирующих идеологий того времени. По самой своей природе культура представляет собой альтернативную форму сознания: в пятнадцатом веке она предлагала альтернативу религии, в двадцатом веке — политике, а в двадцать пятом веке, возможно, она предложит альтернативу науке. .Однако альтернатива самой культуре вряд ли возможна, если мы понимаем культуру как совокупность альтернатив, коренящихся в человеческой свободе.
Общество нуждается в культурологии, чтобы эффективно сконцентрировать в себе подлинную совокупность человеческих способностей. Точно так же культурология должна быть не только неотъемлемой частью индивидуального сознания, но также должна представлять целостность этого сознания, поскольку она объединяет все аспекты жизни и культурного участия.Если вся культура узурпирована каким-либо одним из ее компонентов, например политикой, технологиями или экологией, то особый тип тоталитаризма вновь заявляет о себе и неизбежно будет стремиться господствовать над всеми остальными. В посттоталитарной стране никакой новый тип тоталитаризма не может быть продуктивным, за исключением культуры в ее роли свободной совокупности всех типов политической деятельности, художественных начинаний, научных исследований и так далее. В той степени, в которой все они работают на освобождение человека, философия, искусство, наука и политика взаимно сдерживают власть друг друга над человеком и обществом — власть, которая, если ее не остановить, может стать монополизирующей и порабощающей.Таким образом, только благодаря взаимному ограничению своих различных альтернатив культура остается силой освобождения от религиозного фанатизма и политического авторитаризма, от сциентизма, эстетизма, морализма, технократизма — всех узурпаторских притязаний каждой отдельной культурной области, поскольку они попытаться полагаться только на себя.
Это не означает, что культура функционирует по принципу «разделяй и властвуй». Скорее, он нацелен на «освобождение путем объединения»: он не столько управляет своими составными частями, сколько освобождает их от врожденных ограничений, объединяя их в более действительно законченное целое.Культура освобождает нас от диктата каждой конкретной сферы сознания, от ограничивающей судьбы быть только «политическим», «техническим» или «моральным» человеком.
Наука и искусство, философия и религия — все взятые вместе составляют центральное место в Лаборатории современной культуры в той мере, в какой она находит свой собственный центр и свою объединяющую концепцию в освобождающем видении культуры. Михаил Бахтин подчеркнул, что «наиболее насыщенная и продуктивная жизнь любой культуры протекает на границах ее различных сфер, а не тут же, когда эти сферы уходят в свою специфику.Эту первичную интуицию русской культурологии развил последователь Бахтина, философ Владимир Библер: «Культура может жить и развиваться как культура только на границах культур. . . Культура — это форма одновременного существования и общения между народами разных культур — прошлого, настоящего и будущего — в формах диалога и взаимного порождения этих культур. . «Таким образом, культура никогда не бывает идентична себе — она существует в переходе за собственные границы, во взаимодействии различных культур, разнообразных по возрасту, социальному статусу, профессии.Это взаимодействие молодежи и «взрослых» культур, традиционного и авангардного, массового и элитарного, политического и художественного. Цель Лаборатории — исследовать глубину этих взаимоотношений, их скрытую основу для родства и возрастающую открытость Целого.
Термин «современный» не следует понимать слишком узко. Современник — это то, чье время пришло . Для нас в современной России эпоха раннего христианства более современна, чем эпоха Просвещения.Именно потому, что мы сильно отстаем во времени, для нас границы современности расширяются и включают в себя целый век, породивший еще не прочитанных Соловьева и Ницше; охватить полтора века, в которых появляются неизвестные Чаадаев и Хомяков, Кьеркегор и Шеллинг; и даже вернуться на тысячу или две тысячи лет назад, отделяя нас от решающих поворотных моментов нашей собственной и мировой культуры. Все это может быть «современным», как никогда раньше, возможно, даже больше, чем в свое время, поскольку необратимость того, что мы упустили, растет с каждым годом и эпохой, равно как и безотлагательность его появления в нашей жизни.Следовательно, мы не можем ограничивать определение современности в хронологических терминах. Программа нашей Лаборатории включает изучение культурных традиций, которые питают современность и воспринимаются как ее предвосхищение, как межрезонансная одновременность разных времен в пределах сегодняшнего дня.
Лаборатория со своим компактным исследовательским коллективом представляет собой микрокультуру, которая моделирует процессы и закономерности макрокультуры, развивая и прогнозируя ее основные тенденции в сжатой и ускоренной форме.Продукты такого культурологического исследования сами по себе являются частью той же самой современной культуры, хотя они воссоздаются на новом уровне рефлексии, которая постигает себя как Целое, как духовный синтез различных культур. Культурология становится отправной точкой для культурогенеза: сознательное междисциплинарное творчество направлено на создание не только отдельных произведений искусства или науки, но и произведений самого жанра культуры. Таким образом, задача должна пониматься в двояком смысле: наша лаборатория — это лаборатория для изучения современной культуры и для разработки ее новых, экспериментальных форм.
В идеале, конечно, было бы желательно говорить не только об одной или двух лабораториях, но и о целом лабораторном движении, которое одновременно проводило бы как анализ, так и синтез различных культурных форм, разновидностей и ориентаций. В России у нас есть традиция стойкого предубеждения против самосознания, рефлексии и саморефлексии, которые, как предполагалось, разрушают внутреннюю целостность индивидуальной сущности. На самом деле только самосознание может обеспечить такую целостность: оно позволяет человеку, совокупности разнообразных привычек и черт характера, стать «кем-то для себя».»Точно так же культура нуждается в самосознании, поскольку она представляет собой обширную, невообразимо рассредоточенную совокупность различных наук, искусств, традиций, случайностей, текстов и профессий. Лабораторное движение в культуре можно рассматривать как путь к самосознание, самопознание целостности и творчество в формах целостности.
Почему наука и искусство, политика и философия должны быть сферами творчества, а не культура как таковая ? С возрастающей интеграцией человеческого разума его силы переместятся именно в сферу такой транскультурной творческой работы в том смысле, что транскультура — это способ культуры, созданный не внутри ее отдельных сфер, а органически в целостных формах самой культуры. -в области взаимодействия всех его составных частей.Вся наша посткоммунистическая культура может стать лабораторией, в которой все предыдущие культурные формы и стили будут заново открыты и смешаны в новую нетоталитарную целостность .
4. Культура и религия
Без сомнения, самый болезненный вопрос в этой зарождающейся тотальности — это отношения между культурой и религией. Обе стороны этой темы в Советском Союзе совершенно игнорировались. С точки зрения официальной культуры признание получили только гуманистические и атеистические ценности, а с точки зрения Православной церкви верующим было предписано не вмешиваться в «культурную» деятельность.Пришло время избавиться от предрассудков, которые, как ни странно, многие верующие разделяют с неверующими: только прошедшее время культуры принадлежит религии, тогда как культурное будущее не имеет ничего общего с верой.
Я хотел бы подчеркнуть, что как дореволюционные, так и послереволюционные отношения между культурой и религией были предрасположены к взаимному безразличию или даже несовместимости. Как известно, великий русский поэт Пушкин и великий русский святой Серафим Саровский жили одновременно, но ничего не знали друг о друге.Подобные факты могут оказаться фатальными для русской культуры в целом. Это отчуждение может быть связано с некоторыми особенностями православной духовности, с ее традиционным подозрением в мирских и светских аспектах культурной жизни. Когда Гоголь и Толстой пытались посвятить себя религиозному призванию, они выражали решительное отвращение к культуре, в том числе к своей предыдущей художественной работе. И наоборот, когда культура провозгласила свою свободу и независимость, она агрессивно бросила вызов религиозным ценностям: советская атеистическая пропаганда является гиперболическим продолжением этого антиклерикального жеста, похожего на эпоху Возрождения.До сих пор мы видели убедительные доказательства того, что это разделение губительно для обеих сторон. Культура теряет свой духовный и, по сути, этимологический корень, которым является «культ», превращаясь в своего рода грамотность, технологию, которую Сталин назвал «инженерией человеческих душ». Что касается религии, то она теряет свой жизненный энтузиазм, дряхлеет и превращается в ритуал — технологию спасения, которая привлекает исключительно пожилых людей.
Период взаимного отчуждения религии и культуры может теперь закончиться.Стремление таких крупных русских мыслителей начала двадцатого века, как Владимир Соловьев, Дмитрий Мережковский и Николай Бердяев, которые рассматривали всестороннее взаимодействие религии и культуры как двух суверенных царств, теперь, в конце века, может стать жизненно важным, широко очевидным императивом. . Религия и культура — две неотъемлемые части одного целого, восходящие и нисходящие устремления, дыхание и выдох.
Тем не менее, в различных националистических и квази-ортодоксальных писаниях выражается стремление восстановить средневековые образцы духовной жизни, чтобы восстановить церковный контроль над культурой.Но если бы такой дисбаланс был воспроизведен в этот момент времени, культура непременно потребовала бы мести в следующий момент, и так далее с до бесконечности .
Я считаю, что новый вид отношений между этими двумя глобальными системами человеческой жизни и мышления должен быть разработан с помощью культурологии. Чтобы проиллюстрировать этот аргумент, я бы провел параллель между отношением материальной культуры к природе и между отношением духовной культуры к религии. С древних времен и до средневековья человек почти полностью зависел от природы, но начиная с эпохи Возрождения он пытался обрести свободу от своей жизненной среды.В результате он настолько оскорбил и покорил природу, что истощил многие жизненные ресурсы и начал задыхаться от отравленного воздуха и умирать от жажды возле отравленного ручья.
То же произошло и в духовной сфере. Когда Бог был удален из центра вселенной, свергнут как Создатель всего видимого и невидимого — что мы поставили на его место? Сначала это был коллективный эгоцентризм всего человечества; затем возобладали социальные критерии, и «центр вселенной» стал отождествляться с эксплуатируемым человечеством и угнетенными классами.Еще позже политические партии и «партийный дух» объявили себя мерой того, что можно было считать «духовным», пока культура не превратилась в культ партийных лидеров и «фюреров». Таким образом, в своем стремлении к полной автономии и независимости от Бога духовная культура утратила свои жизненно важные истоки и гуманистическое кредо, точно так же, как техническая культура, достигнув господства над природой, утратила способность служить человечеству.
Где найти выход? Должны ли мы вернуться к верховенству природы или сверхъестественного над слабыми и дрожащими людьми? Я считаю, что транскультурный подход как к материальной, так и к духовной культуре является наиболее многообещающим.Это означает, что культура, преувеличенная стремлением к автономии на протяжении последних четырех столетий, может постепенно заново открыть для себя культурных ценностей, выходящих за рамки культуры , в сферах как естественного, так и сверхъестественного. Экология, или отношение материальной культуры к природе, должна быть дополнена аналогичным подходом духовной культуры к сверхъестественному. Культурный эгоцентризм должен уступить место центризму eco , поскольку культура выходит за пределы своих собственных границ, спускаясь к природе и восходя к Богу.
То, что я предлагаю, не является ни античной моделью природоцентризма, ни средневековой моделью теоцентризма, а позицией, созвучной новым измерениям самой культуры. Достигнув тупика своего автономного развития, культура должна теперь признать свою зависимость от естественного и сверхъестественного, должна пересмотреть свое высокомерное противодействие окружающей среде и религии. Культурология как продвинутое самосознание культуры выходит за эти узкие, «нарциссические» пределы, порождая транскультурное сознание, которое стремится ассимилировать ценности некультуры.
5. Путь к транскультуре
Двадцатый век — это век различных независимых культур, каждая из которых имеет свою уникальную ценность. Поскольку эти ценности оказали влияние на сознание двадцатого века, развитие культурологии стало естественным результатом. Культурология возникает, когда культура способна взглянуть на себя со стороны, предполагая существование другой культуры за пределами ее собственных границ. Одним из достижений культурологии является сама возможность употребления слова «культура» во множественном числе, потому что раньше это существо истолковывалось как исключительно единичное, как модель, норма или идеал, общий для всех народов.Была только одна культура, которая считала себя культурой . Разнообразные традиции разных народов или наций можно было рассматривать как более или менее «культурные» в той мере, в какой они принадлежали или не принадлежали к этой единой культуре, отождествляемой со стандартами западной цивилизации. Сегодня, однако, широко признано, что существует культур, не только различных национальных и расовых культур, но и молодежных культур, женских культур и так далее. Культурология возникает в пространстве между этими культурами, как их способность дистанцироваться и объективировать существование друг друга.Культурология неразрывно связана с демократическим и плюралистическим менталитетом, потому что она берет свою отправную точку из разрыва между различными культурами.
В России теперь мы можем наблюдать и ощущать многообразие культур, которые вошли в духовное пространство двадцатого века и теперь стремительно занимают наше сознание в течение всего лишь двух или трех лет. Двадцатый век кажется нам чересчур поспешным с его неумолимым ускорением стремления схватить и принять все, что было открыто и разработано во многих эпохах и нациях.Но теперь России предстоит освоить это обилие изобретений и открытий в течение нескольких лет. Современная российская культурная ситуация — это сжатая копия мультикультурной ситуации двадцатого века.
«Шок прошлого» — теперь доминирующее чувство в бывшем коммунистическом мире, аналог «шока будущего», который доминировал в западном мире в 1960-х годах. Это шок от встречи с собственным незнакомым прошлым, а также с прошлым всего человечества. Нам удалось обойти шок будущего (заимствуя термин Элвина Тоффлера), но теперь неизбежный стресс, связанный с приспособлением ко времени, настигает нас в другой форме, поскольку мы шокированы внезапным столкновением со всей культурой двадцатого века, большая часть которой уже ушли в прошлое для западных стран.Культурное прошлое всего человечества — теперь наше единственное будущее.
В то же время мы лицом к лицу сталкиваемся с нашим прошлым. За семьдесят лет существования нашего советского «дивного нового мира» у нас практически не было прошлого; мы существовали в настоящем и надеялись дожить до будущего. Дореволюционное прошлое было не нашим, а погибшим, истребленным народом «проклятой царской России». Однако теперь коммунистическое «будущее» и социалистическое «настоящее» стали нашим подлинным прошлым, так что вся наша история открывается нам одновременно, вместе со всеми историческими пластами человечества двадцатого века.Настоящее может быть хаотичным, нестабильным и нереальным, но мы, наконец, овладели прошлым, или, точнее, оно вышло вперед, чтобы овладеть нами.
В какой-то степени нынешняя ситуация может напоминать нам период первых пятилеток, когда Россия пыталась догнать успехи западной промышленности, которая последовательно развивалась веками. Неявная задача текущего периода могла быть сформулирована в таком лозунге: «За пять лет овладеть культурой ХХ века!»
Эта ситуация сильно усугубляет опасность культурной шизофрении.У нас кружится голова от обилия новых литературных периодических изданий и творческих организаций, от процесса вмешательства, когда один культурный слой накапливается поверх другого. Набоков становится для нас современником ранних писателей-гностиков, а Солженицына можно прочесть за одно время с Kamasutra . В одном журнале фотографии обнаженных людей появляются вместе с благословениями и наставлениями православного патриарха. Юноша может посещать лекции по античному искусству, представления авангардного театра, выставки средневековых икон и абстрактных картин; он может читать Генри Миллера и жизнь преподобного Сергия Радонежского, может слушать рок-музыку и участвовать в психологических группах для межличностного общения.Взятые по отдельности, все это может скорее расщепить и опустошить личность, чем обогатить ее. Как мы должны реагировать на угрозу культурной шизофрении? Транскультурное развитие необходимо для приобщения человечества к целостности культуры и взаимосвязи ее основных ветвей и смыслов. В противном случае мы можем получить сотни книг, концерты, выставки, ансамбли — но никакой культуры вообще. Транскультурный подход побуждает искать в разнообразии образовательных и профессиональных сфер некий центр, которым является сама культура.
Какая связь между культурологией и транскультурой? Я называю культурологией дисциплину, которая исследует разнообразие культур и их общие принципы. Однако транскультура — это не просто область знаний, это, скорее, способ существования на перекрестке культур. Транскультурная личность естественно стремится освободить свою родную культуру — русскую, советскую или любую другую — от самообожествления и фетишизма. Если все другие специалисты работают внутри своих дисциплин или сфер культуры, неосознанно соблюдая все свои правила и табу, культуролог делает свою собственную культуру объектом определения и тем самым превосходит ее конечность, ее ограничения.Поступая таким образом, он или она демонстрирует транскультурную осведомленность, проистекающую из этого призвания. Культуролог — это «универсалист», причастный к разнообразию культур. Это предполагает некоторую эмоциональную открытость и объем знаний, которые могут освободить человека от ограничений, налагаемых каким-либо конкретным культурным наследием. Более того, транскультура предлагает менталитет, способный принести терапевтическую пользу тем, кто страдает маниями, фобиями и навязчивыми идеями, связанными с их принадлежностью к определенной культурной группе.
Качество и достоинство культуры — это ее способность освобождать человека от диктата природы, ее ограничений и потребностей. Но это заслуга и способность транскультуры освободить человека от самой культуры, от ее условностей и навязчивых идей. Обычно мы живем как заложники культуры. Мы чувствуем себя обязанными действовать и думать в полном соответствии с предпосылками, заложенными в наших родных традициях. Если кто-то действительно «советский» человек, он должен считать Мавзолей Ленина с его хорошо сохранившимся трупом великого вождя священным центром своего рода идеологической вселенной.Он должен верить, наряду с Лениным и Чернышевским, что обязанность литературы — научить людей жить. Но когда он учится участвовать в других формах поклонения и других формах творческого письма, он перестает быть чисто «советским» человеком и становится более цельной личностью без узко определенных атрибутов. В этом заслуга транскультурного сознания.
В статье «Партийная организация и партийная литература» (1905) Ленин утверждал, что невозможно жить в обществе и быть свободным от общества.Но сегодня мы видим, что разнообразие культур создает эту возможность, делает социальное существо свободным от общества, а также дает новый импульс социальному развитию. Можно согласиться с Лениным: вы не освобождаетесь от машины, когда едете на ней, но тем не менее вы едете на ней только потому, что вольны. Обществом также движут — в первую очередь те люди, которые свободны от общества, от его ограничений и табу.
Хотя транскультура преодолевает ограничения культуры, она не означает простого отрицания.Это искушение слишком знакомо русскому народу с его многочисленным прошлым опытом культурного нигилизма. Некоторые очевидные примеры — это, по словам Пушкина, «бессмысленные и беспощадные русские восстания» разинщины и пугачевщины , Великой Октябрьской революции ленинщины и сталинщины . Подобно варварству, такие движения выходят за пределы культуры, но в этом они раскрывают свои анти- культурных, а не транс- культурных основ.Транскультура — это трансцендентность культуры, которая не имеет ничего общего с варварским разрушением культурных объектов и традиций. Последнее происходит в основном из докультурных условий и становится антикультурной силой; хотя оно пытается освободить личность, в конце концов оно подчиняется еще более суровым законам племени или толпы. Таким образом, культурный нигилизм Мао или Сартра кажется простой иллюзией освобождения. Когда он разрушает культуру, человек попадает в плен по своей природе и возвращается в мир голода, террора и угнетения: борьбу за выживание.Об этом свидетельствуют все факты современного варварства.
В отличие от этого, транскультура не регрессирует в гораздо более жестокую сферу «естественного закона», поскольку выходит за рамки культуры, а скорее переходит к новым степеням свободы. Освобождение от культуры через саму культуру и ее бесконечное разнообразие — фундаментальный принцип транскультурного мышления и существования.
Могут быть определенные точки соответствия между транскультурным сознанием и концепцией супра-ментального сознания, описанной и продвигаемой в Индии великим мудрецом Шри Арубиндо.В принципе, однако, супраментальное сознание может быть достигнуто изолированным индивидуумом в его или ее собственном доме посредством процесса внутреннего созерцания, тогда как транскультура не достигается чисто психологическим процессом. Русские, например, больше ориентированы на Запад, чем на Восток, и для них сознание имеет реальное значение только в его отношении к материальной культуре человечества. Хотя транскультура зависит от усилий отдельных людей преодолеть свою идентификацию с отдельными культурами, на другом уровне это процесс взаимодействия между самими культурами, в котором все больше и больше людей оказываются «вне» какой-либо конкретной культуры, «вне». его национальных, расистских, сексистских, возрастных, политических и других ограничений.Я бы сравнил это состояние с идеей Бахтина о «вненаходимость», , что означает нахождение вне какого-либо определенного способа существования или, в данном случае, нахождение на границе существующих культур. Эта область за пределами всех культур расположена внутри транкультуры и относится к этому состоянию непринадлежности ( находится в месте вненаходимости) .
Транкультура — это способ существования человека, освобожденного от природы культурой и от самой культуры культурологией.Этот транскультурный мир никогда подробно не описывался, потому что путь, ведущий к нему — культурология или сравнительное изучение культур — был открыт только недавно. Некоторые великие идеи можно найти в работах Освальда Шпенглера, Германа Гессе, Томаса Манна и Хорхе Луиса Борхеса, но даже здесь транскультура часто представлена в упрощенной форме, как своего рода карикатура. Транскультура — это не разрозненная и изолированная конструкция, отделенная от реальных исторических культур, как, например, предлагает Гессе в своем романе « Игра в бисер ».Гессе придает несколько сатирический тон своему описанию «транскультурной» Касталии, хотя он критикует то же «легкое литературное», «фельетонное» качество как черту докасталийской культуры. В отличие от консервативной и эскапистской Игры Гессе, которая по сути является производной и запрещает создание новых знаков и ценностей, транскультура полностью стремится к сфере творчества.
Транскультурный мир лежит не отдельно, а внутри всех существующих культур, подобно многомерному пространству, которое появляется постепенно в течение исторического времени.Это непрерывное пространство, в котором нереализованные потенциальные элементы не менее значимы, чем «реальные». Как место взаимодействия между всеми существующими и потенциальными культурами, транскультура даже богаче, чем совокупность всех известных культурных традиций и практик.
Через признаки существующих культур «транскультурный» пытается восстановить таинственный сценарий одновременно присутствующего и отсутствующего транскультурного состояния. По сути, он или она одновременно открывает и создает это царство.В то время как ученые, художники и политики вносят значительный, но отдельный вклад в культуру в своих областях, транскультурист разрабатывает пространство транскультуры, используя различные виды искусства, философии и науки в качестве инструментов для развития всеобъемлющего жанра культурного творчества. Из существующих материалов он стремится изобрести новые культурные возможности, так что «искусство возможного» действительно является его самым необходимым навыком.
В великом рассказе Борхеса «Алеф» самая яркая точка вселенной описывается как место, где все времена и пространства могут присутствовать вместе, не скрывая и не затмевая друг друга.В типичных терминах физической реальности Алеф — это чистая фантазия, но культура — это, в конце концов, символическая реальность, которая может бесконечно уплотняться за счет увеличения объема ее значений. Мы можем представить себе транскультуру как Алеф всего культурного мира.
6. Транкультура и мультикультурализм
Концепция транскультуры сформировалась в России за последнее десятилетие, и ее следует четко отличать от мультикультурализма, специфически американского феномена, с которым он, тем не менее, имеет некоторые общие черты.
Транскультурный проект возник в тоталитарном обществе, изолированном на семьдесят лет от других культурных миров. Эти условия определили двоякую цель транскультурной деятельности: во-первых, бросить вызов одномерности официальной культуры, а во-вторых, подняться к подлинной тотальности, которая охватывает различные способы культурного мышления.
Например, если я живу в конце двадцатого века, как я могу получить опыт итальянца четырнадцатого века, или древнего грека, или одного из первых христиан? Если я мужчина средних лет, я хотел бы как-то участвовать в спонтанной игре детей, а также приобщиться мудрости пожилых людей.Если я инженер, я не могу полностью реализовать свой человеческий потенциал, не участвуя в художественной, музыкальной или литературной деятельности. Поскольку культурная реальность в Советском Союзе была настолько бедной, она фактически стимулировала творческий поиск альтернатив за пределами одной страны и одного столетия.
Многие представители молодой русской интеллигенции имели три или четыре сильно дифференцированных аспекта своего профессионального профиля. Например, конкретный человек может быть математиком по образованию, одновременно зарабатывая на жизнь смотрителем и посвящая себя в первую очередь написанию стихов.Тот же человек может петь в церковном хоре и заниматься боевыми искусствами. Участие в нескольких культурах, некоторые из которых изначально исключали друг друга, стало фундаментальным принципом транскультурного существования. Одновременно читая книги о гностиках и о ГУЛАГе, можно попытаться примирить эти переживания в рамках своего собственного существования, что может оказаться не так уж и сложно, когда мир в широком смысле рассматривается как одна большая тюрьма.
Мультикультурный подход, который был предметом горячих дискуссий, когда я впервые приехал в Америку, влечет за собой аналогичный импульс к объединению различных культур, признавая их множественность.Действительно, у транскультурных и мультикультурных тенденций есть много общего; они отвергают идеологические каноны: тоталитарный коммунизм в случае бывшего Советского Союза, евроцентризм и доминирование белых мужчин на Западе. Они также разделяют острый интерес к тем «экзотическим» культурам, которые были закрыты для советских людей «железным занавесом», и к тем, которые на Западе рассматривались как «угнетенные меньшинства».
Эти поиски в двух обществах пошли по совершенно разным траекториям, однако, по существу, в противоположных направлениях.Например, евроцентристский подход, который казался американским мультикультуралистам таким скучным и угнетающим, был весьма привлекателен для советских транскультурников, которым долгое время было отказано в праве самим быть европейцами. Несколько случаев из личного опыта могут проиллюстрировать эту точку зрения. Однажды я был удивлен, когда мой друг, финский бизнесмен и писатель, пошел в московский музыкальный магазин, чтобы купить много альбомов азербайджанской музыки не только для себя, но и в качестве подарка западным друзьям, разделявшим его интерес.Ни один уважающий себя москвич не подумал бы о покупке таких альбомов, так как эта музыка считалась провинциальной и представлявшей собой второстепенную эстетическую ценность. Подобное воспоминание возникает из моей первой зарубежной поездки в Венгрию в 1984 году. Я был вне себя от радости возможности посмотреть фильм « Апокалипсис сегодня», фильм «», пользовавшийся огромной подпольной репутацией в Советском Союзе. Но когда я попытался передать свой энтузиазм американскому путешественнику, с которым я подружился, я был удивлен, обнаружив, что его больше заинтересовало то, что он считал лучшим предложением: посетить представление кубинского цирка! Таким образом, окончательно проявилось мое распространенное среди советских граждан предубеждение против кубинских и азербайджанских товаров, как второсортных по сравнению со всеми «западными» товарами.
Конечно, это лишь поверхностные разногласия по существу российских и американских интересов. Более глубокие различия между транскультурностью и мультикультурализмом можно обнаружить на уровне их конечных духовных целей и структурных различий.
В Соединенных Штатах традиционный упор на права и достоинство людей естественным образом порождает разнообразие культур, происходящих из разных национальностей, рас, полов, возрастов и т. Д.Поскольку человек является абсолютным меньшинством, логично, что индивидуалистические и плюралистические тенденции в Америке поддерживают множество отдельных и отличных культур меньшинств.
С другой стороны, русская философская традиция делает ставку на целостность, которая сыграла ряд жестоких шуток с событиями российской истории и породила политический тоталитаризм, который по иронии судьбы пытался объединить всю жизнь в единый идеологический принцип. Это следствие определило конкретные границы советской транкультуры в ее попытке достичь свободной многомерной целостности, противоположной тоталитаризму.Таким образом, понятие транскультуры отличается от американских идей тем, что они принимают множество отдельных и различных культур, которые могут существовать бок о бок, не проявляя ни малейшего интереса друг к другу.
Хотя принцип мультикультурализма может заключаться в том, чтобы «принимать и ценить различие», результат такой дифференциации иногда аналогичен полному на различиях на практике. Поучительно наблюдать, как плюрализм, доведенный до крайности, может превратиться в свою противоположность.Парадокс равенства всех людей, гетеросексуалов и гомосексуалистов, здоровых и инвалидов, может привести к стиранию фундаментальных различий между ними. Есть два вида безразличия: один тоталитарный, подавляющий всех, кто пытается отличиться, и другой, терпимый, принимающий всех, кто отличается, как если бы все люди по сути были одинаковыми.
Плюрализм как таковой, «самодовольный» плюрализм, который признает, что у каждого есть свои собственные нравы и обычаи, имеет тенденцию делать нас равнодушными и притупляет очарование дифференциации.Если все равно, самодостаточно или оправдано само по себе, тогда мы теряем сострадание или влечение к тем, кто отличается от нас. По логике тотального равноправия, почему трудоспособным инвалидам или «инвалидам» это воспринимается как оскорбление и унижение. Но такое понимание «различия» близко к безразличию. Сострадание здоровых людей к инвалидам, на котором построены многие сцены в Евангелиях, необходимо для любой культуры.Представлять тех страдальцев, которых исцелил Христос, «инвалидами» или мертвых, которых он воскресил «иначе живыми», не только кощунственно, но и безвкусно — лишено вкуса, ни горячего, ни холодного.
Все искренние чувства возникают между людьми, потому что они глубоко отличаются друг от друга: между мужчиной и женщиной, здоровым и инвалидом, ребенком и взрослым. Чем больше разница, тем сильнее становятся наши эмоции. Вообще говоря, тема эмоциональности была сильно недооценена за последние тридцать лет, примерно с тех пор, как экзистенциализм был вытеснен с западной философской сцены.Но теперь мы вступили в новую постструктурную эпоху, когда эмоции должны вернуть себе место в философии различий, потому что эмоции являются источником жизненной силы различий.
Богатство культуры будет потеряно, если все существующие культуры будут рассматриваться как самодостаточные и совершенные по-своему. Более плодотворный подход требует от каждой группы учитывать свои собственные при достаточности . Мужчина может чувствовать недостаток в том, что он не может рожать детей, не может чувствовать то, что чувствует женщина; он хотел бы оставаться тем, кто он есть, но также стать тем, кем он не является.Никто не может охватить все в этом существовании, поэтому каждому чего-то не хватает. Возможно, самый эффективный способ почувствовать разницу — это принять чувство собственной незавершенности.
Я рассматриваю культуру как форму компенсации за нашу несовершенность. Ни один человек не является целостным существом, поэтому все мы призваны восстановить через наши культурные восприятия и занятия полную целостность, которую природа не дает нам. Я белый мужчина средних лет, но в то же время я хотел бы быть черным, женщиной или подростком.. . Этот опыт можно получить через книги, театр, живопись, кино в качестве компенсации за мою особенность. Есть много способов самоидентификации в культуре, которые природа не может предоставить, так что культура становится бесконечностью самоопределения, самокомпенсации. Посредством культуры у человека есть шанс стать кем угодно, как будто волшебная палочка позволяет нам идентифицировать себя с женщиной, ребенком или сумасшедшим.
В то же время мы должны помнить, что естественные культуры имеют тенденцию становиться просто продолжением врожденных человеческих качеств, что проявляется в самих терминах «расовые», «национальные» и «половые» различия в культуре.Обрести собственную культурную идентичность — значит просто быть верным своей природе, своему происхождению. Транскультурные занятия должны быть нацелены на понимание и преодоление ограничений своей врожденной культуры, то есть тех вторичных, «культивируемых» недостатков и ограничений, в которых заключено культурное «я». Я бы назвал такой проект «творческим плюрализмом», потому что он не ограничивается простым признанием целостности других культур, но заходит так далеко, что считает их все необходимыми для дальнейшего развития друг друга..
Этнические и сексуальные меньшинства как в Соединенных Штатах, так и в современной России стремятся продвигать свои собственные ценности и иметь возможность добиться успеха в национальном масштабе. Эта мультикультурная тенденция вполне оправдана, но ее необходимо дополнить транскультурной перспективой. Мультикультурализм исходит из предположения, что каждая этническая, сексуальная или классовая культура важна и совершенна сама по себе, в то время как транскультура исходит из предположения, что каждая конкретная культура неполна и требует взаимодействия с другими культурами.
Здесь я хотел бы рассмотреть работу Мераба Мамардашвили (1930-1990), крупного русского философа грузинского происхождения, который провел свои последние годы в Тбилиси, где он страдал от прелестей грузинского культурного и политического национализма, усугубленного падением Советской империи. Мамардашвили симпатизирует мультикультурализму как способу освобождения от монолитного культурного канона, но возражает против прославления этнического разнообразия как такового. Повторяя типичный аргумент: «Каждая культура ценна сама по себе.Людям нужно разрешить жить в рамках своей культуры », — возражает Мамардашвили.« Защита автономных обычаев иногда оказывается отрицанием права на свободу и на другой мир. Кажется, будто за них приняли решение: вы живете так оригинально, что жить так же культурно, так и продолжайте жить так. Но меня кто-нибудь спрашивал лично? Что, если бы я был перуанцем или не знаю кем. . . . Может быть, я задыхаюсь в рамках полностью автономных обычаев моей сложной и развитой культуры? »
Таким образом, по мнению Мамардашвили, необходимо сохранить право жить вне своей культуры, в границах культур, сделать «шаг, выходящий за пределы собственного окружения, родной культуры и среды, ни ради чего другого».Не ради какой-то другой культуры, а ради ничего. Превосходство в ничто. Вообще говоря, такой акт действительно является живым пульсирующим центром всей человеческой вселенной. Это изначальный метафизический акт ». Под метафизикой, в ее основной сути, Мамардашвили понимает движение, выходящее за рамки каких-либо физических определений и освобождение от какой-либо социальной и культурной идентичности:« Это понятное, благородное стремление защитить тех, кого угнетает какая-то культура. -центризм, например европоцентризм или любой другой — это стремление забывает и заставляет нас забыть, что существует метафизика свободы и мысли, которая присуща не только нам.Это своего рода обратный расизм ». Этот тип расизма является редукционизмом, не только сведением разнообразия культур к одному привилегированному канону, но также сведением разнообразия личностей к их родной,« генетической »культуре. Преодолеть пределы родной культуры не являются предательством, потому что границы любой культуры слишком узки для всего диапазона человеческих возможностей. С этой точки зрения транскультура не означает добавление еще одной культуры к существующему массиву; это скорее особый способ существования, охватывающий культурные границы, выход за пределы «отсутствия культуры», который показывает, как, в конечном счете, человек превосходит все культурные определения.
Более того, сущность данной культуры может быть проникнута с точки зрения другой, чужой культуры лучше, чем с ее собственной внутренней точки зрения. По словам Михаила Бахтина, «только в глазах чужой культуры другая культура раскрывается полнее и глубже». Как указывает Бахтин, человек не может полностью визуализировать даже свое собственное лицо — только другие могут видеть его или ее реальный облик из своего местоположения за пределами этих личных границ. Точно так же древность не знала той древности, которая известна нам сегодня.Древние греки не имели ни малейшего представления о том, что в них было самым важным: что они были г. древними г. Суть «мужской» культуры может быть более глубоко воспринята женщинами; суть «белой» культуры может быть более глубоко воспринята черными, и наоборот. «Быть запредельным» (то есть в положении вненаходимость , как было сказано выше) — выгодная ситуация для понимания. Никогда нельзя понять себя изнутри, не принимая во внимание точку зрения другого, даже если эта «инаковость» зафиксирована только в его собственном сознании.
Разрешите расширить пример отношений между полами. Мультикультурализм подчеркивает особые образцы феминистского письма, в отличие от литературы, в которой традиционно доминируют мужчины, в то время как транскультурность подчеркивает женские идеи и настроения в письме мужчин. Такие выдающиеся русские мыслители, как Василий Розанов в своей книге Люди лунного света (1913), Николай Бердяев в Смысл творческого акта (1916) и Даниил Андреев в своей книге Роза мира (1950 — 1958), подчеркивают идею о том, что творчество преодолевает противоположность полов, делая мужчин более женственными, а женщин — более мужественными.По словам Андреева, возможно, выдающееся интеллектуальное влияние в современной России,
В сферах высшего творчества происходит нечто противоположное тому, что мы видим в физическом мире. Здесь женщина — принцип оплодотворения, а мужчина — принцип формирования и воплощения. Божественная комедия «» — произведение двух авторов, и она не могла появиться без Беатрис и Данте. Если бы мы могли проникнуть в глубины творческого процесса большинства великих художников, мы бы убедились, что именно через женщину духовное семя бессмертных творений было брошено в глубину их [художников] бессознательного, в мир убежище их творчества.
С точки зрения мультикультурности писатель-мужчина является представителем сугубо мужской культуры, тогда как писатель-женщина должна выражать сугубо женскую точку зрения. Категория различия становится прежде всего способностью к самоидентификации; у каждого есть свой постоянный характер и характер, зависящие от рождения женщиной или мужчиной, черным или белым и так далее. Мультикультурализм предполагает, что эти врожденные различия определяют конкретные культурные роли каждого человека.Транкультура, с другой стороны, утверждает, что культурное развитие трансформирует природу человека, обеспечивая те характеристики, которые отсутствовали в его или ее первоначальном естественном состоянии. Личность способна преодолевать различия между полами и, таким образом, рассматривается как микрокосм различных культурных типов. По мнению Даниила Андреева, «женственностью должна быть не только женщина, но и мужчина».
Андреев предсказывает, что «будет цикл эпох, когда женская составляющая человечества проявит себя с невиданной силой, уравновешивая прежнее господство мужских сил в совершенной гармонии.«В то время как мультикультурализм защищает гендерные различия от силы единого мужского канона, транскультура стремится к« всеединству »( vseedinstvo ) или« андрогинизму », а не к какой-либо специализации. На Западе борьба против сексизма является считается переходом от принудительной культурной интеграции к творческой дифференциации и равенству. В России это переход от узколобого дробления культуры к ее будущему духовному синтезу.
Обеспечение равных возможностей для каждой расы и пола — это только политический и правовой аспект культуры.Духовный аспект означает помощь каждому полу и расе почувствовать, что они существуют в контексте других культур, помочь каждому человеку идентифицировать себя не только со своей социальной, национальной и сексуальной группой, но и с представителями других групп. Идеал различия означает отличаться не только от других, но и от самого себя, перерасти свою идентичность как естественное существо и стать целостной личностью, которая может включать в себя качества и возможности опыта других людей.В глубине души мы хотим принадлежать ко всем культурам и делиться всем возможным опытом, и это делает каждого человека потенциально транскультурным существом, которое не только погружено в одну культуру, но и пытается противодействовать ей посредством контакта с другими.
Обсуждения «различия», которые были так популярны в академических кругах, остаются поверхностными, если они не учитывают его ключевой аспект: различия внутри целостной личности, которая может принять «инаковость», занимая точки зрения разных культур.Для культуролога это означает быть представителем других культур в рамках своей родной культуры и быть представителем местной культуры в других. Как только процесс дифференциации проникает в интимное «я» индивида, он превращается в процесс интеграции с другим. Руководящий принцип такой самодифференциации сформулирован Хоми К. Бхабха:
Культурные различия знаменуют собой установление новых форм смысла и стратегий идентификации посредством процессов переговоров, в которых невозможно установить дискурсивный авторитет, не выявив различия между ними. сам.
Я хотел бы добавить, что это «отличие от самого себя», а не просто «отличие одного от другого», является отправной точкой культурной интеграции.
американских университетов действительно преуспели в разработке все новых альтернативных и мультикультурных прочтений классических и современных текстов. На следующем этапе будет важно интегрировать все эти альтернативы в более широкую культурную модель, способную привлекать не только конкретные меньшинства, но и универсальный потенциал человеческого понимания.Таким образом, мультикультурная дифференциация может, наконец, привести к переживанию новой расширенной творческой целостности, которая является транскультурой.
1988, 1991
Новая «готовая мысль» для России
Примечания
1. По вопросу об истоках этой культурологической моды и ее нынешнем развитии см. Подробное исследование
, проведенное Шеррером Дж. (2003) Kulturologie. Russland auf der Suche nach einer zivilisatorischen
Identität, Göttingen, Wallstein Verlag.
2. Культурология в школах менее идеологически привержена, чем в университетах, и рассматривается в основном как предмет, связанный с общей культурой. Его преподают не реже одного раза в неделю и персонализируют
учителя, которые могут по-своему интерпретировать идею «культурологии». Темы адаптированы к возрасту аудитории
: например, в начальной школе материал часто представляет собой рассказ из фольклора и
«национальные традиции».
3. Стандарт Министерства образования по специальности «020600 — культурология», доступный в сети интер-
.
4. Это международное сотрудничество было налажено в контексте программы Европейского Союза
по реформе высшего образования в России. Исследователи из EHESS и Бохума сотрудничают в
, разрабатывая курсы Института. Западные лекторы преподают здесь короткие модули, а российские студенты
могут получить кредиты для обучения в двух партнерских вузах.
5. Он состоит из пяти преподаваемых модулей: общие гуманитарные науки, естественные и точные науки, специализированные предметы
(литература, история искусства, музыковедение, семиотика, религиоведение и т. Д.), Отдельные классы
(общение или источниковедение), семинары по профессиональной специализации.
6. Некоторые пробелы могут вызывать удивление: например, отношения между природой и культурой, которые являются нормальным явлением для французского преподавания философии
, отсутствуют почти во всем культурологическом мышлении.Хотя
часто имеет экологический блеск, осуждая индустриальный мир как загрязняющий и движимый потребителями,
отношения между людьми и животным миром и, как следствие, вопрос о происхождении
языка, являются чаще всего полностью игнорируется.
7. Лев
№
, И. А. (2001), Культура. Uc
№
Ебное пособие для студентов ВУЗов. Учебник для студентов
вузов. Минск, Тетрасистема, с.1.
8. Я мог бы наугад упомянуть Монтескье, Руссо, Фрейда, Юнга, Ницше, Вебера, Шпенглера,
Тойнби, Кассирер, Ясперс, Леви-Стросс, Барт, Бродель, Фуко, Деррида, Ортега-и-Гассет, ,
и т. Д.
9. Ярлык, присвоенный периоду с 1880-х до первого десятилетия 20-го века, в течение которого
в России процветали различные модернистские направления в религиозной философии, поэзии, живописи и т. Д.
Этот период последовал за «золотым веком» русской литературы с появлением
ивеликих романов (Гоголь, Достоевский, Толстой.. .).
10. Наиболее цитируемыми авторами являются панславянские консерваторы Н. Данилевский и К. Леонтьев, философы
В. Соловьев, Н. Ф. Федоров, Н. Бердяев и С. Булгаков, а также такие ученые, как В. И. Вернадский,
и, наконец, более современные фигуры, такие как Бахтин и Лосев.
11. Драч, Г. В. (ред.), Введение в культурологию, Ростов-на-Дону, Феникс,
1998, с. 132.
12. Горелов А.А. Культурология.Uc
№
ебное пособие, Москва, Урайт, с. 209.
13. Таким образом, в ряде учебников есть главы по истории Запада, в которых она изучается как время —
меньше целого, без серьезных политических разрывов: исчезновение Римской империи, рост
средневековые государства, религиозные войны, революции современности, переход к республике
или парламентской системе игнорируются. Что касается глав, посвященных России, то здесь также имеются великие
переломов в российской истории, особенно тех, что относятся к современному периоду (реформы Александра II,
революции 1905 и 1917 годов, сталинизм, десталинизация и т. Д.) отсутствуют во всех анализах, потому что они
считаются не имеющими отношения к выражению «сущности» национальной идентичности.
14. Есин А. Б. Введение в культуру. 6.
15. По этой теме см. Seriot, P. (1999), Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structureisme en
Europe centrale et orientale, Paris, PUF.
16. Багдасаран Н.Г. (ред.) (1998), Культурология в вопросах и в ответах, Москва, Модек, с.30.
17. S
№
иссова, Н.В. (ред.) (2001), Культурология: эксаменационные ответы,
Ростов-на-Дону, Феникс, с. 14.
Ларуэль: Культурология
35
Глоссарий социальных исследований
_________________________________________________________________
Культурологизм
определение сердечника
Культурологизм относится к подходу в социальных науках, который использует культурные изменения в качестве основы для анализа социальных изменений.
пояснительный контекст
Культурологический подход был разработан и популяризирован в 1920-х и 1930-х годах такими людьми, как Огберн, Уайт, Дороти Томас и Кребер, а позже развит Мертоном.
Важнейшей задачей культурологического подхода является прогресс науки. Культурологи утверждали, что решающим для культуры является практическое проявление развития науки, т. Е.э., изобретение. Кроме того, наука развивается не в результате работы отдельных гениев, а, скорее, в результате культурного развития. Они предложили культурную версию пословицы: необходимость — мать изобретения, подразумевающая, что, если кто-то не изобретает данный продукт, это сделает другой. Изобретение — это результат уровня технологических инноваций, а не историческая случайность отдельного гения-изобретателя.
Культурологический подход противоположен менталистскому взгляду, полученному из биологии и поддерживаемому Гальтоном (1869) и другими подобными продуктами социального дарвинизма.Следуя линии социальных критиков, таких как Кули, Уорд и Болдуин (первые два, по общему мнению, и, по крайней мере, в случае Кули, очевидно, оказавшие значительное влияние на чикагцев в целом), культурологический подход отрицал, что научное открытие было основано на наследственном гении, а не на неравенстве, основанном на биологических различиях
Культурологи не утверждали, что изобретения неизбежны, но что они весьма вероятны при определенном уровне умственных способностей.В качестве доказательства этой культурной, а не индивидуальной основы для изобретения культурологи приводят широко распространенное явление множественных открытий.
Бранниган (1982) утверждал, что множественные открытия — единственный наиболее важный аргумент в пользу культурологического подхода. Однако он продолжает опровергать большинство примеров множественных открытий, которые приводят Огберн и Томас. Тем не менее Огберн и Томас были убеждены, что открытия были результатом культурных контекстов и что, если бы один человек не открыл их, это сделал бы другой.Множественные одновременные диакопирования скорее иллюстрировали это, чем доказывали. «Существует множество свидетельств того, что накопление или рост культуры достигает стадии, когда определенные изобретения, если они не являются неизбежными, безусловно, в высокой степени вероятны при определенном уровне умственных способностей». (Огбурн, 1922, с. 343).
Брэнниган отмечает, что хотя Огберн все еще сохраняет ссылку на менатальные способности, Уайт (1949), цитируя вышеупомянутый отрывок, опускает ссылку на менатальные способности и дает понять, что гений не имеет отношения к умственным способностям.Для него открытия происходят, когда культура достигает «критической массы», и он проводит аналогию с цепной реакцией в уране при достижении критического размера. (Бранниганм, кстати, называет культурологический подход ранним функционалистом).
Бранниган указывает, что А.Л. Кребер был основным источником информации для Огберна, Томаса и Уайта. (См. Kroeber, 1917). Комментарии Крёбера о сверхорганическом были прямым отклонением аргументов Гальтона (1869), касающихся определения социального мира органическим.Он продолжил и расширил раннюю (1897) атаку Кули на Гальтона.
«Согласно Крёберу, великие исторические периоды возникли как функция культурного развития. Крёбер не был готов довольствоваться знакомым синтезом природы и питательных веществ. Он рассуждал так: «Органическая эволюция по существу и неизбежно связана с наследственным процессом, [но] социальная эволюция, характеризующая прогресс цивилизации, с другой стороны, не связана или не обязательно связана с наследственными факторами.’,
Крёбер, 1917, стр. 167. ‘ (Бранниган, 1981, с. 49).
Обратите внимание, что с течением времени снижение наследственности становится более явным, Крёбер, Огберн и Уайт.
Крёбер сосредоточился на изложении исторических закономерностей открытий в науке, а не на том, как это сделал Кули, на атаках на слабые места органического взгляда Гальтона, игнорировавшего факторы окружающей среды, особенно образование. Бранниган нашел это удивительным, и хотя Кробер мог усилить свою атаку на органическую позицию, он мог также попытаться предложить альтернативную позицию, принимая критику Кули (которая, несомненно, была хорошо известна) прочитанной.[По сути, атака Брэннигана на культурологический подход приводит его к ретроспективной девальвации культурной стороны Аргумент Крёбера].
Проблема с точкой зрения Кребера (и с культурологическим подходом в целом), как указывает Бранниган, заключается в круговороте аргументов или в фактически непроверяемой пропозициональной позиции. Почему ? Потому что сказать, что изобретение происходит потому, что оно культурно подходящее время, по сути, тавтологично.Когда бы это ни случилось, самое подходящее время, независимо от первооткрывателя. Общество к этому готово. Единственное свидетельство, которое может быть предложено, это (а) открытия с готовностью принимаются и усваиваются ожидающим миром (б) одновременное открытие.
Подход культурологического подхода не может дать никаких указаний на то, когда общество достигло своего критического размера для (определенных) открытий, это касается тезиса Брэннигана о природе открытий, поскольку невозможно предсказать открытие на основе оценки культурологического подхода.
Позже культурологи стали меньше интересоваться уровнем умственных способностей и вместо этого склонялись к объяснению критической массы. То есть открытия происходят, когда культура достигает критической массы, то есть уровня развития, который взрывается в цепной реакции изобретений.
Мертон разработал культурологический подход, оспаривая тезис Огберна-Томаса о конкретных одновременных открытиях, предполагая, что, в принципе, все открытия кратны, что гений служит функциональной цели и что возникают споры о приоритетах.Мертон (1961) представил значительные связанные доказательства, такие как заявления ученых о том, что они прекратили работу, потому что другие ожидали их результатов, что неопубликованные работы ученых (часто опубликованные посмертно) показывают, что опубликованные работы других в последующие годы были ожидаемыми, и скоро. Бранниган (1981) считал большую часть доказательств Мертона избыточными или поверхностные, некоторые из них довольно гипотетические и бессмысленные. Бранниган утверждал, что Мертон просто показывает, что знание кратность — обычное дело, но не то, что открытия в принципе кратны.
О гениальности Мертон не отрицает гения и не реабилитирует это центральное место, он просто утверждает, что гений функционально эквивалентно всем другим работникам, которые (позже) открывают то, что открывает гений. Брэнниган снова указывает на круговорот в этой позиции. Позиция Мертона в отношении гения оставляет ему культурологический взгляд, и он явно возвращается к нововведениям позиции Огберна, Томаса Уайта. становятся практически неизбежными по мере того, как определенные виды знаний накапливаются в культурном наследии и по мере того, как социальные процессы привлекают внимание исследователей к конкретным проблемам.'(Мертон, 1973, с. 352). Учитывая, что Мертон считает, что все открытия в принципе кратны, вопрос приоритета очень важен. (Это привело к некоторым исследованиям системы вознаграждения в науке.) Мертон отвергает споры как в сущности эгоистичные (отмечая, что споры не всегда основаны на самих принципах), вместо этого он предполагает, что нормы сообщества (оригинальность, смирение, бескорыстие) жизненно важны .
Проблема культурологического подхода состоит в тавтологическом утверждении, что изобретение происходит потому, что это культурологически подходящее время.Это непроверено. Когда бы это ни случилось, самое подходящее время, независимо от первооткрывателя. Общество к этому готово. Единственное свидетельство, которое может быть предложено, это (а) открытия с готовностью принимаются и усваиваются ожидающим миром (б) одновременное открытие.
Подход культурологического подхода не может дать никаких указаний на то, когда общество достигло своего критического размера для (определенных) открытий, следовательно, невозможно предсказать открытие с помощью культурологического подхода.Более того, упомянутые случаи одновременного открытия подвергались критике со стороны культурологов как часто неточные реконструкции.
См. Также обзор Браннигана 1982 Ли Харви (pdf.file)
Кутурология также развивалась в Восточной Европе как отрасль социальных наук, занимающаяся научным описанием и анализом культурной деятельности.
аналитический обзор
Эпштейн (1999) писал о российском развитии культурологии
:
Культурология — это особая отрасль русского гуманитарного знания, которая нашла свое раннее выражение в трудах Николая Данилевского (1822-85) и Павла Флоренского (1882-1937), кульминацией которых стали работы Михаила Бахтина (1895-1975) в 1960-80-е годы. , Алексей Лосев (1893-1988), Юрий Лотман (1922-93), Владимир Библер (род.1918), Георгий Гачев (р. 1929), Сергей Аверинцев (р. 1937). Культурология исследует разнообразие культур и способы их взаимодействия и функционирует как метадисциплина в рамках гуманитарных наук, цель которой состоит в том, чтобы охватить и связать множество культурных явлений, изучаемых отдельно философией, историей, социологией, литературной и художественной критикой и т. Д.
Философия, лежащая в основе культурологии, восходит к немецкой интеллектуальной традиции, в частности, взглядам Гете, Гердера, Виндельбанда, Зиммеля и Шпенглера на культуру как целостный организм.С этой точки зрения культура включает в себя различные виды познавательной и творческой деятельности, включая политику, экономику, науку, искусство, литературу, философию и религию. Все эти области уходят своими корнями в изначальную интуицию, «пара-феномен» данной культуры, который варьируется в зависимости от конкретных исторических и этнических формаций.
В России эта органицистская концепция культуры нашла свое самое раннее выражение в творчестве Николая Данилевского, славянофильского мыслителя конца XIX века, который за полвека до Освальда Шпенглера обозначил определенное количество культурно-исторических типов, включая «европейский» и «Славянский.«Для Данилевского культура — это самое широкое понятие, охватывающее четыре вида деятельности: религиозную, политическую, социально-экономическую и культурную в узком смысле (искусство, наука и технологии). Культурологические темы широко обсуждались в дореволюционной русской религиозной философии. где Николай Бердяев, Дмитрий Мережковский и Павел Флоренский размышляли о культуре как о дополнительном аспекте культа, то есть как о свободном творческом ответе человека на Божий акт творения. Согласно Бердяеву, «в общественной жизни духовное первенство принадлежит культура.Цели общества реализуются в культуре, а не в политике и экономике ».
Концепция культуры оказалась центральной для многих важных мыслителей постсталинской России как альтернатива концепции общества, доминирующей в марксистской теории. В то время как общество разделено на классы и партии, каждая из которых борется за власть и превосходство, культура обладает потенциалом объединять людей и преодолевать социальные, национальные и исторические различия. С культурологической точки зрения культуру можно определить как символическую отзывчивость: любое новое художественное произведение или философская теория, вводимая в систему культуры, изменяет значение всех других элементов, и таким образом не только прошлое влияет на настоящее, но и настоящее придает форму прошлому.Модель истории как однонаправленного вектора, которая долгое время господствовала над советским менталитетом, была оспорена концепцией культуры как многомерного континуума, в котором эпохи не являются последовательными шагами в развитии человечества, а сосуществуют на равных условиях и придают смысл друг другу. .
сопутствующие проблемы
смежные области
См. Также
Чикагская школа
культура
функционализм
Обзор Харви Браннигана (1982).pdf
Источники
Бранниган А., 1981, Социальная основа научных открытий, Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Кули, C.H., 1897, «Гений, слава и сравнение рас», Филадельфия: Анналы Американской академии политических и социальных наук 9, стр. 1–42.
Эпштейн, М., 1999, «От культурологии к транскультуре» в транскультурных экспериментах: российские и американские модели творческой коммуникации, Нью-Йорк: С.Martin’s Press, стр. 15-30, доступно по адресу http://www.emory.edu/INTELNET/tc_1.html
,
, по состоянию на 4 февраля 2013 г., по-прежнему доступно 2 июня 2019 г.
Гальтон, Ф., 1869, Наследственный гений, Лондон: Macmillan.
Крёбер, А. Л., 1917, «Сверхорганический», Американский антрополог, 19 (2): 163–213.
Мертон, РК, 1961, «Синглтоны и множественные числа в научных открытиях: глава в социологии науки» Труды Американского философского общества, 105 (5), Влияние науки на современную культуру, Конференция, посвященная 400-летию Рождение Фрэнсиса Бэкона (окт.13, 1961), с. 470–86.
Мертон Р.К., 1973, Социология науки: теоретические и эмпирические исследования, Чикаго, University of Chicago Press.
Огберн, В. Ф., 1922, Социальные изменения в отношении культуры и первозданной природы, Нью-Йорк: Viking Press.
Уайт, Л., 1949, Наука о культуре, исследование человека и цивилизации, Нью-Йорк: Grove Press.
авторское право Ли Харви 2012–2020
A NOVEL
Верх
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Домашняя страница
Культурологічна думка
ISSN 2311-9489 (Print)Институт культурологии Национальной академии художеств Украины выпускает сборник научных трудов Культурологические идеи .Это рецензируемый журнал с открытым доступом, в котором представлены результаты фундаментальных и прикладных исследований проблем, которые приобрели особую важность в контексте текущих процессов культурного развития в Украине и в мире.
Сборник научных работ Идеи культурологии направлен на консолидацию и поддержку исследований в области культурологии, философии культуры, искусствоведения. Тематическая направленность профессионального научного издания связана с освещением результатов научных исследований в области культурологии как системы знаний о сущности культуры, закономерностях и развитии среды существования человека; анализ теоретических, исторических, художественных, социологических и других аспектов украинской культурологии; изучение культуры как сверхсложной системы как глобального феномена, изначально связанного с человеческим развитием.
Журнал публикует статьи по следующим направлениям:
- теория и история культуры;
- украинская культура;
- культурная антропология;
- социология культуры;
- экранная культура;
- исследование и сохранение культурного наследия;
- прикладные культурологические исследования и культурные практики;
- этнокультурология;
- философия культуры;
- мировая культура и межкультурные связи.
Выпущено : с 2009 г.
Учредитель и издатель : Институт культурных исследований Национальной академии искусств Украины .
Периодичность : два раза в год.
Языки : украинский, английский, русский (смешанные языки).
Сборник научных трудов Культурологические идеи зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины (Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации: Серия КБ № 21917-13757 ПР от 21 мая 2019 года).
Согласно приказу № 886 Министерства образования и науки Украины от 02.07.2020 , Сборник научных трудов «Культурологические идеи » включен в Перечень научных профессиональных изданий Украины ( Категория B ), в которой могут быть опубликованы результаты диссертационных исследований для получения ученых степеней доктора наук и доктора философии.
Главный редактор : Гельмут Людвиг Лоос , доктор хабилитат (музыковедение), профессор Института музыковедения Лейпцигского университета, Германия, ORCID 0000-0002-4742-3639 .
В редакцию входят известные отечественные и зарубежные ученые.
Целевая аудитория: ученых (культурологи, философы, историки, искусствоведы и т. д.), художники, учителя, докторанты, аспиранты, студенты, работники культуры и всех, кто интересуется проблемами гуманитарного знания.
Условия лицензии: авторов сохраняют авторские права, а также предоставляют редакционной коллегии журнала The Culturology Ideas право публиковать оригинальные научные статьи, содержащие результаты исследований и не рассматриваемые для публикации в других изданиях.Все материалы находятся под международной лицензией CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) .
Заявление об открытом доступе: Редакционная коллегия сборника научных работ The Culturology Ideas придерживается политики открытого доступа к содержанию статей, на основе которой доступные публичные исследования способствуют более глобальному обмену знание. Полнотекстовый доступ к научным статьям сборника научных работ The Culturology Ideas представлен на официальном сайте в разделе Архив .
Редакционная коллегия сборника научных работ The Culturology Ideas приняла меры для обеспечения высоких этических и профессиональных стандартов на основе Принципов прозрачности и передовой практики в научных публикациях . Для получения дополнительной информации см. Publication Ethics section .
Публикации в сборнике отражают взгляды их авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции; в авторы несут полную ответственность за достоверность данных, которые они предоставляют в свои статьи.
Для выявления текстовых заимствований в представленных рукописях редакция сборника научных работ The Culturology Ideas использует программу AntiPlagiarism.net . Рукописи, содержащие чрезмерный процент неоригинального текста или заимствований текста без ссылок на источник происхождения, а также рукописи, содержащие чрезмерный процент цитирования из других источников, отклоняются редакционной коллегией и не допускаются к публикации.
Все полнотекстовые версии статей, опубликованных в сборнике The Culturology Ideas , доступны на официальном сайте Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского .
Почтовый адрес редакции : Институт культурологии Национальной академии художеств Украины, бульвар Тараса Шевченко, 50–52, каб. 705, Киев, 01032, Украина.
эл. Почта : [email protected], тел. .: +380 44 2357228.
Образ Европы, рекламируемый в России
Образ Европы, рекламируемый в РоссииЭдгар Хоффманн
Венский университет экономики и делового администрирования, АвстрияАбстракция
В этом материале анализируется образ Европы, передаваемый в текущей телевизионной рекламе в Россия. Этот образ понятен только в контексте текущих социальных дискуссий о национальных идентичность и строится на национальных представлениях о себе.Хотя Россия очень заметно отличается от Европы с точки зрения размера и важности, традиций и истории, а также общности и общей идентичности, Образ Европы изображается как однородный, по сути менее структурированный аналог самооценки. Образ Европы основан на различиях, а не на негативных внешних стереотипах. В итоге Россия выглядит как не принадлежащий Европе.
Ключевые слова: Россия, Европа, реклама, национальная идентичность, стереотипы, деловое общение.
1 Введение
В статье анализируются дискурсы о Европе в России с точки зрения рекламы. Он должен продемонстрировать, в какой степени реклама может рассматриваться как зеркало основных социальных проблем в России.
Проблема: после распада Советского Союза «культурология» (рус. kul’turologiia ) превратилась в новую дисциплину, получившую исключительный приоритет со стороны государства. В сознании широких слоев политической элиты и многих представителей «культурологии» научно и ненаучная «культурология» занимает ключевую позицию в закрытии якобы идеологического вакуума, возникшего с падением ранее обязательного марксизма. Ленинская государственная идеология.«Культурология» превратилась в дисциплину, движимую инфляцией, не только как обязательный предмет в школах и университетах, демонстрируя многочисленные, а также противоречивые направления и контексты и лишь выборочно связываясь с традициями западных дисциплин культурологии. В одном важном пункте единство правил в «культурологии» в стремлении абсолютно эссенциалистски создать научную и организационную основу для однородной национальной идентичности, для одинаково однородных и действенных национальных ценностей и норм в качестве опоры в пораженном кризисом и только медленно процветающем обществе.
Помимо того факта, что идеологический вакуум, постулируемый в самооценке «культурологии», не может существовать, «культурология», поддерживаемая постсоветской идентичностью, все чаще видит свою главную задачу в предоставлении культурм или идеологем для нового смысла цели для Русская культура и / или цивилизация из отсылки к досоветскому прошлому для работы с настоящим (сравните Scherrer 2003: 17). Эти культуры оказывают комплексное воздействие на общественный дискурс. Они также особенно влияют на структурирование мира во внутреннем (собственный этнос) и во внешнем (другие этносы), к которым, в конце концов, также добавляется Европа.
2 «Культурологический» потенциал рекламы
Реклама в России функционирует в рыночно-экономическом смысле по тем же принципам, что и на Западе. С 1991 года он добился огромного, если не сказать кризисного, общего развития, измеряемого оборотом рекламных рынков (2003 год: 2,63 миллиарда долларов США, Ростова 2004: 10; 2004 год: 3,855 миллиарда долларов США, Степанова 2005: 9; 2005 год: 5,030 миллиарда долларов США). Долл. США; 2006 г .: 6,490 млрд. Долл. США, Российский рекламный рынок 2007 г.) и недавние двузначные темпы роста.Ее функциональные принципы и структура напоминают западные, и в связи со стандартизацией рекламы транснациональных корпораций часто возникает вопрос об особенностях рекламы в России.
Сравним ли потенциал рекламы в России по конструированию идентичности с западным? Во-первых, необходимо отметить, что рекламный подход к потребителям в России также работает через передачу символической ценности рекламируемых товаров (в отличие от первичной и трудовой стоимости, сравните Кармасин 1993: 253–260).В случае конструирования идентичности это может происходить, например, посредством сознательного переноса настроек в конкретную этническую ткань или переноса стереотипов на характеристики рекламируемых товаров через этнос.
Четыре телевизионных ролика за последние 4 года должны показать богатство аспектов построения рекламной идентичности и одновременно подход к ответу на вопрос о специфических отношениях национальной идентичности и проиллюстрировать взаимосвязанный образ Европы в России.Первый — это спот для Coca-Cola , полностью передаваемый в другие страны и на другие рынки (пример 1), затем спот, не подлежащий прямому передаче для Sprite (пример 3). Наконец, следуют еще два места для продуктов, производимых для российского и GUS-рынка — популярный бренд пива Tolstjak (пример 2), сваренный на нескольких российских заводах Sun Interbrew и принадлежащий всемирно активной группе Inbev, а также яблоко. сок Добрый (пример 4), который можно считать настоящим российским продуктом (ролик появился за 3 года до покупки бренда Coca-Cola-group).Все ролики показаны в упрощенных раскадровках с описанием настроек и переводом ниже.
Пример 1: Coca-Cola
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
Обстановка: Подростковая вечеринка в частной квартире; танцы, непринужденная обстановка.(кадры 1-3) Мальчик с бутылкой кока-колы в руке выключает музыку. (4-5) Он подходит к девушке. Ожидающие взгляды. (6-9)
Мальчик: Как кока-кола? (10)
Бутылки и дополнительный текст накладываются: Сила притяжения. (11-13)
Оба сидят на диване и пьют кока-колу. (14-15) Она снимает туфли. (16)
Подводя итоги дискурса идентичности в России с точки зрения рекламы, из всех примеров очевидны два контрастирующих момента: в примере 1 есть охват молодежной целевой группы Coca-Cola, которая может быть сделано в России так же, как и в других странах.Подход к конкретной целевой группе, характерный для рекламы, здесь работает не по этническому, а по социальному признаку. С Coca-Cola глобальная мода и желания взаимосвязаны. Гораздо более значимым для построения национальной идентичности является пример 2, в котором рекламируется пиво, продукт, который в немецкоязычном регионе больше, чем многие другие продукты, требует общей идентификации с традициями и обычаями, родиной и оригинальной природой (сравните Wagner 2003: 23-33 , 109-126). Это отождествление с самобытностью полностью отсутствует в рекламе пива в России.Пример 4 тоже живет из русских национальных особенностей, особенно из отсылки к сказке. В примере 3 предпринята попытка связать два контрастирующих момента друг с другом: интернационализм всемирно распространенного бренда Sprite с Красной площадью как центральной точкой идентификации россиян и России, авангардная мода с влиянием исторической русской одежды.
Пример 2: Толстяк
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
Настройка: Ракета перед запуском.Пухлый космонавт и 3 техника пьют пиво «Толстяк» в подвале под стартовой рампой. Непринужденная атмосфера. Инструментальная музыка в советском стиле 70-х годов. (1-4)
Off: Пиво Толстяк. Пиво премиум-класса из отборного солода и хмеля. Пиво «Толстяк» идеально подходит для приятного отдыха за бокалом напитка. Вы можете отдаться его изысканному вкусу на всю вечность. (5-8)
Космонавт покидает отряд. Он пропускает запуск ракеты. (9-12)
Командир батальона чести сначала салютует космонавту: Где ты был? Пить пиво. (13-14)
Металлическая пластина, напоминающая крышку ящика с боеприпасами. Считывается вставка: Внимание! В раунде с Толстяком время проходит незаметно. (15)
Космонавт кричит в сторону ракеты: Поехали! [из высказывания Юрия Гагарина; также возможно как тост] (16).
Пример 2 содержит в визуальном коде, несущем основное повествовательное воздействие, множество моментов, содержащих широкий потенциал идентификации, например, дружеский бокал пива, традиционную сушеную рыбу, которую подают с пивом в России (здесь в соответствующей форме трубки), посвящение вплоть до забвения собственно миссии, запуска ракеты с военными почестями, доставшимися в наследство от советских времен и т. д.Одним словом, единый консенсус способен к собственному представлению Русского Этноса, которое включает в себя множество положительных моментов самоатрибуции, но также (подмигивающих) отрицательных моментов.
Пример 3: Sprite
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
Обстановка: Fashion-съемка на пустой Красной площади (1-5).Оратор комментирует события. После окончания съемки он указывает на жажду двух моделей (6-14). Визуализация оффтекста (15). Изображение продукта (16).
Off: На самом деле она не настоящая блондинка. У нее нет голубых глаз, она носит контактные линзы. У нее нет настоящего бюста, такого силикона, и он не интересуется девушками, у него есть парень. И ее платье неудобное. Резать! Стреляй! Единственное, что здесь реально, это то, что оба действительно хотят пить. Поэтому это спрайт-реклама.Образ — ничто, жажда — все. Повинуйся своей жажде! Спрайт.
Реклама как зеркало общества во всех примерах означает, что реклама опирается на существующие нормы и ценности. При этом реклама оправдывает свой консерватизм, а новаторство она черпает из необходимости подчеркивать уникальность рекламируемой продукции. В рекламе условности явно менее гибкие, чем нормы. Нарушение правил может быть даже рассчитано преднамеренно, если таким образом можно добиться использования рекламы; и новаторское обращение с условностями, а также с лингвистическими условностями, в конце концов, является требованием для успеха рекламы.В примере 2 это пренебрежение административными обязанностями, связанное с закрытием заведомо двусмысленного приглашения выпить еще; в примере 3 экспонирование иллюзорного мира фильмов.
Пример 4: Добрый
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
Окружение: Средневековая звучащая флейта.Рыцарь видит девушку, собирающую яблоки (1-4). Увидев рыцаря, она опрокидывает корзину (5-8). С помощью компьютерной анимации яблоки превращаются в сок (9-12). Рыцарь откусывает яблоко (13-14). Наконец, показана упаковка сока (15). Вставка: С духом и благополучием. (16)
Off, интонация, частичная рифма: Из привлекательных, спелых фруктов, из отборных сочных яблок, восхитительный и освежающий, с духом и благополучием.
Не вся реклама живет за счет свободного творческого обращения с правилами и условностями.Часто это также классические ссылки на традиционные и повседневные ситуации, которые в первую очередь делают рекламу приемлемой для целевой группы. В примере 1 это имитация подростковой вечеринки, которая может происходить каждый день в Москве, в примере 4 — имитация сказки, которая как традиционный сюжет работает очень правдоподобно.
3 Отображение конструкций идентичности: методологический подход
В то время как в предыдущем разделе речь шла о потенциале и необходимости рекламы для консервативного обращения с нормами и ценностями и новаторского подхода к конвенциям и правилам, в зависимости от глобальных и местных условий и обычаев приема, следующим образом следует показать, как конструирование национальной российской идентичности как можно сделать видимыми консервативные моменты в рекламе в России.В конце концов, только на этой основе можно понять образ Европы в рекламе.
Отправной точкой здесь является то, что анализа рекламных текстов, преобладающих в лингвистических исследованиях языка рекламы, недостаточно. Это связано с тем, что рекламные тексты возникают в результате взаимодействия текста и изображения, а также, когда они рассматриваются как супертексты в смысле единства вербального и визуального (акустического и т. Д.) Кодов, всегда следует рассматривать в их более узком и широком производстве. и приемные взаимоотношения.Эти контекстуальные аспекты предполагают дискурс-аналитический подход. Исходя из предпосылки, что дискурс после ван Дейка (1997: 6) структурно состоит из текста и контекста, интегрированы анализ (супер) текста и контекста, а также соответствующие механизмы интерпретации и объяснения (см. Главу 4). Этот подход основан на «модели прагма-лингвистического семиотического анализа текста» Хеннеке (1999: 113-116) и ее дальнейшем развитии Янихом (2001: 202-205). Второй этап анализа — моделирование текстово-контекстных отношений в аспекте дискурса идентичности.Поскольку для этого аналитического раздела существует только очень общая предварительная работа, некоторые соображения описаны более подробно.
Поскольку понятие идентичности (рус. идентичность ) в рекламных текстах не появляется, то индикаторы идентичности необходимо искать в словесном и визуальном тексте, а также в контексте. Этот поиск происходит в 3, как правило, параллельных шагах.
A) для проверки вербального текста как первый шаг : чтобы отфильтровать возможные ключи к конструкциям идентичности, для поиска с помощью программ поиска текста использовались так называемые «лингвистически отмеченные» этнические и этногеографические описания (Plungian / Rachilina 1996).Этим термином авторы описывают изменение исходного качества до максимального уровня. Так что российская « немецкая аккуратность» , немецкая основательность, должна пониматься как максимально вообразимая скрупулезность. Плунгийский / Рачилинский (1996: 342) русский, немецкий, французский, восточный (восточный), южный (южный), западный (западный) как такие лингвистически отмеченные этнические и этногеографические описания, а также хотя и менее выраженные; Английский, американский, испанский, европейский, азиатский и славянский. Поиск ассоциаций, связанных с указанными описаниями, осуществлялся согласно возможностям Русского словаря ассоциаций (Караулов и др.1994-1998) на уровне стимулов к ответам и обратно.
B) Для исследования визуального текста как второй шаг необходимо провести отнесение визуального текста к определенным этнически связанным конструкциям идентичности в соответствии с согласованными критериями. Это а) происхождение рекламодателей, б) степень локализации рекламы (стандартизированная / адаптированная / локализованная реклама) и в) расположение настроек. Однако не во всех случаях можно было сделать четкое распределение, особенно когда в рекламе можно было только распознать «западную» или не принадлежащую России («не нам»).
Результаты обоих шагов взвешиваются в зависимости от того, насколько вербальный текст изменил и перевернул визуальный текст. Здесь возможны многочисленные варианты и промежуточные шаги, но часто только оба вместе дают целостный целостный текст (рекламный супертекст) (см. Nöth 2000: 508-511, Janich 2001: 203-204) вместе через их внутритекстовые отношения или семиотически переформулированные путем их взаимосвязи через многомерное кодирование (Кармасин 1993: 181).
C) для интерпретации и объяснения взаимодействия текста и контекста на основе культурных ключевых концепций, как третий шаг : в рекламном тексте совместно определяется, какие аспекты контекста находятся на переднем плане и, следовательно, также какие контекстные аспекты являются , замаскированные, скрытые или иным образом помещенные на задний план.Это касается не только ситуативного контекста, сеттинга, но и расширенного культурного контекста. Это структурно смоделировано для ключевых концепций (подробности см. Hoffmann 2004). Следующие характеристики становятся действительными для ключевых культурных концепций на основе работы с константами в русской культуре (Степанов, 2001) и с ключевыми словами в настоящем (сравните с Liebert 2003): Культурные ключевые концепции основаны на концепциях как единиц ментальной организации индивидуума. и коллективный характер. Это феномены с культурными измерениями и, следовательно, также нементальные организационные единицы.Они имеют давние культурные традиции и прочно укоренились в общественном сознании. Это дискретные единицы с фиксированным ядром, разделяемые членами культурного сообщества и менее фиксированными внешними слоями, которые подчинены более сильным дискурсивным проблемам (сравните Spencer-Oatey 2000: 5; Stepanov 2001: 43; Hoffmann 2004).
Конструкции идентичности должны рассматриваться как встроенные во все культурные ключевые концепции. Спектр ключевых культурных концепций в литературе по русскому языку / России всегда включает 40-50 сущностей (сравните, например, Степанов 2001, Чередниченко 1999, Карасик / Стернин 2005), при этом их определения друг от друга наталкиваются на методические проблемы и резко расходятся.В нынешнем случае «идентичности» ограничение национальной идентичности определяется как лишь одна из возможных, в то время как центральная форма идентичности, чтобы иметь возможность более четко определить важную роль конструкций идентичности в постсоветском дискурсе. Это включает в себя структуру, которая центрирует «я» и видит другого (в данном случае в Европе) на основе «я», посредством чего, наоборот, «я» также может быть изображено на основе другого. Определение между собой и другим (чужим) находится в тесной связи с этим структурированием идентичности; это возможно в двух аспектах: в отношении того, где Россия принадлежит или не принадлежит, и того, кто или что принадлежит России, к самому себе.
4 Европа как не-я
4.1 Исходная ситуация с конструированием рекламной идентичности
Вопрос о конструкциях идентичности в современной рекламе решается, если культурологический потенциал рекламы переносится, с одной стороны, в связи с текущими дискурсивными процессами и культурологическими дискуссиями на пути России к возвращению утраченной идентичности мировой державы, а с другой — в связи с существующие традиции. Таким образом, обращение с историей является центральным моментом социальной памяти общества.Он работает «для общества, как иммунная система для тела, поскольку отличает собственное от чужого» (Schmidt 2003: 14). Дополнительно этносереотипы могут быть включены на основании лингвистической маркировки, а также особенностей потребительского поведения. Стереотипы в рекламе благодаря своим внутренним механизмам имеют бесконечную последовательность обобщений и типизаций, а также благодаря выборочной квалификации высокий потенциал для привлечения большего внимания к рекламируемым продуктам.
В России существует очень широкий спектр авто- и гетеростереотипов.Автостереотипы группируются вокруг таких характеристик, как доброта (мягкость), терпение, гостеприимство, рабочая этика, лень, великий национальный дух, патриотизм, чрезмерная доверчивость, открытость и дипсомания (в последовательности Сикевича 1996: 112), гетеростереотипы немцев. в отношении организованности, любви к порядку, скрупулезности, тщательности, домашнего уравновешенности, бережливости, но также педантизма, предсказуемости, тупости французов в отношении изящества, утонченности, грациозности, доброты, галантности, пикантности, а также кокетства, притворства, безрассудства и ловкости (в контрастное изображение Плунга / Рачилина 1996: 345).Эти стереотипы в целом совпадают и со стереотипами, определенными Кобозевой (1995: 106-113) в «стереотипах национального характера».
Спектр этностереотипов в настоящем накладывается на особенности покупательского поведения. Эти особенности связаны, с одной стороны, с ограниченным кругозором потребителей, а с другой — с этносами в спектре товаров в целом. Они также восходят к традициям более чем 70-летней плановой экономики с ограниченным доступом к товарам из других стран, что сделало немногочисленные доступные товары особенно популярными.Несмотря на (в советские времена не практиковавшуюся) рекламу этнической стереотипизации, сформировались фиксированные связи этносов и отдельных товарных групп: Германия и автомобили, а также качество в целом, Франция и косметика, Италия и мода, а также бытовая техника, Япония и другие. высокотехнологичные, китайские и дешевые или качественно недорогие товары (ср. Соболева / Суперанская 1986: 127-144). В темпе трансформации явные различия между центром (Москва и Санкт-Петербург) и периферией вносят свой вклад (ср. Griffin / Babin / Modianos 2000: 33-35).
Сильная фиксация российских потребителей на странах и их стереотипах заходит так далеко, что стремятся к ориентации даже в эпоху господства транснациональных предприятий и переноса производства в страны с низкой заработной платой или полного отказа от собственных производственных мощностей. классификации передаются компаниям. Разочарование в таких случаях очень велико, если, например, технический потребительский продукт от японского производителя выдает свое происхождение из Малайзии через этикетку.Первоначальное сравнение потребительского поведения с поведением в Западной Европе начинает отражаться в определенных социальных группах (в первую очередь, более молодых менеджерах, сравните Кононов, 2002), хотя лояльность к бренду в России в целом ниже, чем во всех европейских странах (Россия, 1997; Шмид, 2004). .
4.2 Образ себя в зеркале рекламы
Для проверки использовался корпус из 1 280 рекламных роликов на российских телеканалах, равномерно распределенных за 1991-2006 годы.Сочетание квоты и случайного отбора обеспечило репрезентативность этого отбора. Словесные тексты были записаны в базу данных, помечены и дополнены дополнительной информацией о визуальных текстах.
В корпусе произведен поиск этнических и этногеографических описаний, их производных и ассоциаций. Затем последовал анализ соответствия и коллокации (подробное описание этапов анализа в другом корпусе было выполнено Hoffmann 2003: 79-82). Визуальный текст, а также сеттинг были исследованы в соответствии со спецификациями в разделе 3, в результате чего собирательные символы в понимании Герхарда / Линка (1991: 18) получили дополнительный акцент.
Частота отдельных этнических описаний и их производных показывает перевес описаний Россия, русский русский (относящийся к «Этносу») и российский русский (относящийся к «Демосу») вместе 56,2% всех номинаций против 43,8 % номинаций несамостоятельного этногеографического описания. Неявная информация, связанная с концепцией идентичности, может быть извлечена путем исключения номинаций, не связанных со стереотипами (например, названий политических и административных единиц), и последующего создания согласований, словосочетаний и кластеров, а также их интерпретации и объяснения на фоне культурный контекст — не только для рекламного убеждения, как правило, важные семантические предпосылки, но прежде всего прагматические предпосылки.
Следующая таблица иллюстрирует общее распределение этнических и этногеографических описаний, их производных и ассоциаций в корпусе (как в словесном, так и в визуальном тексте).
Этнические и этногеографические единицы (существительные, прилагательные) с более чем 10 вхождениями | Объявления со словесным вхождением (явным и неявным) * | Объявления с дополнительными визуальными проявлениями (без словесных явлений) * | Всего объявлений с вхождениями * | Процент всех объявлений с появлением |
Россия | 434 | 38 | 472 | 56.2 |
Германия | 74 | 12 | 86 | 10,2 |
Америка (США) | 80 | 2 | 82 | 9,8 |
Европа | 40 | 2 | 42 | 5.0 |
Италия | 31 | 4 | 35 | 4,2 |
Франция | 28 | 5 | 33 | 3,9 |
Англия (Великобритания) | 11 | 2 | 13 | 1.5 |
Швейцария | 12 | 0 | 12 | 1,4 |
Испания | 11 | 0 | 11 | 1,3 |
Япония | 10 | 0 | 10 | 1.2 |
Китай | 8 | 2 | 10 | 1,2 |
Другое | 31 | 3 | 34 | 4,1 |
Всего | 770 | 70 | 840 | — 100.0 |
Более пристальное рассмотрение позволяет распознать три взаимосвязанных основных компонента национального самовосприятия в зеркале рекламного использования автостереотипов: а) величие и важность, б) традиции и история и в) общность и общая идентичность. Спектр товаров, рекламируемых с этими компонентами, сфокусирован из-за явного возврата к отечественным продуктам питания, заметного со второй половины девяностых годов, а также в результате ограничений для иностранных инвесторов в финансовом секторе на продукты питания и финансовые услуги.Кроме того, он более распространен в политической и социальной рекламе. Таким образом, исследование подтверждает результаты Sperling (2001), Scherrer (2002) и Kratasiuk (2006). В этих предыдущих исследованиях также анализировалась роль традиций и истории в России как с точки зрения соответствующих связей между потребительским этноцентризмом, так и с точки зрения отношения к собственным этносам / демосам (сравните Orth / Firbasová 2003, Karpova / Nelson-Hodges / Tullar 2007 ).
Величие и важность России, кажется, берут начало в традициях и истории и поэтому существуют без вопросов.Этот принцип ностальгии следует за величием прошлого — дальше назад, тем лучше и больше, пока это прошлое, в конце концов, согласно Холлу, не исчезнет во тьме мифов «нарратив нации» (Hall 1992: 293). Этот принцип вполне приемлем, например, заметное использование фольклорных мотивов в месте для шоу Sprite (пример 3), а также через характерные повествовательные структуры в словесном тексте и перенос обстановки в мир мифов и легенд. , реализованный в визуальном тексте как в рекламе Добрый (пример 4).Многие интеллектуальные и политические, литературные и художественные деятели и герои, занимающие великолепное место в досоветской истории России и в современном культурологическом дискурсе, также присутствуют в рекламе как символические фигуры, в которых создаются межтекстовые отношения с ними или они представлены в сеттинге. Вот, например, Царь Петр I и другие известные русские личности, закрепившиеся в коллективной русской памяти, в рекламе банка (Банк Империал), Александр Пушкин для шоколада ( Россия ), Пушкинский персонаж Евгений Онегин для банка ( Альфа-банк ), поэты Александр Блок , Даниил Чармс , Сергей Есенин , Осип Мандельштам и Борис Пастернак в призовой серии места для другого банка ( Славянский банк ).Их использование, несмотря на юридические проблемы, также распространено в качестве (незарегистрированных) компонентов прагматонимов или эргонимов, например, сигареты Петр I (после Петра Великого), Обломов, сортов пива (после заглавного персонажа произведения Ивана Гончарова), Адмирал Колчак (в честь командующего Балтийским флотом в Первую мировую).
В то время как «некритические имперские последствия прошлого» можно определить для досоветского периода согласно Сперлингу (2001: 1325), выборочная идентификация действительна для работы с советской эпохой.Достижения советской эпохи, как показывает пример 2 с пилотируемыми космическими полетами, тщательно тематизированы и все чаще используется символическое значение рекламируемых товаров. Ироничное обращение с этими национальными символами вполне возможно. Все, что не укладывается в эти жесткие рамки, деидеологизируется и переносится в область повседневной, домашней печи и семьи.
Этноним Россия и производные этнические описания, а также ассоциации (Караулов и др.1994–1998, 3: 152–153; 5: 150) свой мой, наш наш, родина родина, родной хейматлич, простор обширное пространство, просторный пространственно далеко, отечество отечественное, отечественное отечественное, внутреннее звено такое словосочетания русский стол русский стол (как символ семьи, гостеприимства, домашнего очага), русский народ русский народный, русская кучня русская кухня, российское пиво русское пиво, российский продукт русский продукт, российский шоколад Русский шоколад, настоящий российский Настоящий русский и др.в основном, со всем, что представляет собой близость, общность в повседневной жизни. Хотя русский русский (имеется в виду «Демос») и русский русский (имеется в виду «Этнос») строго не синонимы и не всегда, согласно нормам, политически корректно употребляются, обе лексемы в рекламном использовании являются синонимами. чтобы увидеть, они действительно отмечают свое, близкое, которому доверяют, в явной оппозиции иностранному. Эти лексемы действуют, согласно Брагина (1999: 44), в роли автостереотипов как диспозиций по отношению к дискурсу, равно как и как прагматических предпосылок.
4.3 Об иностранном имидже «Европы»
Помимо уже упомянутых примеров, противопоставление самообслуживания в значительной степени определяет использование культурологического потенциала рекламы в России, даже когда речь идет о кажущихся безобидными сферах продуктов питания и предметов роскоши. На стороне себя стоит отсылка к оригинальным, традиционным русским рецептам и ингредиентам с использованием лексем рецепт рецепт с такими прилагательными, как домашний домашний, императорский империал, старинный старый оригинал, традиционный традиционный, древнерусский древнерусский, древний незапамятный и придворный от царского двора, на стороне несамостоятельного указание на новый новый, королевский королевский (по отношению к нерусскому лицу ) и уникальный уникальный.Общие характеристики с прилагательными качества, такие как натуральный натуральный и свежий свежий для домашних продуктов и предметов роскоши, появляются в перспективе для иностранцев в сочетании с супер- супер- или перефразируя с неповторимый вкус уникальный вкус или информационный, например вкус фруктовый фруктовый ароматизатор (ср. Hoffmann 2007). Конструкции совершенно необычны по сравнению с конструкциями самоатрибуции с компонентами национального величия, истории и традиций, а также сообщества, не только в этом контексте, но и в целом по отношению к иностранным изображениям.
Реклама так проявляет себя в чужом имидже как зеркало общества. Сравните результаты исследования Дорошкевича, который противопоставляет собственные и иностранные образы в российской прессе в качестве основы. Это показывает, что, помимо многочисленных параллелей с рекламой, также проявляется особенность: сильная оппозиция между богато структурированной личностью и менее структурированной, почти монолитной иностранной является в прессе, по сути, оппозицией России Западу (сравните синтагму, такую как на западе думают на Западе, как они думают, Дорощкевич 2001: 35, 41, 43).Однако, в отличие от прессы, маркировка иностранного, а также самовыражения в рекламе сводится к противостоянию России и Европы.
Как и следовало ожидать, все они находятся в верхней части частотного списка как достоверные лингвистически отмеченные этнические и этногеографические описания Европы и Запада. Однако их расследование, проведенное над всеми анализами словосочетаний, показывает, что отдельные этносы представлены как взаимно обмениваемые (например, высокое / отличное / высокое / настоящее / проверенное / безупречное / подлинное / подлинное высокое / присвоенное протестировано / безупречно европейское / немецкое / швейцарское / французское / итальянское / финское качество европейское / немецкое / швейцарское / французское / итальянское / финское качество, фигурирует в убывающей частоте) и более того приравнивается с Европой как стереотипы ассоциации.Индивидуальные атрибуты легко комбинируются, например Renniе проверенное швейцарское качество Roche (швейцарское качество Rennietested от Roche). В этом смысле Европы, Европы и европейский, европейский следует понимать как синонимы нормальный, нормальный и цивилизованный, цивилизованный. Каждая отдельная организация олицетворяет собой единое целое, высокое качество продукции, высокие стандарты, передовые технологии и т. Д., Которые одинаково актуальны во всей Европе.На словах это реализуется по-разному, но всегда работает на основе неявного противопоставления нормального и цивилизованного и ненормального, нецивилизованного «я». Иногда встречаются ссылки на особенности покупательского поведения, упомянутые в разделе 4.1, например, когда диапазон ухода Kamėi Camay от Procter & Gamble сознательно представлен во французском контексте, хотя ни контекст компании, ни страна-производитель даже не закрыть: Париж где рожается мода и духи дарит вам неповторимую коллекцию Camay Paris, где родились мода и парфюмерия, представляет вам уникальную коллекцию от Camay.
Изображение Европы как чужого, другого, не себя основано на различии, а не на негативных чужих стереотипах. Ввиду необходимости рекламы для увеличения символической ценности рекламируемого продукта посредством положительных ассоциаций, иначе и быть не может. В этой условной структуре Россия не должна рассматриваться как часть Европы, однако иногда проявляется сдержанное желание принадлежать к этой конструкции: Хотите жить как в Европе, голосуите за социал-демократов! (Если хочешь жить как европейцы, голосуй за социал-демократов!).
5 Результаты
На первоначально поднятый вопрос об имидже Европы в рекламе в России и важности построения (я) идентичности можно ответить по-разному. По сути, потенциал построения (я) идентичности сравним с потенциалом рекламы на Западе, поскольку рекламируемые товары как явно, так и неявно, вербально и невербально обогащаются символической ценностью в соответствии с ценностным каноном соответствующей целевой группы (групп). . Напряженное использование русской национальной символики, имперское прошлое дискурс с одновременной тривиализацией или «фольклоризацией» советского наследством показывает, однако, что реклама работают как сейсмограф, как зеркало российского общества со всеми его специфическими культурологическими дискурсами.Благодаря конструированию себя из компонентов величия и важности, традиции и истории, а также сообщества и общей идентичности сложная социологическая реальность сокращается до узкой, коммерчески доступной части.
Зарубежные образы, подобные образу Европы, строятся на этой основе. Трактовка Европы и Запада — это рекламное изображение культурологического дискурса, который в поисках национальной идентичности создает биполярность между собой и чужим, в которой иностранное изображается как гомогенный, внутренне менее структурированный аналог самости. .Гетеростереотипы, относящиеся к иностранному, поэтому имеют менее конкретный этнос, скорее этногеографический и культурный ареал в качестве ориентира, «Европу», к которой Россия не считается принадлежащей.
Концепция идентичности с рекламной точки зрения является важным элементом канона ключевых концепций культуры. Это противоречит глобальным условиям производства и приема рекламы и сильно меняющимся нормам и ценностям, а также соглашениям и правилам целевой группы (групп).Этностереотипы занимают фиксированное место в конструкциях идентичности. Их динамика минимальна; динамика в гораздо большей степени использует инструменты в рекламном дискурсе и его эффектах.
Литература
Брагина Наталья Г. (1999): «Имплицитная информация и стереотипы дискурса». В: Борисова, Елена Г. и Юрий С. Мартемьянов (ред.) (1999). Имплицитность в языке и речи . Москва: Языки русской культуры, 43-57
Чередниченко, Татьяна (1999): Россия 90-х: Актуальный лексикон истории культуры .Москва: Новое литературное обозрение,
Дорощкевич, Мария (2001). «My i oni. Wspłczesna prasa rosyjska o autostereotypach, stereotypach, wizerunkach i uprzedzeniach etnicznych w zetknięciu kultury rosyjskiej z zachodnią. Acta Neophilologica III, 33-45
Герхард, Юте и Юрген Линк (1991). «Zum Anteil der Kollektivsymbolik an den Nationalstereotypen». В: Link, Jürgen & Wulf Wülfing (ред.) (1991). Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts. Strukturen und Funktionen von Konzepten nationaler Identität . Штутгарт: Клетт-Котта, 17-52 (= Sprache und Geschichte 16)
Гриффин, Митч; Бабин, Барри Дж. И Доан Нодианос (2000). «Торговые ценности российских потребителей: влияние привычки в развивающейся экономике». Журнал розничной торговли 76 (1): 33-52
Холл, Стюарт (1992). «Вопрос культурной идентичности». В: Холл, Стюарт; Хелд, Дэвид и Тони МакГрю (редакторы) (1992). Современность и ее будущее .Кембридж: Polity Press, Открытый университет, 273-316
Хеннеке, Анжелика (1999). Im Osten nicht Neues. Eine pragmalinguistisch-semotische Analyze ausgewählter Werbeanzeigen für Ostprodukte im Zeitraum 1993 bis 1998 . Франкфурт-на-Майне и т.д .: Lang
Хоффманн, Эдгар (2003). «Продукты питания, культура и реклама: дискурсивные процессии». Московский лингвистический журнал 6 (2): 65-108
Хоффманн, Эдгар (2004). «Kulturelle Schlüsselkonzepte».В: Hansen, Björn (ed.) (2004). Linguistische Beiträge zur Slawistik XI . Мюнхен: Загнер, 45-71
Хоффманн, Эдгар (2007). «Текстура рекламы продуктов питания». Оказаться в: Еда по-русски. Современный русский пищевой дискурс. Информация, манипуляция, стереотипы . Москва: РАН 2007
Янич, Нина (2001): Werbesprache. Ein Arbeitsbuch . Тюбинген: Нарр (2 -е изд. )
Карасик Владимир Иванович и Иосиф А.Стернина (ред.) (2005). Антология концептов , Том 1-2. Волгоград: Перемена
Караулов, Юрий Н. и др. (1994-1998). Русский ассоциативный словарь . Vol. 1-6. Москва: Помовский и партнерство ИРИЯ РАН
.Кармасин, Хелен (1993). Produkte als Botschaften. Was macht Produkte einzigartig und unverwechselbar. Die Dynamik der Bedürfnisse und die Wünsche des Konsumenten. Die Umsetzung in Produkt- und Werbekonzeptionen . Вена: Уберройтер.
Карпова, Елена; Нельсон-Ходжес, Нэнси и Уильям Таллар (2007).«Осмысление рынка. Изучение практики потребления одежды российскими потребителями». Журнал модного маркетинга и менеджмента 11 (1), 106-121
Кобозева, Ирина М. (1995). «Немец, английский, французский и русский: выявление стереотипов национальных характеристик через анализ коннотации этнонимов». Вестник Московского университета, серия 9 ( Филология ) 1995 (3), 102-116
Кононов, Николай (2002). «Супермаркет против антресолей». Известия 21.02.2003, 2
Кратасюк, Екатерина (2006). «Российская история в телевизионной рекламе: Имет ‘или быт’?». Ab Imperio 2006 (1), 367-384
Либерт, Вольф-Андреас (2003). «Zu einem Dynamischen Konzept von Schlüsselwörtern». Zeitschrift für Angewandte Linguistik 38, 57-83
Нёт, Винфрид (2000). Handbuch der Semiotik . Штутгарт Веймар: Мецлер (2 -е изд. )
Орт, Ульрих Р.И Зузана Фирбасова (2003). «Роль потребительского этноцентризма в оценке продуктов питания». Агробизнес 19 (2), 137-153
Плунгян, Владимир А. и Екатерина В. Рахилина (1996). «С чисто русской аккуратностью … (к вопросу об отображении некоторых стереотипов в языке)». Московский лингвистический журнал 2, 340-351
Ростова Наталия (2004). «Рекламный рынок ждет выборов». Gazeta 17.02.2004: 10 (Dow Jones Reuters Business Interactive LLC, http: // global.factiva.com, дата обращения 29.03.2004)
Россия (1997). «Россия: попытки добиться успеха в стране нелояльности к бренду». Развивающиеся европейские рынки 1 (2), 20-21
Шеррер, Ютта (2002). «Sehnsucht nach Geschichte. Der Umgang mit der Vergangenheit im postsowjetischen Russland». В: Конрад, Кристоф и Себастьян Конрад (ред.) (2002). Die Nation schreiben: Geschichtswissenschaft im internationalen Vergleich . Геттинген: Vandenhoeck & Ruprecht, 165-206
Шеррер, Ютта (2003). Kulturologie. Russland auf der Suche nach einer zivilisatorischen Identität . Геттинген: Вальштейн (= Essener Kulturwissenschaftliche Vorträge 13)
Шмид, Сигрид (2004). Der russische Konsument: Lebenswelt Konsumverhalten Markenwahrnehmung . Мюнстер Берлин — Дюссельдорф: OWC
Шмидт, Зигфрид Дж. (2003). «Über die Fabrikation von Identität». В: Кимменич, Ева (ред.) (2003). Kulturelle Identität. Konstruktionen und Krisen . Франкфурт а.М. и др.: Ланг, 1-19
Сикевич, Зинаида В. (1996). Национальное самосознание русских. Социологический очерк . Москва: Механик
Соболева, Татьяна А. и Александра В. Суперанская (1986). Товарные знаки . Москва: Наука
Спенсер-Оути, Хелен (2000). «Введение: язык, культура и управление взаимоотношениями». В: Spencer-Oatey, Helen (ed.) (2000). Культурно говоря. Управление взаимопониманием посредством разговоров между культурами 900 16. Лондон, Нью-Йорк: Continuum, 1-8
Сперлинг, Уолтер (2001).»Erinnerungsorte in Werbung und Marketing. Ein Spiegelbild der Erinnerungskultur im gegenwärtigen Rußland?». Osteuropa 2001 (11/12), 1321-1341
Степанов, Юрий С. (2001). Константин: Словарь русской культуры . Москва: Академический проект (2 -е изд. ),
Степанова, Надежда (2005): «Рекламный рынок растет быстрое ВВП». Известия 02.03.2005, 9
Тромпенаарс, Фонс и Чарльз Хэмпден-Тернер (1997). На волнах культуры.Понимание культурного разнообразия в бизнесе . Лондон: Nicholas Brealey Publishing (2 -е изд. ),
ван Дейк, Теун А. (1997). «Дискурс как взаимодействие в обществе». В: ван Дейк, Теун А. (ред.): Дискурс как социальное взаимодействие . London et al .: Sage, 1-37 (= Discourse Studies. Междисциплинарное введение 2)
Вагнер, Дорис (2003): Kulturbier. Deutsche Kultur in der Bierplakatwerbung . Франкфурт-на-Майне и др .: Lang (= Finnische Beiträge zur Germanistik 10)
Об авторе:
Эдгар Хоффманн окончил Лейпцигский университет, Германия, доктор философии по славянской лингвистике / ономастике, доцент кафедры иностранных деловых коммуникаций (Институт славянских языков) Венского университета экономики и делового администрирования, более 40 научных публикаций по языку рекламы. дискурс и культурология, славянская ономастика, преподавание языков, история языкознания.
Контактный адрес электронной почты: [email protected]
Интернет: http://www.wu-wien.ac.at/slawisch/team/personal_pages/hoffmann
Почтовый адрес:
Доктор Эдгар Хоффманн
Wirtschaftsuniversität Wien / Венский университет делового администрирования
Institut für Slawische Sprachen / Институт славянских языков
Nordbergstr. 15
A-1090 Вена / Вена
Österreich / Австрия
Журнал межкультурной коммуникации, ISSN 1404-1634, выпуск 15, ноябрь 2007 г.
Редактор: проф. Йенс Олвуд
URL: http://www.immi.se/intercultural/.
Энциклопедия русской мысли
Культуроника
Гуманистические технологии; конструктивная и изобретательская деятельность в области культуры; трансформация культуры в результате ее научных исследований. Термин «культуроника» использует тот же греческий суффикс — onic , что и в названиях таких практических дисциплин, как «электроника», «бионика» и «авионика». Культуроника — это практическая надстройка над науками о культуре, попытка воплотить трансформирующий потенциал гуманистического мышления без потери его специфики, без технологизации или политизации феномена культуры.По отношению к гуманитарным наукам культуроника выполняет ту же функцию, которую технология — практическое преобразование природы — выполняет в естественных науках, а политика как практическое преобразование общества выполняет для социальных наук. Культуроника отвечает на глубокую потребность гуманитарных наук в их собственных технологиях и их собственной политике. Культуроника — это построение новых форм и парадигм культурной деятельности, а также новых методов познания, общения и творчества, которые являются внутренне характерными и преобразующими культуру.
Культуроника развивается на основе культурологии ( kul’turologiia ), поскольку исследование культуры раскрывает собственные нереализованные возможности. В отличие от культурологии, которая исследует существующие культуры, культуроника производит возможные культурные объекты и виды деятельности, такие как:
- Новые художественные и интеллектуальные движения.
- Новые дисциплины, философские системы, методологии исследования.
- Новые стили поведения, культурные ритуалы, семиотические коды, интеллектуальная мода.
- Новые типы религий, культур и цивилизаций.
Религиозно-философские союзы древности, такие как Орден Пифагора и Академия Платона, являются примерами практического воздействия теории на культурные модели и обычаи общества. Культуроника включает в себя деятельность таких культурных сообществ, которые, основываясь на определенных теориях, порождают определенные культурные практики, например, итальянские гуманисты, немецкие романтики, американские трансценденталисты и битники, итальянские и русские футуристы, французские сюрреалисты и группа Tel Quel, и русские символисты и позднесоветские концептуалисты.
В России конца ХХ века культуроника представлена деятельностью литературного и культуролога Дмитрия Лихачева (1906–1999) и его экологическим сохранением древней и современной русской культуры. Лихачев пишет:
Экологию нельзя сводить к задаче сохранения природы и биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой их предков и ими самими. (50)
На практическом уровне это подразумевает сохранение исторических и архитектурных памятников, а также древних рукописей; а также современных памятников и рукописей, которые станут древностью для потомков.Эта задача была особенно актуальной в Советском Союзе в связи с варварским уничтожением сокровищ дореволюционной эпохи. Таким образом, Лихачев стал основателем и лидером движения за сохранение и восстановление культурного наследия 1970-1980-х годов.
Философ Георгий Щедровицкий (1929–1994) стал лидером так называемого движения «общей методологии» или, как это часто называли его представители, теории «систематической мысли-деятельности» ( системо-мыслительность). ´ , три слова в одном).Вклад Щедровицкого к этому движению, как его основателя и бесспорного лидера, не могут быть поняты только с точки зрения его публикаций, которые являются довольно редкими; его решающее влияние были, скорее, его эксперименты по практическому преобразованию культурных структур. Примером культуроники было то, что практики «общей методологии» называли «организационно-деятельностными играми» ( организационно-действенные игры, ). С 1979 до начала 1990-х годов участники группы под руководством Щедровицкого и в сотрудничестве с различными культурными, административными, исследовательскими и образовательными учреждениями проводили практические эксперименты по анализу и оптимизации определенных видов профессиональной деятельности, таких как градостроительство и т.д. администрация университета.Это повлекло за собой перераспределение ролей между менеджерами, служащими и методистами — своего рода интеллектуальный «карнавал», который на неделю или две заменил настоящую работу. Отстранив профессионалов от их обычных ролей, игра переопределила рациональные компоненты работы, а также организационные предрасположенности и способности рабочего. Задача заключалась в том, чтобы деконструировать традиционные автоматические формы работы и выявить их несоответствие с целью создания рациональной схемы действий для каждого сотрудника.Эта междисциплинарная организационная деятельность была учреждена в «сокращенной» форме игры, поскольку реальная структура советского общества вряд ли была открыта для глубоких преобразований таким образом. Более чем на десять лет Щедровицкий практически перестал писать исследовательские работы, поскольку сама игра «», «» стала его предпочтительным способом перформативной коллективной рефлексии.
Среди новых культурных проектов и инициатив можно отметить деятельность группы Павла Пепперштейна и Олега Ануфриева «Медицинская герменевтика»; Проекты Виталия Комара и Александра Меламида «Выбор народа» и «Монументальная пропаганда»; и проекты Михаила Эпштейна «Коллективные импровизации» (1982–1989), «Лирический музей» (1984), «Интелнет» (с 1995).
Гуманистическая наука нуждается в расширении в гуманистических искусствах — не в тех основных искусствах, которые изучаются гуманитарными науками, а в тех рефлексивных практиках, которые развиваются из них. Важно признать, что гуманистическое мышление развивается в форме как (1) исследований, так и стипендий; и (2) вторичных искусств , включая искусство коммуникации, информации и семиотического кодирования и декодирования. Эти второстепенные искусства трансформируют культуру, как первичные искусства трансформируют природу.Скульптор трансформирует мрамор, театр и танец трансформируют человеческое тело; Точно так же вторичное искусство выставки, основанное на научном исследовании истории и теории искусств, трансформирует культурные условности и способы восприятия и общения о визуальном искусстве. Профессия куратора относится к области культуроники.
Таким образом, культуронику не следует путать с художественным творчеством или другими формами деятельности в определенных основных областях культуры, таких как поэзия, художественная литература, музыка или живопись.Культуроника — это метапрактика, метауровень гуманистического творчества. В естественных науках мы четко отделяем природные явления, составляющие объект науки, от технологических процессов, составляющих приложение науки.

