Философские идеи достоевского и толстого: Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. Введение в философию
Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. Введение в философию
6. Философские идеи в русской литературе: Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой
В истории мировой культуры всегда существовали глубокие связи между философским и художественным творчеством. Особенно же глубоко и органично философские идеи представлены в самых разнообразных литературных жанрах. Древнейшие памятники философской мысли часто имеют литературно-художественную форму, в том числе нередко поэтическую. И в дальнейшем философские идеи продолжают играть существеннейшую роль в различных национальных литературных традициях. Так, например, трудно переоценить философское значение немецкой литературы (И. В. Гёте, И. Ф. Шиллер, романтики) и ее связи с немецкой классической философией. Есть все основания говорить и о философичности русской литературы. Метафизические темы присутствуют в русской поэзии XIX века (прежде всего у Ф. И. Тютчева) и, конечно, в творчестве крупнейших русских поэтов начала XX века, особенно тех из них, кто были творцами оригинальных философских концепций (Вяч.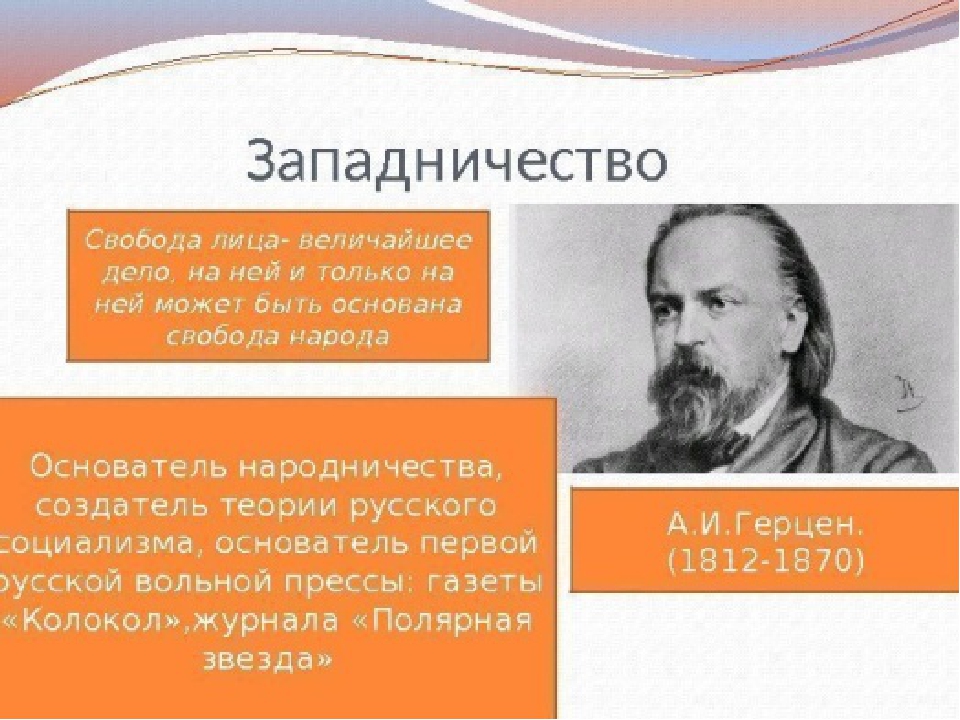
Русская литература всегда сохраняла органическую связь с традицией философской мысли: русский романтизм, религиозно-философские искания позднего Гоголя, творчество Достоевского и Л. Толстого. Именно творчество этих двух великих русских писателей получило наиболее глубокий отклик в последующей отечественной философии, и в первую очередь в русской религиозной метафизике XIX–XX веков.
Философское значение художественных творений Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) признавали многие русские мыслители. Уже младший современник и друг писателя философ В. С. Соловьев призывал видеть в Достоевском провидца и пророка, «предтечу нового религиозного искусства». В XX столетии проблема метафизического содержания его сочинений — это особая и очень важная тема русской философской мысли. О Достоевском как гениальном художнике-метафизике писали Вяч. И. Иванов, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, Л. Шестов и другие. Подобная традиция прочтения творчества Достоевского отнюдь не превращала его в «философа», создателя философских учений, систем и т.


Религиозно-философские искания другого крупнейшего русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828–1910) были связаны с переживанием и осмыслением самых разнообразных философских и религиозных учений, на основе чего формировалась мировоззренческая система, отличавшаяся последовательным стремлением к определенности и ясности (в существенной мере — на уровне здравого смысла) при объяснении фундаментальных философских и религиозных проблем и соответственно своеобразным исповедально-проповедническим стилем выражения собственного «символа веры». Факт огромного влияния литературного творчества Толстого на русскую и мировую культуру совершенно бесспорен. Идеи же писателя вызывали и вызывают гораздо более неоднозначные оценки. Они также были восприняты как в России (в философском плане, например, Н. Н. Страховым, в религиозном — стали основой «толстовства» как религиозного течения), так и в мире (в частности, очень серьезный отклик проповедь Толстого нашла у крупнейших деятелей индийского национально-освободительного движения).
Глубоким и сохранившим свое значение в последующие годы было влияние на молодого Толстого идей Ж. Ж. Руссо. Критическое отношение писателя к цивилизации, проповедь «естественности», вылившаяся у позднего Л. Толстого в прямое отрицание значения культурного творчества, в том числе и своего собственного, во многом восходят именно к идеям французского просветителя. К более поздним влияниям следует отнести моральную философию А.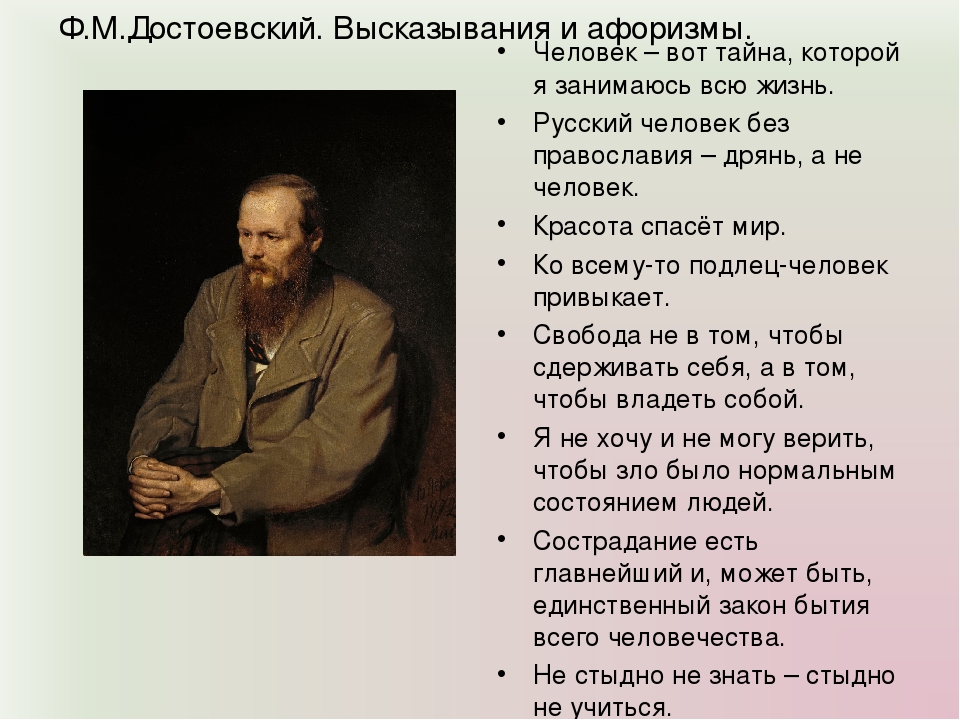
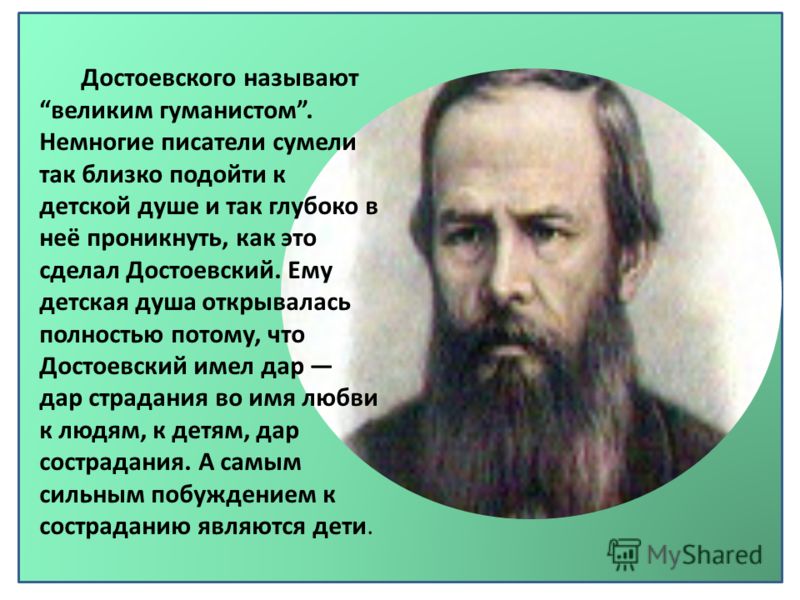

28 Философские взгляды Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого
Характерная
черта русской философии – ее связь с
литературой ярко проявилась в творчестве
великих художников слова – А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева,
И. С. Тургенева и др. Особенно глубокий
философский смысл имеет творчество Ф.
М. Достоевского и Л. Н. Толстого – двух
великих писателей, принадлежащих столько
же литературе, сколько и философии. Их
творчество имело огромное, поистине
всероссийское влияние.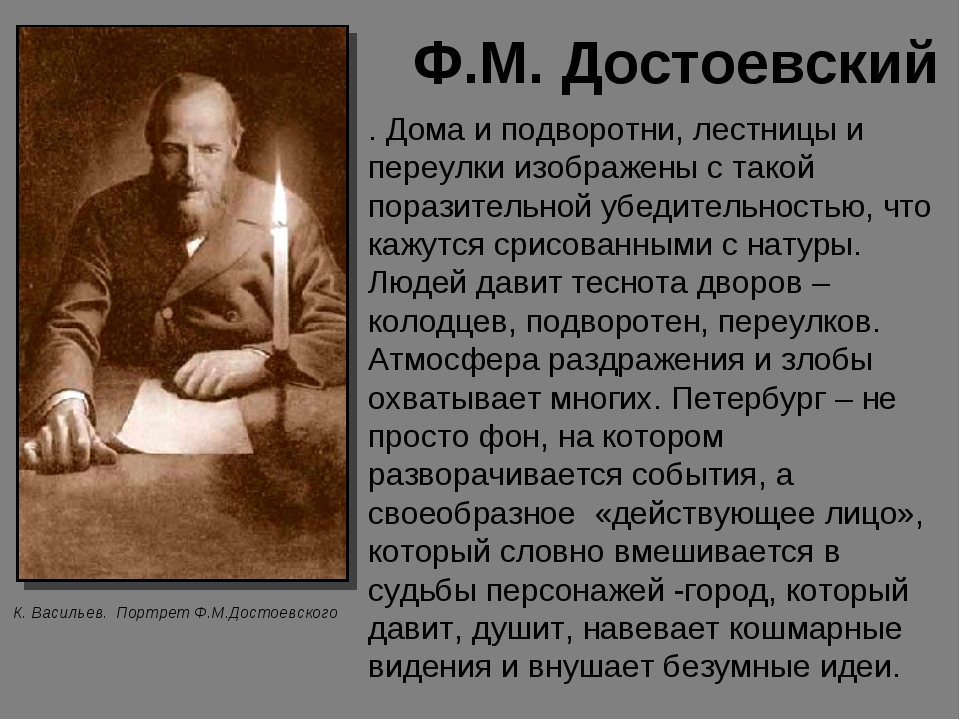 Можно сказать,
что русская философия XX в. в познании
духовного мира человека во многом
обязана влиянию идей Достоевского и
Толстого. Это не означает, конечно, что
философия Достоевского и Толстого стала
в России своего рода заменой собственно
философского знания.
Можно сказать,
что русская философия XX в. в познании
духовного мира человека во многом
обязана влиянию идей Достоевского и
Толстого. Это не означает, конечно, что
философия Достоевского и Толстого стала
в России своего рода заменой собственно
философского знания.
Самобытным
русским мыслителем был гениальный
писатель Лев
Николаевич Толстой (1828-1910).
Подвергая критике общественно-политическое
устройство современной ему России,
Толстой уповал на нравственно-религиозный
прогресс в сознании человечества. Идею
исторического прогресса он связывал с
решением вопроса о назначении человека
и смысле его жизни, ответ на который
призвана была дать созданная им «истинная
религия«.
В ней Толстой признавал лишь этическую
сторону, отрицая богословские аспекты
церковных учений и в связи с этим роль
церкви в общественной жизни. Этику
религиозного самосовершенствования
человека он связывал с отказом от
какой-либо борьбы, с принципом непротивления
злу насилием, с проповедью всеобщей
любви. По Толстому, «царство божие
внутри нас» и потому
онтологически-космологическое и
метафизико-богословское понимание Бога
неприемлемо для него.
По Толстому, «царство божие
внутри нас» и потому
онтологически-космологическое и
метафизико-богословское понимание Бога
неприемлемо для него.
Считая всякую власть злом, Толстой пришел к идее отрицания государства. Поскольку в общественной жизни он отвергал насильственные методы борьбы, постольку считал, что упразднение государства должно произойти путем отказа каждого от выполнения общественных и государственных обязанностей. Если религиозно-нравственное самосовершенствование человека должно было дать ему определенный душевный и социальный порядок, то, очевидно, что полное отрицание всякой государственности такого порядка гарантировать не могло. В этом проявилась противоречивость исходных принципов и сделанных из них выводов в утопической философии Толстого.
Сущность
познания Толстой усматривал в уяснении
смысла жизни — основного вопроса всякой
религии. Именно она призвана дать ответ
на коренной вопрос нашего бытия: зачем
мы живем и каково отношение человека к
окружающему бесконечному миру. «Самое
короткое выражение смысла жизни такое:
мир движется, совершенствуется; задача
человека — участвовать в этом движении,
подчиняясь и содействуя ему»
[1]. Согласно Толстому, Бог есть любовь.
В своих художественных творениях Толстой
апеллировал к народу как носителю
истинной веры и нравственности, считая
его основой всего общественного здания.
«Самое
короткое выражение смысла жизни такое:
мир движется, совершенствуется; задача
человека — участвовать в этом движении,
подчиняясь и содействуя ему»
[1]. Согласно Толстому, Бог есть любовь.
В своих художественных творениях Толстой
апеллировал к народу как носителю
истинной веры и нравственности, считая
его основой всего общественного здания.
На мировоззрение Толстого оказали огромное влияние Ж.Ж. Руссо, И. Кант и А. Шопенгауэр. Философические искания Толстого оказались созвучными определенной части русского и зарубежного общества (так называемое толстовство). Причем среди его последователей оказались не только члены различных религиозно-утопических сект, но и сторонники специфических «ненасильственных» методов борьбы за социализм. К их числу относится, например, выдающийся деятель национально-освободительного движения Индии М. Ганди, называвший Толстого своим учителем.
Огромное
место в истории русской и мировой
философской мысли занимает великий
писатель-гуманист, гениальный мыслитель Федор
Михайлович Достоевский (1821 -1881).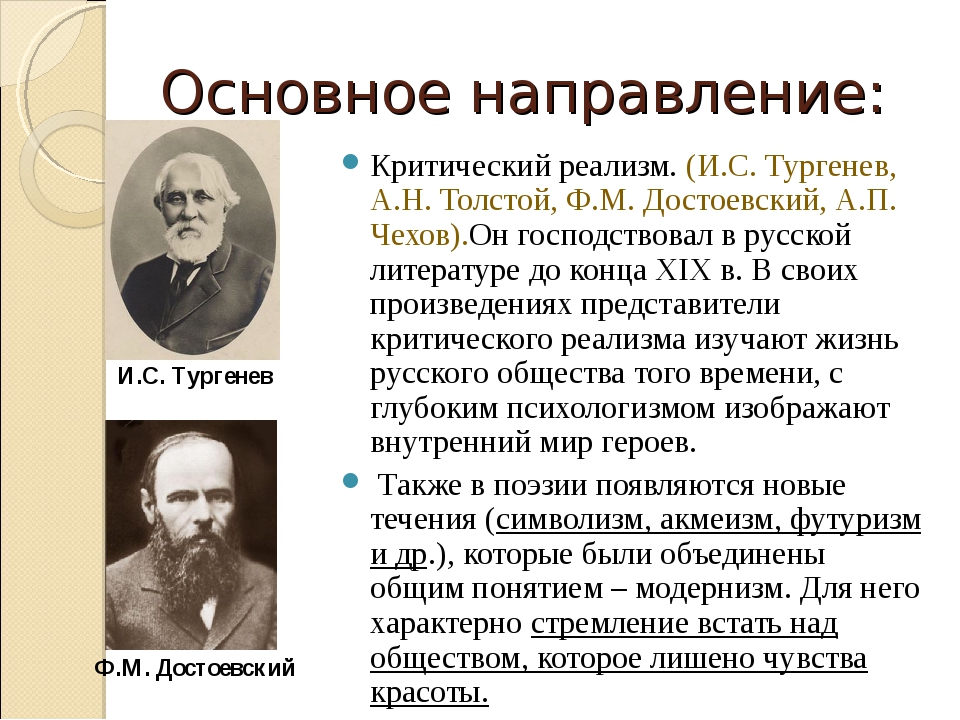 В своих общественно-политических
исканиях Достоевский пережил несколько
периодов. После увлечения идеями
утопического социализма (участие в
кружке петрашевцев) произошел перелом,
связанный с усвоением им религиозно-нравственных
идей. Начиная с 60-х гг. он исповедовал
идеи почвенничества, для которого была
характерна религиозная ориентированность
философского осмысления судеб русской
истории. С этой точки зрения вся история
человечества представала как история
борьбы за торжество христианства.
В своих общественно-политических
исканиях Достоевский пережил несколько
периодов. После увлечения идеями
утопического социализма (участие в
кружке петрашевцев) произошел перелом,
связанный с усвоением им религиозно-нравственных
идей. Начиная с 60-х гг. он исповедовал
идеи почвенничества, для которого была
характерна религиозная ориентированность
философского осмысления судеб русской
истории. С этой точки зрения вся история
человечества представала как история
борьбы за торжество христианства.
Самобытный
путь России в этом движении заключался
в том, что на долю русского народа выпала
мессианская роль носителя высшей
духовной истины. Он призван спасти
человечество через «новые формы
жизни, искусства» благодаря широте
его «нравственного захвата».
Характеризуя этот существенный срез в
мировоззрении Достоевского, Вл. Соловьев
пишет, что положительный общественный
взгляд еще не был вполне ясен уму
Достоевского по возвращении из Сибири.
Но три истины в этом деле «были для
него совершенно ясны: он понял прежде
всего, что отдельные лица, хотя бы и
лучшие люди, не имеют права насиловать
общество во имя своего личного
превосходства; он понял также, что
общественная правда не выдумывается
отдельными умами, а коренится во
всенародном чувстве, и, наконец, он
понял, что эта правда имеет значение
религиозное и необходимо связана с
верой Христовой, с идеалом Христа»
[1]. У Достоевского, как отмечают его
исследователи, в частности Я.Э. Голосовкер,
было «исступленное чувство личности».
Он и через Ф. Шиллера, и непосредственно
остро чувствовал нечто глубинное у И.
Канта: они как бы слиянны в осмыслении
христианской этики. Достоевского, как
и Канта, тревожило «лжеслужение Богу»
католической церковью. Эти мыслители
сходились в том, что религия Христа
является воплощением высшего нравственного
идеала личности. Все называют шедевром
легенду Достоевского «О Великом
Инквизиторе», сюжет которой восходит
к жестоким временам инквизиции (Иван
Карамазов фантазирует, что было бы, если
бы Христос сошел на Землю, — его распяли
бы и сожгли бы сотни еретиков) .
У Достоевского, как отмечают его
исследователи, в частности Я.Э. Голосовкер,
было «исступленное чувство личности».
Он и через Ф. Шиллера, и непосредственно
остро чувствовал нечто глубинное у И.
Канта: они как бы слиянны в осмыслении
христианской этики. Достоевского, как
и Канта, тревожило «лжеслужение Богу»
католической церковью. Эти мыслители
сходились в том, что религия Христа
является воплощением высшего нравственного
идеала личности. Все называют шедевром
легенду Достоевского «О Великом
Инквизиторе», сюжет которой восходит
к жестоким временам инквизиции (Иван
Карамазов фантазирует, что было бы, если
бы Христос сошел на Землю, — его распяли
бы и сожгли бы сотни еретиков) .
Достоевский
— один из самых типичных выразителей
тех начал, которые призваны стать
основанием нашей своеобразной национальной
нравственной философии. Он был искателем
искры Божией во всех людях, даже дурных
и преступных. Миролюбие и кротость,
любовь к идеальному и открытие образа
Божия даже под покровом временной
мерзости и позора — вот идеал этого
великого мыслителя, который был тончайшим
психологом-художником.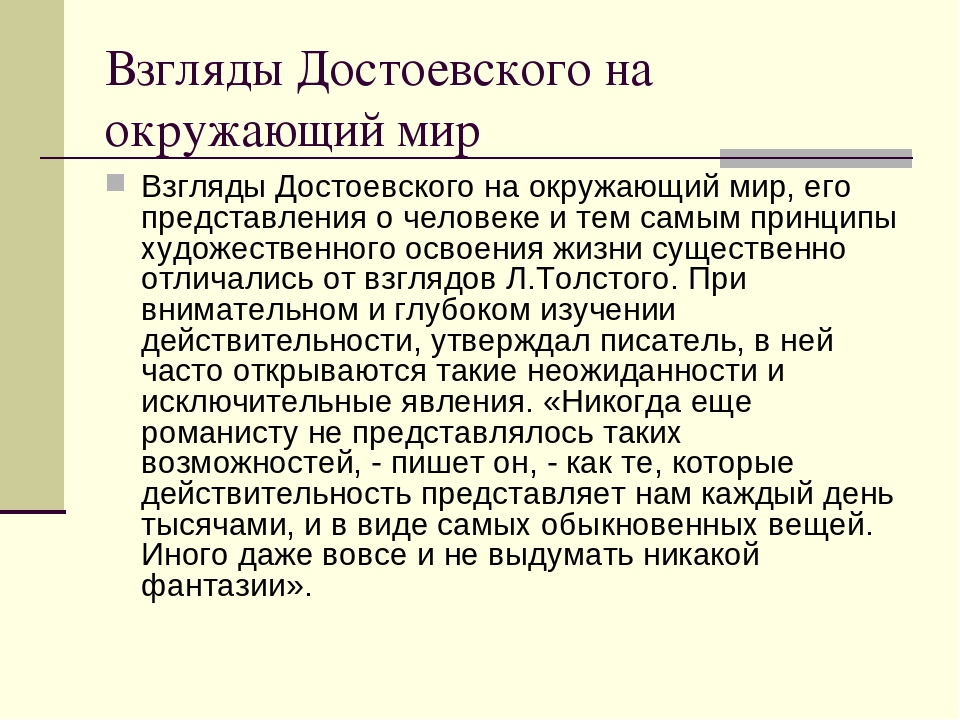 Достоевский
делал упор на «русское решение»
социальных проблем, связанное с отрицанием
революционных методов общественной
борьбы, с разработкой темы об особом
историческом призвании России, способной
объединить народы на основе христианского
братства.
Достоевский
делал упор на «русское решение»
социальных проблем, связанное с отрицанием
революционных методов общественной
борьбы, с разработкой темы об особом
историческом призвании России, способной
объединить народы на основе христианского
братства.
Философские взгляды Достоевского имеют небывалую нравственно-эстетическую глубину. Для Достоевского «истина есть добро, мыслимое человеческим умом; красота есть то же добро и та же истина, телесно воплощенная в живой конкретной форме. И полное ее воплощение уже во всем есть конец и цель, и совершенство, и вот почему Достоевский говорил, что красота спасет мир»
В
понимании человека Достоевский выступал
как мыслитель экзистенциально-религиозного
плана, пытающийся через призму индивидуальной
человеческой жизни решить «последние
вопросы» бытия. Он развивал специфическую
диалектику идеи и живой жизни, при этом
идея для него обладает бытийно-энергий-ной
силой, и в конце концов живая жизнь
человека есть не что иное, как воплощение,
реализация идеи («идееносные герои»
романов Достоевского).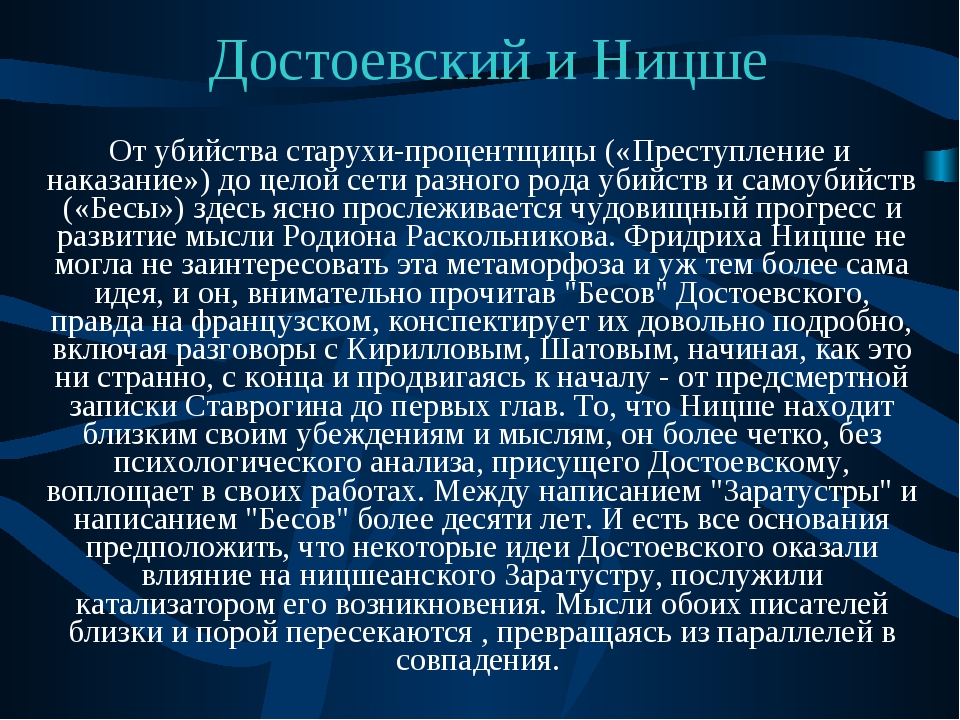 Сильные религиозные
мотивы в философском творчестве
Достоевского противоречивым образом
иногда сочетались с отчасти даже
богоборческими мотивами и религиозными
сомнениями. В области философии
Достоевский был скорее великим
прозорливцем, нежели строго логичным
и последовательным мыслителем. Он оказал
сильное влияние на религиозно-экзистенциальное
направление в русской философии начала
XX в., а также стимулировал развитие
экзистенциальной и персоналистской
философии на Западе.
Сильные религиозные
мотивы в философском творчестве
Достоевского противоречивым образом
иногда сочетались с отчасти даже
богоборческими мотивами и религиозными
сомнениями. В области философии
Достоевский был скорее великим
прозорливцем, нежели строго логичным
и последовательным мыслителем. Он оказал
сильное влияние на религиозно-экзистенциальное
направление в русской философии начала
XX в., а также стимулировал развитие
экзистенциальной и персоналистской
философии на Западе.
Философские идеи в творчестве Достоевского и Толстого.
Нужна помощь в написании работы?
Знаменитые русские писатели относятся к числу философов благодаря той проблематике, которую они ставили в своем худож. творчестве.
Достоевский не создал собственной философской концепции, но его худож. произведения ( «Идиот», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы») пронизаны фундаментальными философскими идеями. Его философия – это русский экзистенциализм, т.е философия существования человека. главная проблема – это проблема человека, а ключ к ее решению он видит в проблеме свободы. Человек – это личность, обладающая свободной волей и как источником добра и зла. Свобода – это тяжелое бремя для человека, но без нее человек не существует, а значит, не может познать истину, смысл своего бытия.
Его философия – это русский экзистенциализм, т.е философия существования человека. главная проблема – это проблема человека, а ключ к ее решению он видит в проблеме свободы. Человек – это личность, обладающая свободной волей и как источником добра и зла. Свобода – это тяжелое бремя для человека, но без нее человек не существует, а значит, не может познать истину, смысл своего бытия.
Толстой создал свою религиозно-философское учение в котором разработал свою истинную религию, основанную на ненасилии. Он написал следующие философские произведения: «Исповедь», «В чем моя вера», «Царство Божие среди нас», «Так что же нам делать?». На первое место он ставит проблему поиска смысла жизни, смысл которой он видел в высокой морали, нравственности. Именно с этих позиций он оценивал современную экономику, науку, искусство и критиковал их за то, что они не способствуют улучшению жизни простого народа. Он считал, что все зло в праздности, в отсутствии труда и считал, что человек без физического труда деградирует. Отсюда его патриархальная идеология, призывающая людей вернуться к природе, сельской жизни, физическому труду. К концу жизни он разочаровался в своей патриархальной идеологии и выдвинул учение о ненасилии, о неучастии в государственных и политических делах. Он резко критиковал даже православную церковь за то, что она служит политике и призывал ее бойкотировать. за что церковь предала его анафеме (отлучение), поэтому он пишет статью «Царствие Божие внутри нас». Он вопрошает: «В чем моя вера?» и отвечает: «В глубокой морали». Свою религиозность Толстой понимал как этику любви и не противления злу насилия.
Отсюда его патриархальная идеология, призывающая людей вернуться к природе, сельской жизни, физическому труду. К концу жизни он разочаровался в своей патриархальной идеологии и выдвинул учение о ненасилии, о неучастии в государственных и политических делах. Он резко критиковал даже православную церковь за то, что она служит политике и призывал ее бойкотировать. за что церковь предала его анафеме (отлучение), поэтому он пишет статью «Царствие Божие внутри нас». Он вопрошает: «В чем моя вера?» и отвечает: «В глубокой морали». Свою религиозность Толстой понимал как этику любви и не противления злу насилия.
Поможем написать любую работу на аналогичную тему
Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Узнать стоимость Поделись с друзьямиФилософские идеи в русской литературе (Ф.
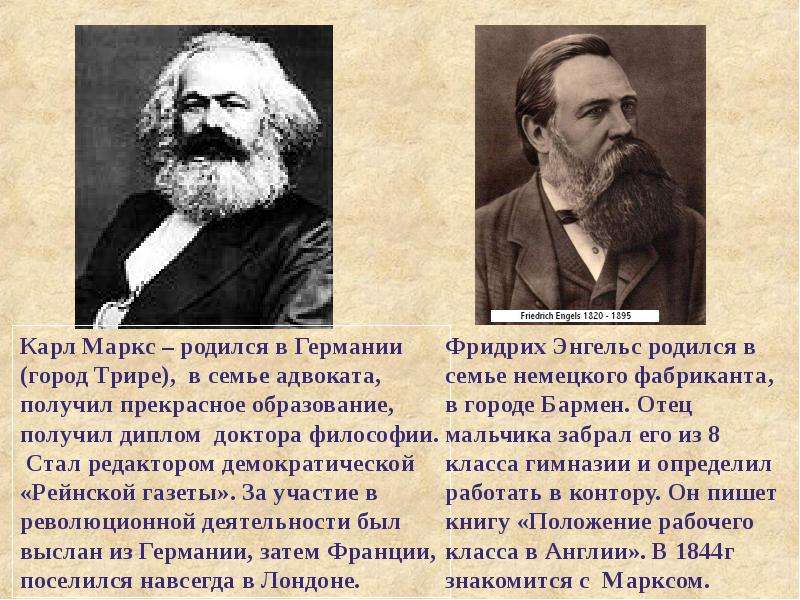 М. Достоевский, Л.Н. Толстой)
М. Достоевский, Л.Н. Толстой)Ф.М. Достоевский (1821-1881).
Уже в первом романе «Бедные люди» Достоевский выступил как гуманист, основная черта воззрений которого — боль о человеке. Находясь в Сибири, на каторге он пришел к выводу о бессмысленности революционных акций как средства улучшения общества, полагая, что на пути социальных преобразований нельзя искоренить зло, заложенное в человеческой природе, — ибо никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следовательно, и от активности и преступности. Имманентной чертой психологии Достоевского была «жажда верить». Вопрос о существовании Бога мучил его всю жизнь. Все творчество мыслителя пронизано Религиозно — философскими исканиями и переживаниями. Ему свойственно глубокое проникновение в то, что было названо писателем «тайной человека», которую надо разгадать. Проблемы смысла жизни, свободы и ответственности, веры и неверия, добра и зла, страсти и долга, рассудка и морали поставлены в «Преступлении и наказании», Идиоте», также в «Записках из подполья». «Антигерой» Достоевского — «маленький человек», чиновник, страдающий от своей социальной приниженности.
«Антигерой» Достоевского — «маленький человек», чиновник, страдающий от своей социальной приниженности.
Вершина философского творчества Достоевского — роман «Братья Карамазовы», в который включена легенда о Великом инквизиторе. Эту легенду можно рассматривать как самостоятельное философское сочинение, посвященное личности Богочеловека — Христа, трудной теме совмещения свободы и материального благополучия, гармонизации духовного и социального, ответственности человека. Многоплановое концептуально-символическое содержание легенды позволяет одним видеть в ней теодицею (оправдание Бога), другим говорить о ее антихристианской направленности.
Достоевский также призывал покончить старый спор между славянофилами (самобытный историч путь России) и западниками (ликвидац крепостич и движ России и развитие по Западн пути) и объединить усилия во имя всечеловеческого братства людей и земного рая, в установлении которого он видел предназначение русского народа. Настаивая на «всечеловечности» русского национального идеала, Достоевский указывает, что в нем не заключено никакой враждебности Западу. Достоевский оказал значительное влияние на русскую мысль, на культуру конца 19-20 вв. Он расширил границы современного ему реализма, открыв для него новые, глубинные области психологии личности, ее духовных исканий. При всей сложности и противоречивости идей Достоевского, они высказаны «во имя человечества и из любви к нему: во имя нового гуманизма, углубленного и лишенного риторики, прошедшего через все адские бездны мук и познания».
Достоевский оказал значительное влияние на русскую мысль, на культуру конца 19-20 вв. Он расширил границы современного ему реализма, открыв для него новые, глубинные области психологии личности, ее духовных исканий. При всей сложности и противоречивости идей Достоевского, они высказаны «во имя человечества и из любви к нему: во имя нового гуманизма, углубленного и лишенного риторики, прошедшего через все адские бездны мук и познания».
Л.Н. Толстой (1828-1910)
Лев Толстой явился родоначальником движения толстовства, одним из основополагающих тезисов которого является Евангельское «непротивление злу силою». Сущность христианства, согласно Толстому, можно выразить в простом правиле: «Будь добрым и не противодействуй злу силою». «Будь добрым» — это положительное, деятельное содержание нравственности, которое включает в себя все заповеди Нового Завета — возлюби Бога, возлюби ближнего своего как самого себя и т. д. — все деятельное содержание учения Христа. Но если на добро мы отвечаем добром — мы не делаем ничего особенного, «не так ли поступают и язычники?» В этом случае мы находимся в рамках циклических, замкнутых отношений ответного дара: «ты — мне, я — тебе», в которых нет моральности, поскольку мы как бы «платим» за добро, содеянное нам. Другое дело, если мы на зло отвечаем добром. В этом и проявляется высшая нравственность, поскольку мы на себе останавливаем цепочку зла. Ведь зло существует (распространяется) в причинных цепочках зла как ответ на зло злом. Только Бог вправе судить Других, останавливать их действие силою.
Но если на добро мы отвечаем добром — мы не делаем ничего особенного, «не так ли поступают и язычники?» В этом случае мы находимся в рамках циклических, замкнутых отношений ответного дара: «ты — мне, я — тебе», в которых нет моральности, поскольку мы как бы «платим» за добро, содеянное нам. Другое дело, если мы на зло отвечаем добром. В этом и проявляется высшая нравственность, поскольку мы на себе останавливаем цепочку зла. Ведь зло существует (распространяется) в причинных цепочках зла как ответ на зло злом. Только Бог вправе судить Других, останавливать их действие силою.
Философские взгляды В.С. Соловьева, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого — Студопедия
Чтобы понять степень новаторства философии той эпохи, необходимо осознать, против чего она выступала в философской традиции Запада. Для этого напомним те ключевые принципы, на которых базировалась классическая западноевропейская философия от Сократа до Гегеля (в главной линии своего развития).
Во-первых, в структуре мироздания предполагалось наличие Абсолюта (Бога), который понимался как всецело рациональное начало, как Высший Разум, который обеспечивал разумность, целесообразность, рациональную обоснованность происходящего в природе и человеческой истории (это просматривается даже в материализме, где в качестве Абсолюта выступает незыблемая природная закономерность).
Во-вторых, в человеке в качестве главной способности также признавался разум, рассудок, иначе говоря, рациональное начало. Однако в своих поступках и действиях человек должен был подчиняться этому Абсолюту (духовному началу в идеализме, законам природы в материализме). В идеализме абсолютной свободой обладало божественное начало, за человеком признавалась только ограниченная, относительная свобода.
В-третьих, сама философия, за редким исключением (мистицизм) понималась как система рационального знания о мире, человеке и Абсолюте. Философия должна строиться по тем же канонам и принципам, по которым строится наука.
Русские мыслители отвергли представление о рациональности мира и истории, о преобладании рационального начала в человеке. Сама философия в России не рассматривалась как высшая «наука», а считалась именно любовью к мудрости. В философии находили способ обретения подлинного смысла жизни через размышления о Боге, человеке, добре и зле, или даже просто через размышления о себе самом, своих поступках и действиях.
Все эти черты в полной мере представлены в творчестве таких выдающихся мыслителей как Вл. Соловьев, Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. Идеи этих мыслителей оказали непосредственное и существенное влияние на последующее развитие как отечественной, так и западноевропейской философии.
Вл. Соловьев (1843-1900) – один из первых русских мыслителей, создавший не только достаточно завершенное, но и оригинальное философское учение. Вл. Соловьев был не только блестяще образованным человеком, но и прекрасным знатоком западноевропейской философии. Если славянофилов и западников трудно зачислить в разряд философов в строгом смысле, ибо они, скорее, свободные литераторы, публицисты, выражающие национальное самосознание, то Соловьев – профессиональный философ. Вместе с тем этот мыслитель был прекрасным поэтом и публицистом.
Философская концепция Вл. Соловьева строилась на трех основных идеях. Русский мыслитель первым в отечественной мысли разработал учение о Всеединстве. Сама идея Всеединства – не изобретение русской мысли. Она присутствует в философии с давних пор. Этой идеи придерживались Платон и неоплатоники, Августин и восточные отцы Церкви, впоследствии – Н. Кузанский, в немецкой философии, она присутствует у Гегеля и Шеллинга. Суть ее заключается в предположении, что мир не только един, несмотря на многообразие и разнообразие вещей, процессов, состояний, но и всеедин, т.е. подчинен некоему высшему принципу.
Сама идея Всеединства – не изобретение русской мысли. Она присутствует в философии с давних пор. Этой идеи придерживались Платон и неоплатоники, Августин и восточные отцы Церкви, впоследствии – Н. Кузанский, в немецкой философии, она присутствует у Гегеля и Шеллинга. Суть ее заключается в предположении, что мир не только един, несмотря на многообразие и разнообразие вещей, процессов, состояний, но и всеедин, т.е. подчинен некоему высшему принципу.
В философии проблема единства мира – одна из основных онтологических проблем. Главное – найти это единство. Но дерзкая человеческая мысль шла еще дальше. Она не удовлетворялась поисками единого, поисками некоего безусловного начала, на философском языке называемого Абсолютом. Человеческая мысль хотела видеть это единое во всем, везде и всюду. Она искала всеобъемлющий принцип внутренней формы совершенного множества, согласно которому все элементы этого множества тождественны между собой и тождественны целому. Целое не только состоит из частей, но присутствует в каждой части, а каждая часть определяет собой целое.
Целое не только состоит из частей, но присутствует в каждой части, а каждая часть определяет собой целое.
Таким образом, Всеединство – это сущее во всей своей полноте и всеобъемлющей целостности. Всеединство подчиняется принципу неслиянности и нераздельности (на этом принципе строится христианское учение о Троице). Всеединство можно уподобить симфоническому оркестру, где каждый инструмент под руководством дирижера, ведя свою партию, образует цельное музыкальное произведение, и в то же время слушатели могут различать отдельные инструменты. Этот многоголосый хор образует единый лад, подчиняющийся замыслу дирижера.
Вл. Соловьев, будучи идеалистом и религиозным мыслителем, под Абсолютом понимал Бога. Тем самым, по системе Соловьева, в основе мира лежит Божественное начало. Бог – не только источник, первоначало и первооснова бытия, но и высший нравственный принцип бытия, носитель абсолютного Добра, Истины и Красоты. Божественное начало пронизывает собою мир, а мир в процессе творческой эволюции восходит к Богу.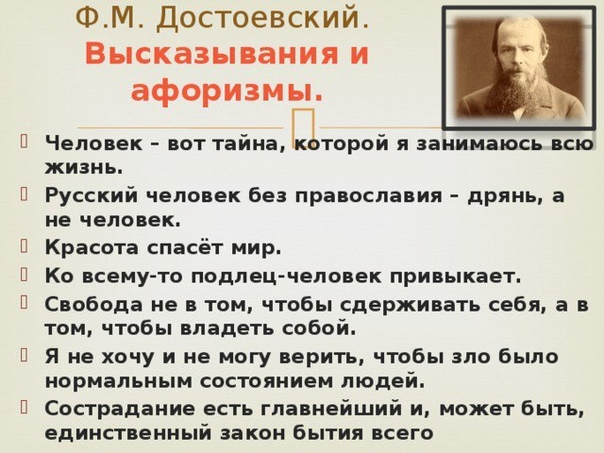
Платоновские мотивы Вл. Соловьева отражены в его известном стихотворении:
Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий –
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Следует иметь в виду, что главные усилия философской и религиозной мысли были направлены не столько на обоснование существования Всеединства, сколько на поиск связи всего со всем. Поиск этой связи привел Соловьева к другой идее, на которой строилось его учение.
Вторая идея, выдвинутая Вл. Соловьевым, – это идея Софии и софийности. София (в христианском варианте – Премудрость Божия) – связующее звено, позволяющее соединить все со всем и с Абсолютом. София – это не только Премудрость Божия, это и душа мира, а также высшая Идея, напоминающая идею Платона. Иными словами, София – это начало гармонии, порядка и красоты, а софийность есть некий гармонический лад вещей, принцип закономерности и законосообразности.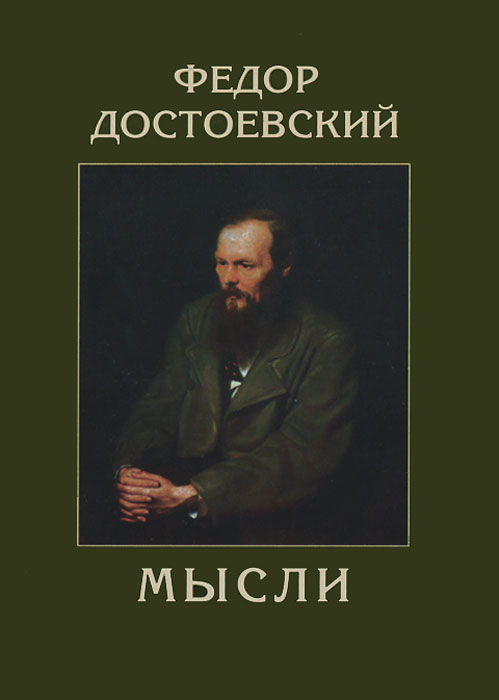
Это своеобразная «универсальная связь мира». София озаряет, просветляет мир, делая его цельным и взаимосвязанным. «Софийности» противостоит «несофийность» – хаос, распад, дисгармония. Поскольку Софию трудно выразить и определить в философских и логических понятиях, то это учение менее всего напоминает рационалистическую концепцию. Это скорее мифопоэтический образ. Идея Софии как начала порядка, гармонии и красоты наполнена у Соловьева глубоким мистическим содержанием.
Впоследствии учение о Софии было разработано такими мыслителями как П. Флоренский (1882-1937) и С. Булгаков (1871-1944). Для них характерно понимание Софии как Красоты.
Третья идея – идея «цельного знания» была заимствована Соловьевым у славянофилов, но существенно им переработана и обоснована. Всеединство довольно трудно описать и объяснить исключительно в логических понятиях и категориях. Но это не свидетельствует о его закрытости человеку. Оно дается и открывается человеку в «цельном знании». «Цельное знание» представляет собой единство философского, научного знания и религиозных представлений.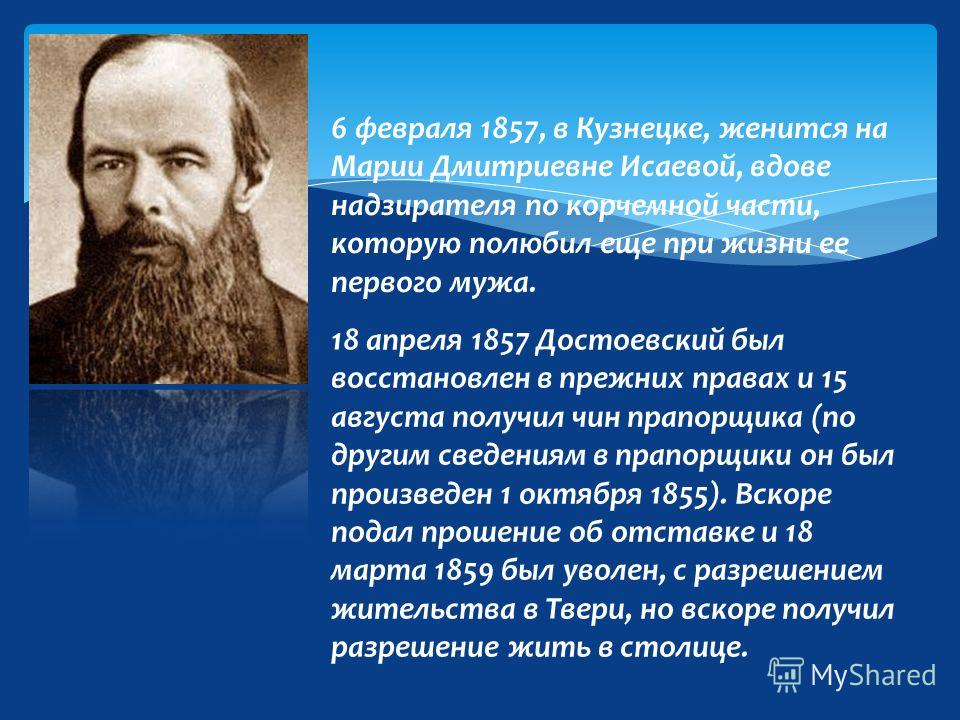 Здесь очевидно стремление русской философии к гармонии веры и разума, к их единству. Естественно, приоритет отдается вере и религиозным представлениям. В основании цельного знания лежит цельный дух – своего рода сплав веры, разума и непосредственного религиозного переживания и опыта.
Здесь очевидно стремление русской философии к гармонии веры и разума, к их единству. Естественно, приоритет отдается вере и религиозным представлениям. В основании цельного знания лежит цельный дух – своего рода сплав веры, разума и непосредственного религиозного переживания и опыта.
Огромное значение в своей нравственной философии Соловьев отводил любви. Он писал:
Смерть и Время царят на земле, –
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.
Нравственное начало лежит в основе жизни каждого человека. Моральный человек задается вопросом: зачем я живу? И отвечает на него: чтобы творить добро. Любовь и есть тот путь, идя по которому человек будет творить добро. Тем самым, любовь – основное условие нравственного совершенствования. В своем произведении «Смысл любви» Соловьев показывает, что самоутверждение человека как духовного существа возможно при условии преодоления эгоизма, а это преодоление возможно только в любви к другому.
В этой любви и через нее человек преображается, превращается в нового человека, освобождается от привязанности к земному, суетному. Высшая степень любви – любовь к Богу. Сам Бог – это любовь. Человек, способный к божественной любви, уподобляется Богу, становится «богочеловеком». Такая любовь дает человеку силы вырваться за границы своего наличного, ограниченного временем и пространством существования, ощутить бессмертие своего духа, причастность к неземному, вечному, божественному миру. «Нездешняя любовь» делает человека жителем иного, высшего бытия.
Огромное место в творчестве Вл. Соловьева занимает тема судьбы и предназначения России. Пытаясь осуществить синтез славянофильства и западничества, будучи сторонником объединения всех ветвей христианства, Соловьев судьбу России связывал с выполнением ею христианской миссии. Ее особое предназначение состоит в том, чтобы «всем сердцем и душою войти в общую жизнь христианского мира» и включиться в богочеловеческий процесс. Богочеловечество – это такое состояние человечества, когда каждый человек своим нравственным и духовным обликом похож на Бога.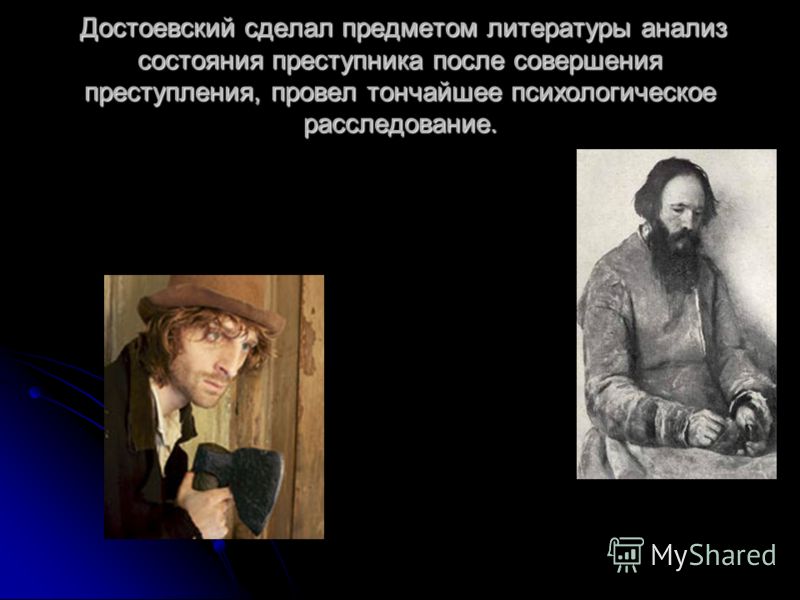 Соловьев каждого человека и все человечество в целом призывал к непрерывной борьбе против зла и страданий, господствующих в мире, к борьбе за совершенство и гармонию. Богочеловечество – это идеальный образ грядущего совершенства. Человек и человечество имеют силы для реализации этого образа.
Соловьев каждого человека и все человечество в целом призывал к непрерывной борьбе против зла и страданий, господствующих в мире, к борьбе за совершенство и гармонию. Богочеловечество – это идеальный образ грядущего совершенства. Человек и человечество имеют силы для реализации этого образа.
Во многом учение Вл. Соловьева созвучно идеям, которые содержатся в произведениях Ф.М. Достоевского. Однако Достоевский и писатель, и мыслитель в одном лице. Тема человека, смысла жизни, смерти и бессмертия, предназначения человека – вот что волнует Достоевского прежде всего и как нигде в другой литературе представлена в его творчестве. И не случайно, что не в строгих и логических философских рассуждениях раскрывается эта тема, а в творчестве писателя, не оставившего после себя ни одного чисто философского сочинения.
Достоевский устами своих героев пытается решить проблемы, связанные с жизненным выбором каждого человека и без решения, которых станет бессмысленным наше существование. Для героев Достоевского главным является вопрос об отношении человека к Богу, то есть вопрос о сущности веры и ее роли в жизни человека.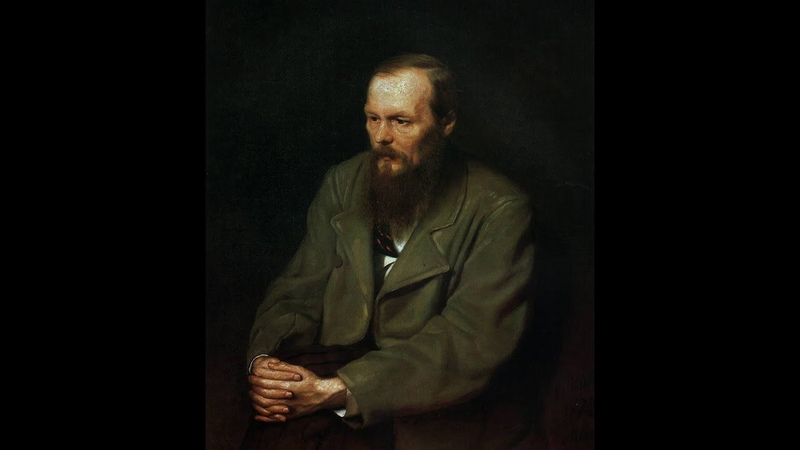 Мучительные поиски ответа на этот вопрос, привели Достоевского к выводу, что человек – это уникальное и иррациональное в своей сущности создание, вбирающее в себя всю противоречивость мироздания. Человек – уникальный носитель всех мировых противоречий и обречен постоянно метаться между ними, постоянно выбирать.
Мучительные поиски ответа на этот вопрос, привели Достоевского к выводу, что человек – это уникальное и иррациональное в своей сущности создание, вбирающее в себя всю противоречивость мироздания. Человек – уникальный носитель всех мировых противоречий и обречен постоянно метаться между ними, постоянно выбирать.
Достоевский и не идеализирует, но и не демонизирует человека. Он слишком хорошо видит все «вершины» человеческого духа и все его «пропасти». Человек в своей душе соединяет и самое высокое, и самое низменное. И несмотря на такую противоречивость, человек представляет собой цельность, которую почти невозможно разложить на составляющие и признать вторичной по отношению к какой-то более фундаментальной сущности – даже по отношению к Богу. Это и порождает проблему взаимосвязи Бога и человека. Их отношение в определенном смысле становится отношением равноправных сторон, становится подлинным «диалогом», обогащающим обе стороны.
Бог дает человеку основу его бытия и высшую систему ценностей для его жизни, но и человек (конкретный, эмпирический человек) оказывается иррациональным «дополнением» божественного бытия, обогащающего его за счет своей свободы, своего «своеволия». Отсюда тема свободы, которая красной нитью проходит через все его произведения Достоевского. Апофеозом трагичности и драматичности противостояния Бога и человека, свободы и несвободы станет «Легенда о Великом Инквизиторе». В то же время герои, способные на «бунт против Бога» (Раскольников, Кириллов, Иван Карамазов), соответствуют парадоксальному идеалу человека у Достоевского.
Отсюда тема свободы, которая красной нитью проходит через все его произведения Достоевского. Апофеозом трагичности и драматичности противостояния Бога и человека, свободы и несвободы станет «Легенда о Великом Инквизиторе». В то же время герои, способные на «бунт против Бога» (Раскольников, Кириллов, Иван Карамазов), соответствуют парадоксальному идеалу человека у Достоевского.
Только пройдя все искусы «своеволия» и «бунта», человек способен достичь подлинной веры и подлинной надежды на достижение гармонии в своей собственной душе и в окружающем мире. На примере своих героев Достоевский показывает, как из своего «подполья», из своей «бездны» человек взывает к Богу. Достоевский хочет оправдать перед лицом Бога не только всеобщую духовную сущность человека, но и саму конкретную, неповторимую и ограниченную личность во всем богатстве ее благих и злых проявлений.
Достоевский в своих произведениях порывает с традиционной моделью человека и предлагает экзистенциальное понимание его природы и сущности. В этом смысле он является предшественником западноевропейского экзистенциализма, а последующая русская философия развивает и углубляет ту новую концепцию человека, основы которой заложил Достоевский.
В этом смысле он является предшественником западноевропейского экзистенциализма, а последующая русская философия развивает и углубляет ту новую концепцию человека, основы которой заложил Достоевский.
Отказываясь от классической формы наукообразного философского трактата и превращая свои романы в адекватную форму философствования, Достоевский как раз и изменил существующий стиль философствования. Произведения Достоевского являют собой пример интуитивно-художественного прозрения самых глубоких тайн человеческого бытия.
История русской литературы непосредственно смыкается с историей русской философии, и все крупные литераторы в той или иной степени могут рассматриваться как представители русской философской мысли. Радикальное воздействие на философское развитие оказал не только Ф.М. Достоевский, но и Л.Н. Толстой (1828-1910). Причем в отличие от Достоевского, который никогда не писал чисто философских сочинений (философские идеи вплетены в ткань его повестей и романов), Толстой в конце жизни сознательно обратился к философии и создал ряд сочинений, в которых ставятся традиционные проблемы морали, религии и метафизики.
Среди этих работ особенно выделяются такие, как «Христианское учение», «О жизни», «Что такое искусство», «Закон насилия и закон любви», «Исповедь» и др. Достаточно важная роль Толстого в истории русской философии связана не столько с его художественным творчеством, сколько с его поздними идеями. Именно они оказали значительное влияние на последующую русскую мысль. Как и Достоевский, Толстой в своей жизни испытал радикальные религиозные сомнения, которые привели его к мировоззрению, резко критичному по отношению к церковному христианству. В середине жизни Толстой пережил тяжелый душевный кризис, связанный с утратой чувства осмысленности своего бытия.
Толстой преодолел этот кризис через обращение к религии. Вместе с тем он отверг всю догматическую сторону христианства и принял его исключительно как моральное учение. Христианская мораль, по мнению Толстого, дает определенные представления о смысле человеческой жизни и о принципах правильного поведения, правильного отношения к окружающему миру, к людям и к себе самому. По степени неприятия официальной церкви, ее традиций, обрядов и догматики Толстой превзошел многих русских мыслителей. Толстой отрекается не только от догматического, но и от философского содержания христианского учения. Толстой берет из христианства только образ Иисуса Христа, причем понимает его не как Богочеловека, а как человека, показавшего, что люди могут устроить свою жизнь и жизнь общества на основаниях добра и ненасилия.
По степени неприятия официальной церкви, ее традиций, обрядов и догматики Толстой превзошел многих русских мыслителей. Толстой отрекается не только от догматического, но и от философского содержания христианского учения. Толстой берет из христианства только образ Иисуса Христа, причем понимает его не как Богочеловека, а как человека, показавшего, что люди могут устроить свою жизнь и жизнь общества на основаниях добра и ненасилия.
Истинное предназначение человека, по Толстому, состоит в преодолении эгоизма и эгоцентризма. Человек должен преодолеть в себе желание блага для себя и возвыситься до божественного принципа желания блага всему существующему. Процесс такого возвышения Толстой называет новым, духовным рождением человека. После этого «рождения» человек уже не может жить по-старому, он призван отвергнуть все прежнее устройство своей жизни и выстроить ее по-новому. И в этом пункте своего учения Толстой развертывает радикальную критику всей европейской культуры, построенной, по его мнению, на абсолютно ложных ценностях и ведущей человека к ложным целям.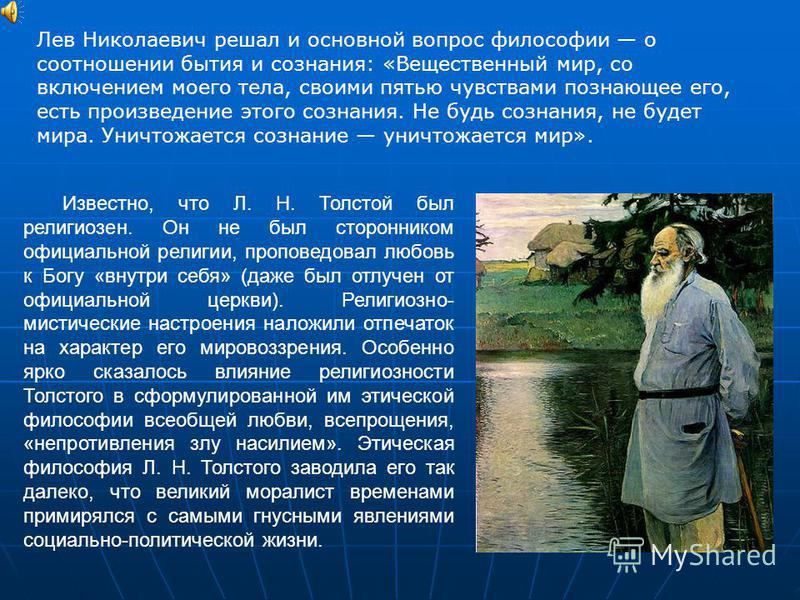 В противовес этой культуре он выдвигает идеал «опрощения».
В противовес этой культуре он выдвигает идеал «опрощения».
Чтобы достичь этого идеала, человек должен ограничить свои земные, телесные потребности, вернуться в «естественное» состояние, быть ближе к земле, природе, заниматься физическим трудом. Он видит все это в простой крестьянской жизни, в которой простота материального быта соединяется с также простой духовной сферой. Вся духовная жизнь человека должна подчиняться принципу любви ко всему существующему. А все то, что не способствует этой любви, должно быть отвергнуто. Этот принцип любви ко всему существующему Толстой положил в основу своего известного тезиса о непротивлении злу насилием. Зло из внешней (общественной) жизни неустранимо. Любые формы внешней жизни ложны и иллюзорны. Вот почему человек должен вообще отказаться от участия во внешней жизни во имя жизни внутренней. Только здесь он обретает свободу и может жить по законам добра. Внутренняя жизнь человека должна быть направлена на нравственное самосовершенствование.
В целом, учение Толстого довольно противоречиво. Искание истинного смысла христианства превращается в обличение всего того, что было сделано христианством «после Христа». Философское исследование человеческой жизни приводит Толстого, с одной стороны, к крайнему индивидуализму, а с другой стороны, к требованию отречения от личностного начала. В то же время учение Толстого приобрело широкую популярность во всем мире. Огромное влияние оно оказало на философию ненасилия индийского мыслителя и проповедника М. Ганди.
Русская философия Серебряного века (рубеж XIX-XX в.)Духовное движение, традиционно именуемое «русским религиозно-философским ренессансом» начинается на рубеже XIX и ХХ в. как вполне закономерное явление в истории отечественной мысли и культуры. Это время расцвета как культуры в целом, так и русской религиозной философии в частности. В эти годы русская философия стремилась к синтезу. Будущее России виделось таким образом, чтобы в нем соединились достижения западной цивилизации с отечественными духовными ценностями. «Серебряный век» нашей культуры, русский духовный ренессанс был и выражением и отражением русской идеи всепримиряющего синтеза Востока и Запада, религии и культуры, церкви и общества.
«Серебряный век» нашей культуры, русский духовный ренессанс был и выражением и отражением русской идеи всепримиряющего синтеза Востока и Запада, религии и культуры, церкви и общества.
Безусловно, философская мысль XIX в. способствовала духовному пробуждению русской интеллигенции. Русская интеллигенция этого периода разочаровалась как в народничестве, а с ним и в политическом радикализме, так и в модных философских теориях, пришедших с Запада (марксизм, позитивизм). Вот почему лучшие представители русской интеллигенция все свои духовные и интеллектуальные усилия направили на поиск «новых» горизонтов, новых концепций, нового «неба» и «земли». Образовавшийся «духовный вакуум» необходимо было заполнить, и он был заполнен религиозно-философскими идеями.
Рубеж веков всегда сложное время, для России тем более. В этот период усилились апокалиптические предчувствия и ожидания, всегда характерные для русского самосознания в переломные эпохи «смены веков». Способствовала усилению этих настроений и социально-политическая ситуация в стране: тревожное предреволюционное время рождало болезненное и обостренное чувство приближения гибели старой России.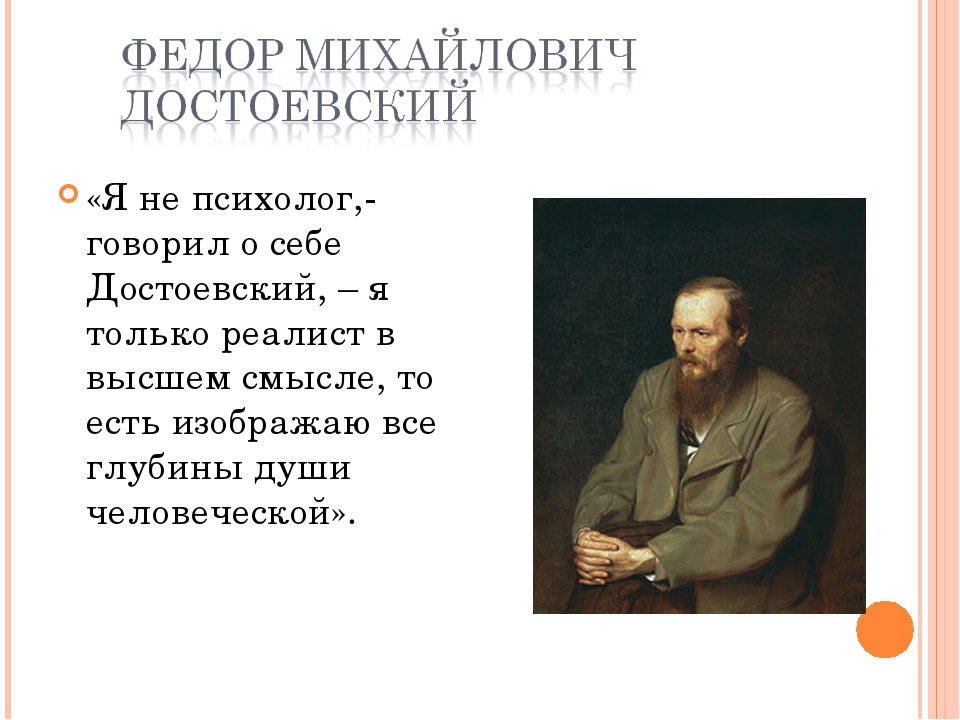 «Что-то в России менялось, что-то оставалось позади, что-то, народившись или воскреснув, стремилось вперед… Куда? Это никому не было известно, но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась трагедия», – писала поэтесса З. Гиппиус.
«Что-то в России менялось, что-то оставалось позади, что-то, народившись или воскреснув, стремилось вперед… Куда? Это никому не было известно, но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась трагедия», – писала поэтесса З. Гиппиус.
Это было время какого-то всеобщего беспокойства и духовного смятения. Общее мироощущение было трагическим, наполненным смутным ожиданием грядущих катастроф. Знаменитый русский поэт того времени А. Блок предрекал:
Двадцатый век…Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла,
Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла.
Всякая истинная философия – поздний плод культурного развития. Она возникает и существует как «зрячий разум» культуры, развертываясь в непрерывном и преемственном диалоге идей. Русская религиозная философия ХХ в. формируется на излете «петербургской» эпохи перед очередным и, может быть, самым драматичным разрывом в российской истории. Это исключительно сложное духовное явление, которое стало возможным в том числе благодаря высокому уровню культуры петербургской России начала века.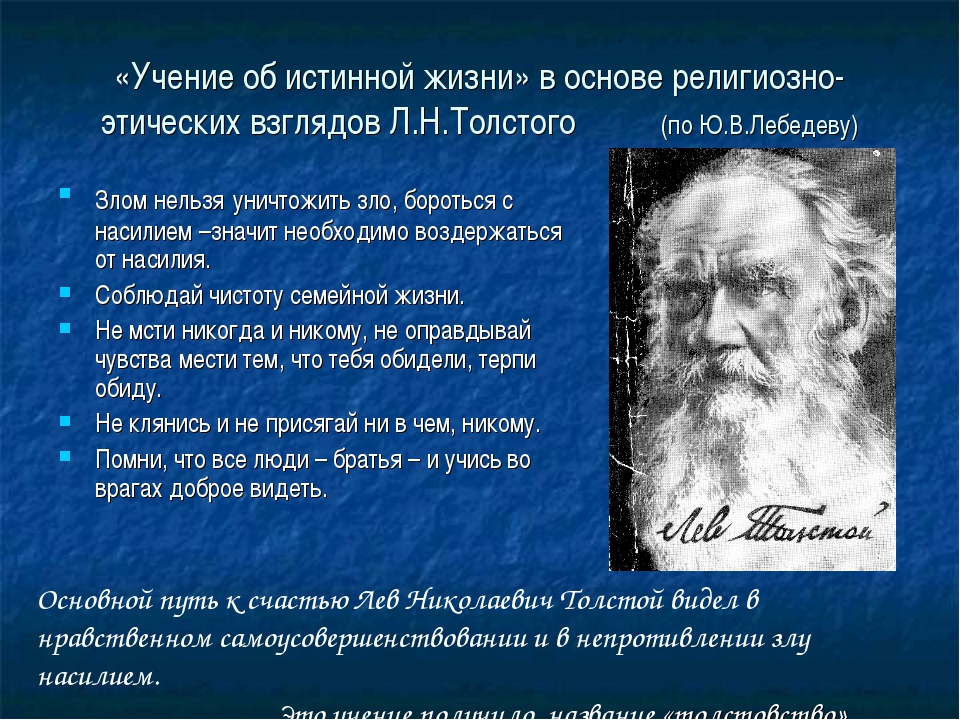 Можно спорить об элитарности или «узости» культурного слоя ее носителей, о перспективах ее дальнейшего развития, но при всех противоречиях эта явно не «массовая культура» отвечала самым высоким критериям. Неслучайно эта культура вошла в историю под именем Серебряного века (Золотым веком считается пушкинское время).
Можно спорить об элитарности или «узости» культурного слоя ее носителей, о перспективах ее дальнейшего развития, но при всех противоречиях эта явно не «массовая культура» отвечала самым высоким критериям. Неслучайно эта культура вошла в историю под именем Серебряного века (Золотым веком считается пушкинское время).
Религиозная философия в этот период становится ведущим, но не единственным направлением. Религиозная философия представляет собой синтез идеалистической философии и религиозных представлений. Русский религиозный ренессанс выражал не столько возрождение, сколько возврат к религиозной философии XIX в., к тому, что было ею сделано в области философии. Но в то же время связь с предшествующей мыслью не была всегда прямой и непосредственной. Философские идеи славянофилов, Вл. Соловьева и Ф.М. Достоевского были существенно проработаны и получили дальнейшее развитие.
В начале ХХ в. к религиозной философии приходили различными путями, часто весьма противоречивыми. Одни, например, С. Булгаков, Н. Бердяев, С.Л. Франк в молодости увлекались марксизмом и позитивизмом. Однако не удовлетворившись ответами материализма и марксизма на самые «проклятые вопросы» бытия и, в первую очередь, о смысле жизни и предназначении человека, встали на самостоятельный путь решения этих «вечных проблем». Этот путь через идеализм привел их к религиозной философии, главной целью которой было осуществление синтеза веры и знания. Другие, например, Лев Шестов, пришли к религиозной философии в процессе мучительных поисков тех принципов бытия и основ жизни, без которых невозможно существование человека (т.н. экзистенциальный путь).
Булгаков, Н. Бердяев, С.Л. Франк в молодости увлекались марксизмом и позитивизмом. Однако не удовлетворившись ответами материализма и марксизма на самые «проклятые вопросы» бытия и, в первую очередь, о смысле жизни и предназначении человека, встали на самостоятельный путь решения этих «вечных проблем». Этот путь через идеализм привел их к религиозной философии, главной целью которой было осуществление синтеза веры и знания. Другие, например, Лев Шестов, пришли к религиозной философии в процессе мучительных поисков тех принципов бытия и основ жизни, без которых невозможно существование человека (т.н. экзистенциальный путь).
Ренессанс захватил все стороны духовной жизни и стал общекультурным явлением. Кроме того, Ренессанс был самым тесным образом связан с модернистскими литературно-художественными течениями, в частности с творчеством таких поэтов и писателей как Д. Мережковский и З. Гиппиус, А. Блок и А. Белый. Иначе говоря, русский религиозно-философский ренессанс был уникальным состоянием общественной мысли, охватившим все ее проявления – философию, богословие, литературу и искусство. Результат – беспрецедентный взлет интеллектуального и художественного творчества.
Результат – беспрецедентный взлет интеллектуального и художественного творчества.
Ему сопутствовала социально-культурная активность интеллигенции, выразившаяся в появлении разного рода кружков, обществ и др., в проведении всевозможных вечеров, диспутов, собраний. Особую роль в духовной жизни этого периода сыграло Московское религиозное философское общество памяти Вл. Соловьева, журнал «Путь». Интеллигенция стремилась к соединению с церковью. Несмотря на то, что это соединение не состоялось, поскольку религиозно настроенная интеллигенция осталась на исходных, критических позициях в отношении церкви, этот диалог имел культурно-исторический смысл, ибо способствовал возврату к вере.
Творчество, в том числе и философское, далеко не всегда поддается классификации по направлениям и школам. Это относится и к русской философии ХХ в. Тем не менее, можно выделить ряд ведущих направлений.
Наиболее влиятельным было направление, представители которого создали так называемую метафизику Всеединства, или учение о Всеединстве. Метафизику Всеединства продолжали разрабатывать и внесли в нее существенный вклад такие мыслители как Е.Н. Трубецкой, П. Флоренский, С. Булгаков, С.Л. Франк, Л.П. Карсавин. Их собственные философские конструкции отличались друг от друга, однако в них было и много общего. Как полагали создатели этого учения, Абсолютное — Бог пронизывает все сущее (существующее), присутствует как таковое в каждой частице мироздания. Все конкретно существующее укоренено в бытии как единстве, и в Боге – как всеединстве. Всеединство предполагает, что в мире все взаимосвязано.
Метафизику Всеединства продолжали разрабатывать и внесли в нее существенный вклад такие мыслители как Е.Н. Трубецкой, П. Флоренский, С. Булгаков, С.Л. Франк, Л.П. Карсавин. Их собственные философские конструкции отличались друг от друга, однако в них было и много общего. Как полагали создатели этого учения, Абсолютное — Бог пронизывает все сущее (существующее), присутствует как таковое в каждой частице мироздания. Все конкретно существующее укоренено в бытии как единстве, и в Боге – как всеединстве. Всеединство предполагает, что в мире все взаимосвязано.
Сам мир в учении представителей этого направления – это «иное», «другое» Бога-Абсолюта. «Инаковость» мира обнаруживается в его тварной (сотворенной, созданной), или земной природе. В отличие от вечного божественного мира, земной мир временен, текуч и непостоянен. Однако земной мир сопричастен божественному как его данность, как его порождение. Тварный мир в процессе естественной и человеческой истории, т.е. в процессе эволюции восходит к Богу-Абсолюту.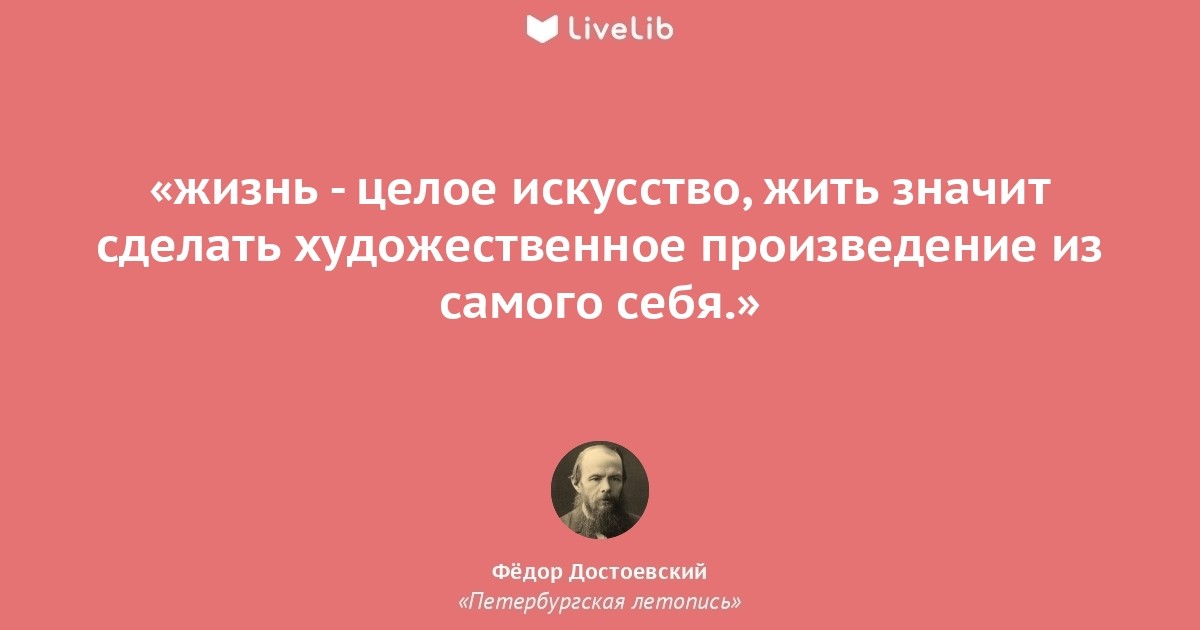 Венец эволюции – человек, который через богочеловечество соединяется с Абсолютом. Как видим, здесь развиваются идеи Соловьева и Достоевского. Человек в метафизике всеединства принадлежит двум мирам: земному и божественному. Человек не может быть понят вне связи с Абсолютом. Через постижение Абсолюта (Бога) человек постигает самого себя.
Венец эволюции – человек, который через богочеловечество соединяется с Абсолютом. Как видим, здесь развиваются идеи Соловьева и Достоевского. Человек в метафизике всеединства принадлежит двум мирам: земному и божественному. Человек не может быть понят вне связи с Абсолютом. Через постижение Абсолюта (Бога) человек постигает самого себя.
Человек по своей основе есть существо духовное. Духовная сущность человека находится в таинственных и интимных связях с Богом, который для человека является высшей ценностью и высшим смыслом существования. В Боге человек находит оправдание своего бытия. Но и человек выступает высшей ценностью в этом земном мире. Тем самым представители этого учения духовную жизнь человека ставили выше природной и социальной. Поскольку каждый человек – единственная, уникальная личность, то и его внутренняя жизнь рассматривалась как самоценность. Вот почему русские мыслители выступали против диктата как политических, так и социальных форм жизни. Исходя из восточно-христианской идеи преображения, просветления человека, многие русские мыслители полагали, что человек сначала должен сам измениться в духовном плане, а потом только приступить к изменению мира.
Другим самобытным образованием отечественной мысли в этот период был так называемый космизм. Его еще называют «русским космизмом». Учение о Всеединстве тесно связано с этим направлением, а иногда считается его разновидностью. Ибо и учение о всеединстве, и «русский космизм» представляют мир как Универсум, а человека как его неотъемлемую часть. В «русском космизме» четко прослеживаются две линии – религиозная, представленная мыслителями, создавшими учение о Всеединстве и естественнонаучная. Эта линия космизма представлена такими видными учеными как В.И. Вернадский (1863-1945), К.Э. Циолковский (1857-1935), А.Л. Чижевский (1897-1964) и др.
Родоначальником этого направления считают довольно оригинального мыслителя Н.Ф. Федорова (1829-1903). Главная тема и замысел Федорова – преодоление смерти. В ней, как полагал русский мыслитель, заключено зло мира и самый факт ее существования – свидетельство слепой и враждебной силы над человеком, неродственности и вражды между людьми. Вот почему преодоление смерти, воскрешение умерших, достижение бессмертия живущими Федоров считал «общим делом» человечества.
Вот почему преодоление смерти, воскрешение умерших, достижение бессмертия живущими Федоров считал «общим делом» человечества.
Будучи религиозным мыслителем, Федоров полагал, что реализация этого проекта («общего дела») приведет к преображению вселенной в Царство Божие (во исполнение благой вести христианства), ознаменует начало нового хода космического процесса. В результате восторжествует нравственный миропорядок, который властно подчинит природный и вытеснит мировое зло. Федоров – утопист, мечтатель, однако в своей философии «Общего дела» он вскрыл противоречия культуры и цивилизации, природы и технического прогресса. Технический прогресс, не освященный нравственным и духовным преображением человечества, приведет земную цивилизацию в тупик, к еще большему злу. Неслучайно многие идеи Федорова нашли отклик уже в современной философии.
У мыслителей естественнонаучной ориентации Космос, или Универсум – это природа в широком смысле этого слова. Земля как планета, а с ней и человечество встроены в универсальный естественный порядок вещей, подчиняются универсальным природным законам. Главную причину несовершенства в земном миропорядке представители этой линии усматривали в том, что человек еще недостаточно постиг универсальные закономерности.
Это незнание и непонимание лежит в основе нерационального вмешательства человека и общества в природную среду. Это вмешательство нарушает баланс между природой и человеком. Дисгармония человека и Универсума приведет к глобальной экологической катастрофе, которая, в свою очередь, повлечет гибель человечества. «Космисты» полагали, что только рост научного знания, интеллектуальное просвещение людей, изучение законов биосферы и всей Вселенной позволят человечеству справиться с этой ситуацией.
В полной мере эти воззрения проявились в учении Н.И. Вернадского о «ноосфере». Ноосфера – это сфера разума. Вернадский понимает под ноосферой такую стадию развития биосферы, в которой разумная деятельность человека приобретает планетарные масштабы. Однако и сама эта деятельность, чтобы не нанести вред биосфере, должна подчиняться высшим нравственным принципам. Человек не только разумное, но и духовное существо (нравственное).
Вот почему он несет ответственность за все свои деяния. Ноосфера – это такое взаимодействие природы и общества, природы и человека, в котором на основе разума, в целом духовной жизни человечества, достигается оптимальное взаимодействие, их совместное развитие. Человечество должно понять, что оно часть Вселенной, что Универсум – общий дом как для людей, так и для разумных существ иных галактик. Таким образом, естественнонаучная линия космизма в преобразовании Космоса и человека как микрокосмоса возлагала надежды на интеллект, на знание, на синтез наук, т.е. в конечном счете, на разум.
Напротив, представители религиозной линии космизма ответственность за возможную катастрофу возлагали на разум, в то время как ученые-космисты считали его лекарством от всех бед. Вот почему будущее человечества религиозно настроенные мыслители видели в преображении мира через преображение самого человека. Преображение – это духовный, богочеловеческий путь. Активность человека должна быть направлена на самого себя, на усовершенствование своей природы, т.е. нацелена на духовно-нравственное преображение человека, а потом уже на весь мир и Космос в целом. Только одухотворение человека спасет мир.
При всем различии этих позиций у них есть общее – обеспокоенность за судьбы мира и человечества.
В этот период не без влияния идей Достоевского складывается экзистенциалистское направление в русской мысли, наиболее видными представителями которого, были Н.А. Бердяев и Л. Шестов (1866-1938).
Остановимся на взглядах Н.А. Бердяева (1874-1948) – самого известного, популярного и знаменитого русского философа. Бердяеву присущ афористический, мистико-интуитивный стиль мышления. Этот русский мыслитель прошел довольно сложный творческий путь, написал много серьезных произведений. На протяжении всего этого пути Бердяева занимала и беспокоила одна проблема – проблема человеческого бытия, смысла жизни человека, судьба и предназначение человека в мире. Об этом свидетельствуют названия его работ: «О смысле творчества», «О назначении человека», «О рабстве и свободе человека», «Философия свободного духа», «Самопознание» и др. Человек по Бердяеву, прежде всего духовное существо, наделенное свободой и творчеством.
Однако свободу Бердяев рассматривает онтологически, как основу бытия, предшествующую даже Богу. Свобода – это, прежде всего, свобода духа. Благодаря свободе человек возвышается над миром и обнаруживает в себе высшее, божественное начало. Бог, сотворив человека по своему образу и подобию, наделил его свободой. Но человек отпал от Бога и в результате эту свободу утратил. Весь последующий путь человека и человечества – это путь обретения свободы. В то же время, человек в своем существовании сталкивается с трудноразрешимой проблемой. С одной стороны, человек жаждет свободы, видя в ней смысл своей жизни и предназначение.
Однако свобода накладывает на любого человека ответственность за сделанный выбор, за принятое решение не только перед самим собой и другими людьми, но, в первую очередь, перед Богом. Такая ответственность – тяжкое бремя, которое не всякий отважится взять на себя. Поэтому на деле человек выбирает несвободу, перекладывая ответственность за происходящее на кого угодно – государство, партию, вождя, политического деятеля в обмен на спокойствие, материальные блага и т.д. Вместе с тем, Бердяев хочет доказать, что, несмотря на страх свободы, человек рано или поздно приходит к осознанию ее необходимости, ибо перед ним, перед его мысленным взором стоит пример Иисуса Христа, даровавшему человечеству пример свободного Богочеловека. Смысл всей человеческой истории состоит в трудном и противоречивом движении человечества к Богу и к свободе в лице Бога.
Бердяев не только экзистенциально мыслящий философ, но и персоналист. Для него человек – прежде всего, личность (персона – отсюда персонализм). Бытие человека как личности невозможно постигнуть рациональным путем, поскольку личность – это целостность, и бытие личности также целостно. Целостность может быть схвачена, открыта, обнаружена только в живом внутреннем (персоналистическом) опыте или интуитивно. Это значит, что мы не можем себя как личностей разложить на какие-то части и стороны, свести к чему-то одному, например к разуму. Стержнем человека как личности является духовная жизнь. Дух, свобода, Бог, любовь, творчество – вот что определяет человека как личность. Не социальное или природно-душевное начало в человеке свидетельствует о наличии в нем личностного начала, а то, что он образ и подобие Бога.
Человек не только верит в Бога, открывает его в познании и устремляется к нему, но и чувствует его, аффективно «сопереживает» Богу, как и он нам. В этом внутреннем опыте присутствия в себе высшего божественного начала человек обнаруживает подлинность бытия и смысл жизни. Личность у Бердяева не только самоценна, но и первична. Это означает, что вся жизнь, все формы бытия и познания должны быть осмыслены только как моменты человеческого духа, как моменты индивидуальной духовной «истории» личности. «Весь природный и исторический мир, – пишет Бердяев, – вбирается внутрь, в глубину духа и там получает иной смысл и иное значение. Все внешнее есть лишь знак внутреннего». Для Бердяева личность является как бы центром мироздания. Но в то же время эта конкретная личность соотносится с высшей Божественной Личностью.
Дух противопоставляется у Бердяева природе. Дух – это свобода, жизнь, творчество. Природа же – это необходимость, вещественность, инертность. Бердяев объявляет духовный мир и духовную жизнь подлинными, а мир природы, вещественный мир считает неподлинным, ненастоящим. Человек должен направить все свои усилия на преодоление в себе укорененности в природном мире с тем, чтобы жить в духе, стать подлинно свободным, реализовать свои творческие возможности. Царство Духа – грядущее состояние, к которому должен стремиться человек и человечество.
Во многом идеи Бердяева созвучны западноевропейскому экзистенциализму и персонализму, хотя и существенно отличаются от них, поскольку Бердяев опирается все же на традицию русского философствования.
Естественное развитие русской философии трагически оборвалось после революции 1917 г. С высылкой за границу в 1922 г. группы наиболее известных мыслителей русская религиозная философия как уникальное явление в истории мировой философии прекратила свое существование в России. Те мыслители, например П. Флоренский, которые по разным причинам остались, впоследствии были репрессированы, а в самой России уже не было условий для свободного развития философской мысли.
В Советском Союзе философия превратилась в служанку идеологии. Время от времени на свободомыслящих людей, в том числе и на неофициальную философию, обрушивались репрессии. И хотя в советскую эпоху в России продолжали работать выдающиеся философы – М. Бахтин, А. Лосев, Э. Ильенков, М. Мамардашвили, – традиция, определявшая самые значительные достижения русской философии, была прервана. Только в настоящее время происходит возвращение к этой традиции.
Следует отметить, что возвращение к достижениям русской философской мысли представляет не только историко-философский интерес. Дальнейшая разработка учения о Всеединстве позволит внести существенный вклад в решение многих онтологических проблем, которые волнуют современную философию. Учение о человеке, смысле его жизни и предназначении представляет интерес для современной антропологии. Все это позволяет надеяться, что через какое-то время Россия займет в мировой философии принадлежащее ей по праву место.
Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский: два взгляда на религиозную истину.
Профессор Чернышев В.М.
Вопрос взаимоотношения светского и духовного образования сейчас хотелось бы осветить сквозь призму творчества и феномена религиозной веры двух выдающихся представителей русской классической литературы: писателей Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого, которому исполнилось в прошлом году 185 лет со дня рождения. Поскольку изучение литературы входит в обязательную программу обучения средних школ, то очень важно, в каком ракурсе доносится та или иная тема. Ведь несомненно, что художественное наследие и религиозно-философское мировоззрение этих двух авторов оказали в свое время и продолжают оказывать сейчас значительное влияние на духовное формирование личности. Толстой и Достоевский были современниками, живущими в одной стране. Они знали друг о друге, но так и не встретились. Однако оба, каждый по-своему, всю жизнь занимались поисками истины. Религиозные искания Толстого привели к тому, что он, по меткому замечанию обер-прокурора Священного Синода К.Победоносцева, стал «фанатиком своего же собственного учения», создателем очередной лжехристианской ереси. Произведения же Ф.М.Достоевского помогают до сих пор постигать главные тайны бытия Божия и человека. Мне по жизни встречалось немало людей, которые не любят читать Достоевского.
Это и понятно: слишком много неприкрытой, откровенной, порой довольно тягостной правды о человеке открывается нам в его романах. И эта правда не просто впечатляет, она заставляет глубоко задуматься над самым важным вопросом, который каждый из нас должен решить для себя положительно или отрицательно. «Главный вопрос, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие…», — напишет Достоевский, будучи зрелым человеком. Может показаться странным, но в последний месяц перед своей смертью, по воспоминаниям очевидцев, гений мировой литературы Л.Толстой перечитывал «Братьев Карамазовых» Достоевского. Не ответа ли искал классик в произведениях другого? Толстой сожалел, что так и не смог познакомиться с Достоевским, потому что считал его едва ли не единственным серьезным автором в русской литературе, с которым бы очень хотел поговорить о вере и о Боге. Не особо ценя Федора Михайловича как писателя, Лев Толстой видел в нем религиозного мыслителя, способного существенно воздействовать через свои произведения на ум и душу человека. Дочь Достоевского в своих воспоминаниях приводит рассказ тогдашнего Петербургского митрополита, пожелавшего присутствовать на чтении Псалтири по усопшему писателю в церкви Святого Духа Алесандро-Невской лавры. Проведя часть ночи в храме, митрополит наблюдал за студентами, которые, стоя на коленях, все время по очереди читали псалмы у гроба покойного Достоевского: «Никогда я не слышал подобного чтения псалмов!» — вспоминает он.
«Студенты читали их дрожащим от волнения голосом, вкладывая душу в каждое произносимое слово. Какой же магической силой обладал Достоевский, чтобы так вновь обратить их к Богу?». Исследовательница творчества Достоевского Татьяна Касаткина пишет, что «…по свидетельству многих православных священников, в 70-е годы XX века, когда в России росло уже третье поколение атеистов, и внуков воспитывали бабушки – бывшие комсомолки, и, казалось, молодежь окончательно потеряна для Церкви, вдруг молодые люди во множестве стали креститься и воцерковляться. Когда священники спрашивали их: «Что привело вас в церковь?» — многие отвечали: «Читал Достоевского». Именно поэтому в советское время литературные критики не жаловали автора «Братьев Карамазовых» и его произведения не очень охотно включали в школьную программу. А если включали, то акцент больше делался на бунтарских поползновениях Раскольникова и Ивана Карамазова, а не на христианских достоинствах старца Зосимы. Отчего же так получается, что произведения одного ведут людей к Богу, а другого – уводят от Него.
Творческие доминанты Толстого и Достоевского совершенно различны. Оттого различен и результат. Религиозно-философский подход Толстого рационален, Достоевского – иррационален. Автор «Войны и мира» всю жизнь прожил горделивым желанием все объяснить по-своему; автор «Братьев Карамазовых» — жаждой веры. Еще в 1855 году, в возрасте 26 лет, Лев Толстой запишет в своем дневнике: «Разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Оттого один увидел во Христе лишь идеолога и учителя, а другой Истину: «…если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Это философское кредо Достоевского нашло свое подтверждение и разработку в его литературных произведениях. Толстовская рациональная «религия без веры» нашла свое развитие в идеологии теософии и современного движения Нью Эйдж, где все в основном строится на пантеистическом монизме. Достоевского всегда привлекала искренняя вера во Христа, которую он видел среди простого русского народа. Толстой же считал, что народ не понимает Евангелия и христианства так, как надо. Кстати, такой подход Толстого весьма пророчески изображен во многих эпизодах некоторых романов Достоевского.
Всем известный герой Алеша Карамазов передает Коле Красоткину мнение одного немца, жившего в России: «Покажите русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до сих пор не имел понятия, и он завтра же возвратит всю эту карту исправленной». «Никаких знаний и беззаветное самомнение – вот что хотел сказать немец про русского школьника», — говорит Алеша. На фоне такого «пересмотра мироздания» самоуверенный автор «Исследования догматического богословия» Лев Толстой выглядит действительно школьником. В 1860 году Толстому придет в голову мысль написать «материалистическое Евангелие» (отдаленный прообраз кодекса строителя коммунизма). Много лет спустя он воплотит свое намерение, создав свой перевод Нового Завета, который, однако же, не произведет впечатления даже на последователей толстовской ереси. Не нашлось желающих вникать в материалистические бредни великого гения. Другой герой романа Достоевского «Бесы» — безбожник Степан Верховенский, который подобно Льву Толстому, ради «великой идеи», оставив комфортную жизнь, пустится в свое последнее странствование, тоже одержимый мыслью «изложить народу свое Евангелие». Ответ на вопрос, чем может закончиться пересмотр евангельских истин и христианских ценностей, опять таки можно найти в произведениях Достоевского. Его интересует не столько жизнь в ее чувственно-осязаемых проявлениях (хотя отчасти и это тоже), сколько метафизика жизни. Здесь писатель не стремится к внешнему правдоподобию: для него важнее «последняя правда».
Идея «если нет Бога, то все позволено» — не нова в романах Достоевского, не мыслящего себе нравственности вне Христа, вне религиозного сознания. Однако один из героев романа «Бесы» в этой идее идет до логического конца, утверждая то, на что не осмеливался ни один из последовательных атеистов: «Если Бога нет, то я сам бог!». Используя евангельскую символику, герой романа Кириллов совершает как будто всего лишь формальную перестановку частей слова, но в ней заключена сердцевина его идеи: «Он придет, и имя ему Человекобог».
Писание говорит нам о Богочеловеке – Иисусе Христе. И мы в Нем обоживаемся по мере нашей верности и следования Ему. Но здесь не вечный Бог обретает человеческую плоть, а, наоборот, отвергнув Христа, «старого ложного Бога», который есть «боль страха смерти», богом всемогущим и абсолютно свободным становится сам человек. Именно тогда все узнают, что «они хороши», потому что свободны, а когда все станут счастливы, то мир будет «завершен», и «времени больше не будет», и человек переродится даже физически: «Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый игордый». А ведь создание не только нового человека, но и целой новой, избранной расы со сверхспособностями является одной из главных задач современных оккультных и околооккультных учений (достаточно вспомнить гитлеровскую организацию «Ананэрбе» с ее попытками проникнуть в Шамбалу для получения сакральных знаний и сверхразрушительного оружия).
Следует отметить, что эта идея Кириллова (одного из героев романа «Бесы») оказалась одной из самых привлекательных и плодотворных для развития философской литературы и философской мысли конца XIX – начала XX века. По-своему использовал ее и Ф.Ницше, на ней же во многом основывал свой вариант экзистенциализма писатель А.Камю, и даже в раннем творчестве М.Горького, бескомпромиссного идейного противника Достоевского, отчетливо просматриваются программные кирилловские идеи о новом, свободном, счастливом и гордом Человеке (особенно симптоматично совпадение эпитетов «новый человек», «счастливый и гордый человек» у Кириллова, и: «человек – это звучит гордо» у М.Горького). Чтобы последнее сопоставление не выглядело надуманным, следует привести еще отзыв В.Г.Короленко о поэме Горького «Человек»: «Человек господина Горького, насколько можно разглядеть его черты, есть именно ницшенианский «сверхчеловек»; вот он идет «свободный, гордый, далеко впереди людей…он выше жизни…».
Не случайно роман носит название «Бесы». Все эти Верховенские, Кирилловы, Шигалевы (герои романа) пытаются «устроить» людям будущее счастье, причем никто не спрашивает самих людей, а нужно ли им это самое «счастье»? Ведь, действительно, люди это только «материал», «тварь дрожащая», а они «право имеют». Здесь к месту вспомнить лозунг, прибитый к воротам ГУЛАГа: «Загоним железным кулаком диктатуры пролетариата человечество в счастье».
Устами одного из своих отрицательных героев Достоевский говорит: «…Меня Бог всю жизнь мучил». Этот мучительный вопрос «бытия или небытия Бога» очевиден для многих, ибо если Его нет, то «человеку все будет позволено». И вот бесы входят в русский народ. Пророчество писателя прозвучало задолго до 1917-го. Трагизмом веяло от этого пророчества. Ведь зло в любой его форме – это жизнь в пустоте, это имитация жизни, подделка под нее. Это как свернутая вокруг пустоты стружка. Ведь зло не бытийно, оно не имеет реальной природы, это лишь обратная сторона правды и истины. Дьявол может быть только имитатором жизни, любви и счастья. Ведь подлинное счастье это со-частие, совпадение частей: моей части и Божией части; только тогда человек по-настоящему бывает счастлив. Именно в словах молитвы содержится тайна такого со-частия: «Да будет воля Твоя».
Тайна ложного счастья содержится в гордом: «Не Твоя воля, но моя да будет». Поэтому дьявол может быть только имитатором жизни, ибо зло – это парадоксальное существование в несуществующем, в том, что в еврейской традиции носит название «малхут». Зло поэтому возникает по мере нашего удаления от Бога. Как уход в тень не дает уже избытка света и тепла, а уход в подвал и вовсе этот свет скрывает от нас – так удаление от Творца умножает в нас грех, и одновременно заставляет нас жаждать подлинной правды и света.
Лицо Ставрогина, центрального героя «Бесов», не только напоминало маску, но, в сущности, оно и было маской. Здесь точно подобранное слово будет «личинность». Самого Ставрогина нет, ибо им владеет дух небытия, и он сам знает, что его нет, а отсюда вся его мука, вся странность его поведения, эти неожиданности и эксцентричность, которыми он хочет как будто самого себя разубедить в своем небытии, а равно та гибель, которую он неизбежно и неотвратимо приносит существам, с ним связанным. В нем живет «легион». Как возможно такое изнасилование свободного человеческого духа, образа и подобия Божия; что такое эта одержимость, эта черная благодать бесноватости? Не соприкасается ли этот вопрос с другим вопросом, именно о том, как действует исцеляющая, спасающая, перерождающая и освобождающая благодать Божия; как возможно искупление и спасение? И здесь мы подошли к самой глубокой тайне в отношениях между Богом и человеком: сатана, который есть обезьяна Бога, плагиатор и вор, сеет свою черную благодать, связывая и парализуя человеческую личность, которую освобождает только Христос. «И пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, и сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме» (Лук . 8:35).
Лев Толстой тоже всю жизнь «мучился Богом», подобно героям Достоевского. Но Христос как Бог и Спаситель так и не родился в его сердце. Один западный богослов сказал замечательные слова по этому поводу: «Христос мог родиться сколь угодно много раз в любой точке нашей планеты. Но если Он однажды не родится в твоем сердце – то ты погиб». Вот эта гордыня человеческая – стать богом помимо Бога, есть подмена обожения человекобожием. «Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его; ибо начало греха – гордость» (Сир. 10:14). В сущности, гордость есть стремление, сознательное или бессознательное, стать богом помимо Бога, проявив себялюбие.
Святитель Тихон Задонский пишет: «Какое в скоте и звере замечаем злонравие, такое есть и в человеке, невозрожденном и необновленном благодатью Божьей. В скоте видим самолюбие: он хочет пищу пожирать, жадно хватает ее и пожирает, прочий скот не допускает и отгоняет прочь; то же есть и в человеке. Сам обиды не терпит, но прочих обижает; сам презрения не терпит, но прочих презирает; сам о себе клеветы слышать не хочет, но на других клевещет; не хочет, чтобы имение его было похищено, но сам чужое похищает… Словом, хочет сам во всяком благополучии быть и злополучия избегает, но другими, подобно себе, пренебрегает. Это есть скотское и мерзкое самолюбие!».
Вторит ему другой святитель Дмитрий Ростовский: «Не хвались сам и хвалы от других не принимай с удовольствием, чтобы не принять здесь воздаяния за свои благие дела похвалой человеческой. Как говорит пророк Исайя: «Вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили». Ибо от похвалы рождается самолюбие; от самолюбия же – гордыня и надменность, а затем отлучение от Бога. Лучше ничего не сделать славного в мире, нежели сделав, безмерно величаться. Ибо фарисей, сделавший славное и похваляющийся – от возношения погиб; мытарь же, ничего благого не сделавший, смиренно спасся. Одному благие дела его от похвалы стали ямой, другой же смирением извлечен был из ямы; ибо сказано, что мытарь «пошел оправданным в дом свой…» (Лк. 18:14)».
Безблагодатный гуманизм Толстого (то бишь, религия очищенная от веры в Бога) закладывает, по наблюдению Достоевского, основы неизбежной порочности человека и общества, поскольку критерий истины переносится из сакральной сферы в область человеческого своеволия. Поэтому никакого единства Истины, как и нравственного единства, быть при господстве таковой системы не может. «А без веры Богу угодить нельзя; поэтому всякий приходящий к Богу должен веровать, что Он существует, и ищущим Его воздает».
Достоевский поэтому отказывается от подобного абстрактного гуманизма и пишет: «Русский народ весь в Православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет – да и не надо, потому что Православие — все. Православие есть Церковь, а Церковь – увенчание здания и уже навеки… Кто не понимает Православия – тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того: тот не может и любить русского народа, а будет любить его лишь таким, каким бы желал его видеть».
В отличие от метаний Толстого, именно любовь ко Христу дала Достоевскому осознать и ощутить, что полнота Христовой истины сопряжена единственно с Православием. Это есть славянофильская идея: всех соединить в Истине может только тот, кто владеет ее полнотой. Поэтому славянская идея, по Достоевскому, это: «Великая идея Христа, выше нет. Встретимся с Европой во Христе». Сам Спаситель сказал: «Вы – свет миру; вы – соль земли. Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленою…» Такой все осоляющей солью в записи мыслей Достоевского является именно идея Православия. Он пишет: «Наше назначение быть другом народов. Служить им, тем самым мы наиболее русские… Несем Православие Европе».
(Достаточно вспомнить вклад русской эмиграции в дело православной миссии, которое связано с именами прот.Иоанна Мейендорфа, Георгия Флоровского, Сергия Булгакова, Василия Зеньковского, Владимира Лосского, И.Ильина, Н.Бердяева и т.д.).
Заканчивает свой дневник писатель так: «Славянофилы ведут к истинной свободе, примиряя. Всечеловечность русская – вот наша идея». И сущность свободы – не бунт против Бога, ведь первым революционером был дьявол, восставший против Бога; подобным же образом протест против монаршего мироустрой ства поднял и Толстой, став в одночасье «зеркалом русской революции». Тогда как о Достоевском следует заметить, что Евангелие открыло ему тайну человека, открыло, что человек не обезьяна и не святой ангел, но образ Божий, который по своей изначальной богозданной природе добр, чист и прекрасен, однако в силу греха глубоко исказился, и земля сердца его стала произращать «тернии и волчцы». Поэтому-то состояние человека, которое называется теперь естественным, в действительности – больное, искаженное, в нем одновременно присутствуют и перемешаны между собой семена добра и плевелы зла. Не случайно все творчество Достоевского – о страдании. Все его творчество – теодицея: оправдание Бога перед лицом зла. Именно страдания выжигают плевелы зла в человеке: «Большими скорбями надлежит войти в Царствие Небесное»; «Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие пойдут ими… Стремитесь войти тесными вратами – ибо тесные врата и узок путь ведут в жизнь вечную» — свидетельствует Писание.
Безбожное стремление к счастью есть несчастье и гибель души. Ведь подлинное счастье – это стремление научиться делать счастливыми других: «Мы ничего не имеем, но всех обогащаем» — утверждает апостол. А ты говоришь, что «…богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и наг, и нищ, и слеп…» (Откр. 3:17).
Страдание, через которое изживается грех, очищает душу и дает истинное счастье ее обладателю. Следует помнить, что временное земное счастье, если оно не прорастает в вечность, не может удовлетворить человека. Парадокс в том, что критерии счастья духовного приобретаются самоограничением земных удовольствий и радостей.
Не путем ниспровержения государственных устоев и институций ищет Достоевский новых «горизонтов истины» в жизни человечества, а повествованием одного из характерных эпизодов в романе «Преступление и наказание» — этот эпизод есть смысловой и энергетический узел всего творчества писателя. Там, где Соня Мармеладова читает Раскольникову, по его требованию, евангельский эпизод воскрешения Лазаря – это дает мощный очищающий разряд душе человека. Без веры невозможно воскресение,ведь Сам Спаситель сказал о том, что услышал Раскольников в чтении Сони: «Я есть воскресение и жизнь; верующий в Меня если и умрет, оживет…» (Ин. 11:25). Воскрешение Лазаря есть величайшее чудо, совершенное Спасителем в Его земной жизни. И такое чудо возможно было лишь Богу, а не человеку. Неверие в достоверность этого события – есть неверие во всемогущество Бога.
Убийство старухи обернулось самоубийством Раскольникова, как он и сам о том говорит: «Я не старушонку убил – я себя убил». Разрешение себе крови по совести – вот роковой рубеж выбора. Все остальное – лишь следствие. Ибо внутренняя готовность к греху –уже есть грех. Грех всегда начинается с прилога, который по сути и есть отправная точка греха. То есть, прилог всегда источник недуга, а деяние – это лишь следствие. Святитель Тихон Задонский писал: «Сатана нас в тщеславие ввергает, чтобы мы своей, а не Божьей славы искали». Поэтому во все времена звучит, не умолкая: «Будете как боги…» Утвердить свою самость – вот жажда неутолимая, и эта жажда никогда не может быть утолена в безбожном пространстве гуманизма (в чем так ошибался Толстой!). Лазарь не может воскреснуть сам; человек не может одолеть своего бессилия: «Без Меня не можете творить ничего» (Ин. 15:5).
Не толстовское создание «своей религии», свободной от веры, авоцерковление всего человечества – вот главная идея Достоевского. Однако есть сила, препятствующая этому – католицизм, который зиждется на трех слагаемых: чуде, тайне и авторитете. Католическийпапоцезаризм – это попытка церкви опереться на государственный меч, где приоритетными становятся политические идеи и мирские пристрастия. Православный святитель Феофан Затворник по этому поводу сказал так: «Чем больше пристрастий, тем меньше круг свободы». Прельщаясь, человек мечтает о себе будто бы наслаждается полной свободой. Узы этого пленника – это пристрастие к лицам, вещам, идеям недуховным, с которыми больно расстаться. Но подлинная свобода неразлучна с истиной, поскольку последняя освобождает от греха: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32).
У коммунистических идеологов, приход которых по сути и санкционировал Толстой, понятие свободы коренится не слове Евангелия, а в повествовании о грехопадении человека (роман «Бесы»), который срывает плоды с запретного дерева, чтобы «самому стать Богом». Свободе как послушанию Божьей воле гордец противопоставляет свободу революционного почина (безбожный Интернационал). Борьба этих двух свобод представляет собой основную проблему всего человечества: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца человеческие» (Достоевский).
Писатель через без-образие революционных идей стремится прозреть горнюю Истину, которая спасет мир. Осмысление Красоты и самой идеи спасения мира Красотою невозможно вне раскрытия природы этой Красоты. Русский философ Николай Бердяев писал: «Через всю жизнь свою Достоевский пронес исключительное, единственное чувство Христа, какую-то иступленную любовь к Его Лику. Во имя Христа, из бесконечной любви к Христу порвал Достоевский с тем гуманистическим миром, пророком которого был Белинский. Вера Достоевского во Христа прошла через горнило сомнений и закалена в огне».
«Красота спасет мир» — эти слова принадлежат Ф.М.Достоевскому.
Позже поэт Бальмонт напишет: Одна есть в мире Красота,
Любви, печали, отреченья,
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.
Наоборот, Л.Толстой пришел к отрицанию Божественной природы Христа-Спасителя. Он изначально отвергает веру и тайну Воскресения Его как основу своей новой придуманной им религии – поэтому он и низводит упование на грядущее блаженство с неба на землю. Его вера прагматична – устроение Царства свободы здесь на земле, «по справедливости». Идея бессмертия в этом случае не нужна, ибо для писателя бессмертие – это мы в поколениях. Заповеди не несут теперь никакого сакрального значения, ведь Сам Христос лишь человек-философ, «удачно сформулировавший свои мысли», чем и обьясняется Его успех. Толстовство, по сути, это устроение своими лишь усилиями земного царства на рациональной основе. Но поврежденная грехом природа человека не приведет к гармонии все человечество, это теперь аксиома, не требующая доказательств: «Если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму» — говорит Писание. Коммунисты прельстили русский народ и увели его в эту самую «яму». Будучи сами рабами греха, они решили «осчастливить» человечество своими бредовыми идеями – вся эта бесовская рать во главе с лениными, свердловыми, дзержинскими и прочим сбродом ввергла человечество в кровавый хаос, а не вывела на дорогу свободы и любви. Сколько материнских слез и проклятий легло на этих извергов, и Небо, очевидно, услышало эти слезы. Так и висит непохороненный мавзолейный труп между небом и землей как кара Божия в укор всем племенам, народам и языкам…Да и сам идеолог «Царства Божия на земле» Толстой, умер без напутствия и отпевания, постылой смертью, захороненный даже не на кладбище, а в роще, без креста на могиле. Воистину, Бог поругаем не бывает!
Негодование Толстого против цивилизации выразилось в том, что он призвал к «опрощению жизни» — стал носить лапти, косоворотку, встал за плуг, отказался от мяса. Так развлекался барин от жиров многих в фамильном имении своем… Чего же не поюродствовать и не поиграть в толстовство при немалом имении, крепостных крестьянах, многочисленных домочадцах, при верной супруге Софье Андреевной, от которой он имел тринадцать детей; призывал к уничтожению всех государственных институций, но при этом пользовался всеми благами, которые эти самые институции ему предоставляли…
Если Достоевский мыслил счастье в сотериологическом аспекте (сотериология – учение о спасении), то Толстой абсолютизирует эвдемоническое восприятие мира (эвдемонизм рассматривает смысл жизни как благо. Но вот в чем оно?). Безусловно, как художник Толстой талантлив. Но как религиозному мыслителю ему мешает гордыня человеческая.
В «Критике догматического богословия» он отвергает догмат о Святой Троице. Камнем преткновения для писателя стал и вопрос о свободе человека. Он признал ее невозможной в системе православного вероучения. Первое, что препятствует, по его мнению, свободе человека, это Промысл Божий. Он пишет: «Богословы сами завязали себе узел, которого нельзя распутать. Всемогущий, благой Бог, Творец и Промыслитель о человеке, — и несчастный, злой и свободный человек — два понятия, исключающие друг друга». Если взглянуть поверхностно – писатель прав: если действует свобода воли человека, то Промыслу места нет. И наоборот, если Промысл доминирует, ему надо лишь подчиняться. Где же тогда свобода?
Бог дает нам право свободного выбора, а мы выбираем. Знаком нашего выбора становится молитва. В молитве мы выражаем наше согласие на соработничество с Богом в деле нашего спасения, и выражаем свою веру в то, что все посылаемое Им есть благо для нас: «Да будет воля Твоя…». Таким образом, молитва человека и участие его в Таинствах –есть знак свободного приятия Благодати Божией, знак соработничества с Богом в осуществлении Таинств. Здесь верующий человек как бы говорит: «Господи, я знаю, что Ты можешь осуществить это по Своей воле независимо от меня, но хочешь, чтобы я пожелал и принял действие Твоей воли, поэтому я прошу – да будет воля Твоя. Если же человек не молится, не участвует в Таинствах, то этим выражает свое нежелание Благодати. И Бог не совершает Таинства против воли человека. Поэтому тут никаких противоречий нет.
Потребность всеобщего блага у писателя неразрывно сопряжены в нем с деспотической гордыней рассудка и гордыней добродетели вне Бога. Стремясь к единению в любви, Толстой вопреки своей воле и намерению, прокладывал идеей «безблагодатной святости» путь большевизму, который увидел в писателе своего союзника, назвав его «зеркалом русской революции». Эта раздвоенность сознания «безбожной гармонии человечества» отозвалась в глубине его бытия тягой к небытию. Уход в «ничто» — вот, по сути, толстовское понимание спасения. (Как и большевизм «ушел в ничто», в небытие, отвергнув «живой, драгоценный и краеугольный камень», который есть Сам Христос). «Уход» Толстого из Ясной Поляны, его метания в последние дни жизни, конвульсивные попытки примириться с Церковью, таят в себе провиденциальный смысл. В них дан урок всему миру: отрицание Воскресения неизбежно порождает жажду небытия.
Проблема оснований человеческой природы и нравственной личности в философии И. Канта и русской философии второй половины XI…
%PDF-1.4 % 1 0 obj \004A\004>\004\ D\0048\004O\000,\000 \004@\004C\004A\004A\004:\0040\004O\000 \004D\0048\004\ ;\004>\004A\004>\004D\0048\004O\000,\000 \004;\0048\004G\004=\004>\004A\004\ B\0048\000,\000 \004A\004>\004F\0048\0040\004;\004L\004=\004>\004A\004B\004\ L\000,\000 \004=\004@\0040\0042\004A\004B\0042\0045\004=\004=\004>\004A\004\ B\004L\000,\000 \004:\0040\004B\0045\0043\004>\004@\0048\004G\0045\004A\004\ :\0048\0049\000 \0048\000 \004?\004@\0040\004:\004B\0048\004G\0045\004A\004\ :\0048\0049\000 \0048\004\0041\004;\0045\004\004A\004=\004\ >\0042\0040\004=\0048\0049\000 \004G\0045\004;\004>\0042\0045\004G\0045\004\ A\004:\004>\0049\000 \004?\004@\0048\004@\004>\0044\004K\000 \0048\000 \004\ =\004@\0040\0042\004A\004B\0042\0045\004=\004=\004>\0049\000 \004;\0048\004\ G\004=\004>\004A\004B\0048\000 \0042\000 \004D\0048\004;\004>\004A\004>\004\ D\0048\0048\000 \004\030\000.\000 \004\032\0040\004=\004B\0040\000 \0048\ \000 \004@\004C\004A\004A\004:\004>\0049\000 \004D\0048\004;\004>\004A\004\ >\004D\0048\0048\000 \0042\004B\004>\004@\004>\0049\000 \004?\004>\004;\004\ >\0042\0048\004=\004K\000 \000X\000I\000.\000.\000.) /CreationDate (D:20100531162201+04’00’) >> endobj 2 0 obj > stream Проблема оснований человеческой природы и нравственной личности в философии И. Канта и русской философии второй половины XI…немецкая критическая философия, русская философия, личности, социальность, нравственность, категорический и практический им…
Использование Толстого и Достоевского для обучения этике в XXI веке
Ани Кокобобо, Канзасский университет
Эта статья была первоначально опубликована в выпуске NewsNet за июнь 2016 г.
Следуя общей тенденции в высшем образовании, начиная с осени 2013 года Канзасский университет представил ряд основных образовательных целей, направленных на пересмотр нашей учебной программы бакалавриата. ( 1) Из двенадцати курсов в образовании студента основные цели сводят знания в практическую плоскость для поколения студентов, не желающих подписаться на занятия, которые не превращаются в рыночные навыки.В качестве домашней страницы Core говорится, что студенты, как ожидается, приобретут «фундаментальные навыки», разовьют «обширные знания», осознают «глобальное разнообразие» и будут развивать «этическую целостность». ( 2 ) В то время, когда наше славянское отделение борется с более тщательной проверкой числа зачисленных, предложение курсов, отвечающих этим требованиям, стало важным для привлечения студентов в наши классы. Предлагая семь или восемь различных языков, наш отдел вносит свой вклад в «глобальное разнообразие».Но как человек, преподающий Толстого и Достоевского, я считаю, что мы также можем доказать, что русская литература с ее далеко идущими мессианскими и духовными амбициями также может способствовать укреплению «этической целостности». В конце концов, один из самых страстных философов двадцатого века Эммануэль Левинас утверждал, что начал свою философскую карьеру с русских классиков. Как он выразился в интервью, «философская проблема, понимаемая [в русской литературе] как смысл человека, как поиск знаменитого« смысла жизни »», является неоценимой подготовкой к изучению философии.( 3 )
Существенные этические вопросы возникают при чтении таких работ, как Достоевского Преступление и наказание , где мы видим практически все распространенные этические теории, такие как этический релятивизм, эгоизм, консеквенциализм, деонтология, этика добродетели и феминистская этика. Рассуждения Раскольникова об убийстве ростовщика часто включают этические точки зрения, такие как «утилитаризм» или «эгоизм», которые могут рационализировать убийство. С другой стороны, замысел Достоевского в романе — дискредитировать такой образ мышления; на самом деле, как недавно заметил один из моих студентов, можно сказать, что автор продвигает феминистскую этику заботы через любящие фигуры, представляющие этот этос, такие как Разумихин и Соня.Этическая значимость произведений Толстого или Достоевского, а также перспектива более активного набора студентов побудили меня создать курс, в котором я мог бы положиться на этих авторов в преподавании различных этических теорий. Работая с отделом развития гуманитарных грантов нашего университета ( 4 ), я подал заявку на грант на разработку курса NEH Enduring Questions ( 5 ) для поддержки предварительной работы. Программа NEH «Устойчивые вопросы» требует предложений по курсу, которые исследуют некоторые из следующих широких вопросов: «Что такое хорошее правительство?»; «Может ли война быть справедливой?»; «Что такое дружба?»; «Что такое зло ?; «Есть ли универсалии в природе человека?»; «Возможен ли мир?»; «Может ли жадность быть добром?»; «Я хранитель моего брата?» И другие подобные подсказки.
Недавно я узнал, что был удостоен этой конкретной награды NEH за предложение, посвященное теме: «Я хранитель моего брата?» Этот конкретный вопрос происходит из Книги Бытия, где Каин отрицает, что знал о местонахождении своего брата Авеля для Бога после того, как убил его. Как многие из вас знают, этот вопрос, часто задаваемый как форма протеста, также приобретает особое значение в русской традиции. Это неоднократно появляется в книге Федора Достоевского Братья Карамазовы , где и Иван Карамазов, и ублюдок Смердяков заявляют, что они не знают местонахождение своего брата Дмитрия, и отказываются быть его хранителями.Толстой косвенно вызывает аналогичные идеи в «Анна Каренина », где индивидуалистические поиски иногда закрывают глаза на моральную ответственность персонажей по отношению к другим. Например, увлекшись своим первым предложением руки и сердца Кити, Левин забывает о своем брате Николае в начале книги.
Для моих целей этот вопрос, имеющий глубокие корни в библейских и русских традициях, стал основой для курса об этическом значении сообщества. Чтобы спросить, является ли человек хранителем своего брата, возникает множество связанных вопросов, поддерживающих открытое исследование, таких как: каковы отношения и ответственность человека перед другими? Как мы определяем братство? Кто наши братья или сестры? Наши сограждане — наши моральные братья и сестры? Должны ли мы уважать их и проявлять вежливость? Каковы границы нашего сообщества? Следует ли нам стремиться к национальному или человеческому братству? Какого рода моральную ответственность мы несем по отношению к тому, кого мы в общих чертах воспринимаем как человеческого брата? Существуют ли разные уровни моральной ответственности в зависимости от разных определений сообщества? Наконец, в зависимости от того, где мы устанавливаем границы сообщества как такового, освобождаемся ли мы от моральной ответственности по отношению к тем, кто выпадает из непосредственных сообществ, членами которых мы считаем себя?
Далеко идущие последствия подсказки позволили мне предложить курс, который мог бы иметь глубокие корни в русской традиции, со значительными исследованиями этической философии и современным компонентом, который мог бы помочь сделать русские работы более актуальными для студентов.В русской культуре, отраженной в произведениях Толстого и Достоевского, общность часто понимается в емких и почти универсальных терминах — оба автора подчеркивают важность коллективной любви, или агапе , и всесторонней моральной ответственности. На самом базовом уровне в курсе представлены итерации сообщества, которые появляются в произведениях Толстого и Достоевского. Я включаю отрывки из более длинных произведений, таких как «Анна Каренина», «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», , а также более короткие рассказы, такие как «Севастопольские зарисовки », «Подумайте сами», «Евангелие вкратце» и Достоевский «Невероятный сон». Человек , «Крестьянин Марей» и фрагменты из Дневник писателя .Читая эти работы, мы будем обращать особое внимание на значительную моральную ответственность, которую, по мнению Толстого и Достоевского, члены сообщества должны нести друг перед другом, а также на проблемы, связанные с выполнением этих обязанностей.
Тексты Толстого и Достоевского будут рассматриваться не изолированно, а вместе с рядом философских сочинений, выбранных для того, чтобы помочь расширить и контекстуализировать взгляды на сообщество. Студенты прочитают репрезентативный образец хорошо известных теорий этического поведения, которые касаются этических последствий сообществ.Например, их познакомят с перспективами, которые противоречат тому значению, которое придается сообществу в произведениях Толстого и Достоевского. «Этический релятивизм», представленный в « Folkways » Уильяма Самнера или «Страх и трепет » Сорена Кьеркегора, и «эгоизм», отраженный в Макса Штирнера «Эго и его собственное » или Платона «Кольцо Гигов», уходят прочь. от обязательной общинной ответственности, проповедуемой в русской традиции. Чтение Толстого и Достоевского вместе с такими произведениями, как трактат об утилитаризме Джереми Бентама, «Фрагмент о правительстве» или деонтология Канта, которые представляют мораль и общность в рационалистических терминах, также может быть продуктивным занятием.В то же время, если сравнения Достоевского, Толстого и Бентама или Джона Стюарта Миллса окажутся весьма полемичными, мы можем увидеть большую интеллектуальную общность между русскими авторами и этикой добродетели Аристотеля в Никомаховой этике или книге Кэрол Гиллиган о феминистской этике. Другим голосом . Я надеюсь, что диалог между всеми этими мыслителями поможет студентам развить богатую и разнообразную этическую точку зрения на сообщество, а также уловить самобытность российской точки зрения.
В течение последнего месяца занятий учащиеся направят приобретенные этические инструменты на вопросы общинной и общинной этики в современной Америке, уделяя особое внимание тому, как раса формирует наши общины. С этой целью мы прочитаем W.E.B. Du Bois ’ Души черного народа , последняя книга Мартина Лютера Кинга-младшего Куда мы идем отсюда: хаос или сообщество? , Амитаи Этциони Дух сообщества: переосмысление американского Society и Роберт Патнэм Bowling Alone: Крах и возрождение американского сообщества .С этой точки зрения я надеюсь воспользоваться богатой историей гражданской войны в городе Лоуренс (Канзас) и его окрестностях. Я планирую посетить близлежащий исторический Лекомптон со студентами, где мы увидим такие места, как Холл, где была составлена знаменитая конституция Лекомптона 1857 года, в которой Канзас был принят в Союз как рабовладельческий штат.
Писатель и мистик Томас Мертон писал, что в лучшем случае этика — это не свод правил, по которым мы играем друг с другом в социальные игры, а, скорее, «этика сливается с искусством жизни и фактически становится образованием. человеческой любви.”( 7 ) Как граждане эпохи аватаров и сетей в социальных сетях, учащиеся также могут использовать чтения этого класса, чтобы понять, что составляет подлинное сообщество и моральную ответственность в их собственной жизни. Толстой и Достоевский, писавшие на пике модернизации России, исходили из перспективы изменения семейных и социальных привязанностей, которые изменили их чувство общности. Студенты, посещающие колледж или близкие к окончанию, могут оказаться в аналогичных ситуациях, когда им приходится преодолевать меняющиеся пристрастия и общественные границы.
По этой причине в курс также будет включен важный компонент прикладной этики, так как студентов попросят уточнить свое понимание своих собственных сообществ как внутри, так и за пределами университета. Для получения определенного процента от оценки за участие учащиеся должны будут добровольно работать как минимум три часа своего времени в местной организации, такой как местная столовая LINK (Межконфессиональная кухня Лоуренса). помочь обосновать идеи курса, побуждая студентов более конкретно оценивать свои сообщества и свои обязанности по отношению к другим.
Я планирую провести этот курс весной 2017 года, а этим летом я буду составлять окончательную программу. Если вопросы гранта на разработку курса NEH Enduring Questions являются показателем, многие литературные тексты или фильмы в нашей области соответствуют параметрам гранта. Вопросы пацифизма, войны, дружбы и зла можно довольно успешно исследовать через призму русской литературы. Если коллеги заинтересуются, буду рад поделиться своими материалами и другой актуальной информацией.В бюджетной обстановке, когда некоторые из нас все в большей степени могут оправдать нашу неизменную актуальность и, возможно, само наше существование в качестве области и профессии, кажется целесообразным присоединиться к более широким национальным дискуссиям, таким как те, которые были начаты в рамках гранта NEH Enduring Questions или более поздняя программа грантов — Humanities Connections ( 9) — которая помогает нам сформулировать для более широкой аудитории непреходящую значимость авторов, которых мы изучаем.
Примечания
Толстой или Достоевский ?.Небольшой обзор крупных достижений в… | Джеймс Мустич | Storius Magazine
«Все счастливые семьи похожи; каждая несчастная семья несчастлива по-своему ». Так гласит известная первая строка шедевра Льва Толстого о любви и обществе. Его сопоставление универсальной истины с особым пониманием задает тон для следующих восьмисот страниц. В отличие от «Война и мир» , который пересекает Европу и поглощает армии, народы и саму историю, «Анна Каренина» интимна — рассказ о семьях и любовниках, их обязательствах друг перед другом, издержках как предательства, так и соблюдения невысказанных кодексов поведения.Роман представляет собой великолепно подробный и увлекательный портрет жизни русской аристократии XIX века, но не поэтому он так популярен: его власть над читателями сохраняется, потому что симпатии Толстого к мужчинам и женщинам и его потрясающая психологическая проницательность не имеют себе равных. Он создает целый мир из ничего, населенный вымышленными графами и принцессами, которые кажутся такими реальными, что мы чувствуем, что знаем их, и так, как мы; как и все величайшие художественные произведения — хотя этот роман сам по себе относится к классу — Анна Каренина раскрывает истины, которые столь же реальны, столь же противоречивы, как и сама жизнь.Хотя бы в то время, когда мы читаем его, и в глубоком утешении его послесвечения, он дает нам шестое чувство, которое интуитивно проникает в человеческую природу так же полно и таинственно, как запах может вызывать забытые среды.
Легенда гласит, что когда его попросили назвать три величайших романа всех времен, Уильям Фолкнер ответил: «Анна Каренина. Анна Каренина. Анна Каренина.»
Анна Аркадьевна Каренина, петербургская принцесса, вышедшая замуж за амбициозного политика постарше, не лишена достоинств: она очаровательная и красивая, прожорливая читательница, любитель искусства, яростный защитник своей семьи.Но случайно на вокзале она встречает человека, который перевернет ее жизнь: молодого и лихого графа Алексея Кирилловича Вронского. Их длительный роман, из-за которого она бросает мужа и любимого сына, бросает вызов как социальным, так и религиозным приличиям; Следуя десятку или более персонажей из Москвы и Санкт-Петербурга, Толстой отмечает, как беззакония Анны отражаются в обществе. Мы встречаемся со Степаном, братом Анны и отцом несчастной семьи, из которой складывается первая строка романа; Каренин, муж-рогоносец Анны, набожный человек, старающийся сохранить некое подобие респектабельности; и трех сестер Щербацких, особенно Кити, младшей, чья невинность в отношении любви чуть не погубила ее.(В какой-то момент Толстой даже приходит в голову собаке на целые две главы.)
Все эти потрясающе сложные творения, особенно Анна, неизгладимы. Но герой Анна Каренина не является трагическим заглавным персонажем. Это Константин Дмитриевич Левин, искренний, немного неуклюжий деревенский помещик, чья любовь к Кити поначалу кажется безнадежной. Анна и Левин встречаются только один раз, очень поздно в романе, но их жизни связаны социальным набором, который они оба занимают (одна героиня, Долли, является невесткой Левина и Анны), а также их пренебрежением условностями.Они противоположны, но они также близнецы, и хотя окончательная судьба Левина не могла не отличаться от судьбы Анны, в романе есть невидимая нить, связывающая их обоих.
Живя в основном за пределами блеска и водоворота Анны в Санкт-Петербурге, Левин не отшельник — он занят своим временем, часто долго спорит о спорных политических вопросах России 1870-х годов, — но он не оправдывает ожиданий общества. Его жизнь приносит свои плоды только тогда, когда он находит свой собственный способ прожить ее, осознавая — как это было драматизировано в его озадаченных и смиренных чувствах при рождении его первого ребенка, — что наш опыт становится священным из-за горя и радостей, которые «в равной степени были внешними». все обычные жизненные обстоятельства были подобны дырам в этой обычной жизни, сквозь которые просвечивало нечто высшее.«Лучшего воплощения веры и мудрости Толстого вы не найдете.
Анна Каренина была написана после Войны и мира , но любопытно, что автор назвал это своим первым романом. Он думал о ее широкомасштабном предшественнике как об исторической драме, тогда как Анна Каренина была чем-то другим: более жесткой, более проницательной и, как ни странно, возможно, даже более универсальной историей счастливых и несчастных судеб. Легенда гласит, что, когда его попросили назвать три величайших романа всех времен, Уильям Фолкнер, чья художественная литература не могла быть меньше, чем у Толстого, ответил: « Анна Каренина.Анна Каренина. Анна Каренина ». Вы поймете почему.
Толстой или Достоевский? 8 экспертов о том, кто больше
Прошлой зимой я написал пару эссе о Братья Карамазовы , в которых было признано, что я предпочел « способность Толстого видеть углы повседневной жизни вкусу Достоевского к маниакальным граням переживаний». Эта фраза вызвала у читателей больше откликов, чем все остальное, что я написал, что побудило меня глубже погрузиться в вопрос: кто из этих двух титанов русской литературы считается большим романистом?
Как оказалось, не я первый подумал о провокации.Литературный критик Георгий Штайнер представил наиболее авторитетное решение проблемы в своей книге Толстой или Достоевский , в которой Толстой позиционируется как «главный наследник эпической традиции», а Достоевский — как «один из главных драматических темпераментов». после Шекспира ». Исайя Берлин рассмотрел, казалось бы, противоположные качества двух авторов в своем непреходящем эссе «Еж и лис». Набоков утверждал в Лекциях по русской литературе , что это был Толстой, в то время как первые леди Америки были склонны отдавать должное Достоевскому: и Хиллари Клинтон , и Лаура Буш цитируют Братьев Карамазовых как свои любимый роман.
Тем не менее, меня не удовлетворили ответы, которые я нашел в Интернете, поэтому я решил получить второе мнение, или, скорее, еще восемь мнений. Я обратился к ведущим исследователям русской литературы, а также к заядлым читателям, которых я знаю, и спросил, готовы ли они внести 500 слов, взвешивающих соответствующие достоинства Толстого и Достоевского. Почти все сказали «да», хотя некоторые повторили мнение выдающегося почетного профессора, который ответил мне с пляжа в Мексике, написав: «На Парнасе действительно нет соревнований.По крайней мере, с моей точки зрения, они оба великие писатели и теперь живут в царстве вне конкуренции ». И, конечно же, это правда — точно так же, как это правда, что это весело (и часто поучительно) обсуждать Williams против DiMaggio и Bird против Magic , хотя, в конце концов, мы признаем, что они все неснижаемо велики.
Итак, представьте себе восемь очень знающих и страстных взглядов на двух великих рассказчиков всех времен.А когда вы закончите читать, пожалуйста, поделитесь своим мнением в разделе комментариев.
Кэрол Аполлонио, профессор практики русского языка, Университет Дьюка
Вопрос попал прямо в мой мозг и вывел из строя теменную кору. Было шипение и клубы дыма, и запах серы наполнил воздух. Я нащупал в темноте монетку и подбросил ее вверх. Он глухо звякал о линолеум. Мерцающий свет свечи сверху освещал крохотное, но безошибочное изображение двуглавого орла.Внимание: тогда Достоевский.
Его главный герой — голова: приманка для умных людей. Интеллект излучает нескончаемый поток слов. ДА! Вы так много раз думали об одном и том же! Как может быть справедливость на земле, если она достигается ценой детской слезы? Как может Бог быть всемогущим и добрым, но допускать страдания в мире? Если Бог существует, то как он может позволить МНЕ ходить по земле, больному, хныкающему, злобному существу, которым я являюсь, тощему отродью самого абстрактного и умышленного города на земле? Но если Бога не существует, как я могу быть капитаном? Должен ли я вернуть свой билет? Читать дальше! Они дают нам хлеб, который мы сами приготовили, и мы принимаем его обратно в обмен на нашу свободу: дешевое колдовство вместо чуда.Я люблю человечество, но как вы можете ожидать, что я полюблю вонючего, болтливого пьяного за столом, неудачника, который продал свою дочь в проституцию, чтобы он мог сидеть здесь и пить? Тогда докажи, что ты существуешь! Переместите эту гору, и я поверю!
Его главный герой — голова, но его герой — сердце. Логика и слова ни к чему не приведут: чем больше разговоров, тем меньше правды. Дважды два — четыре, но дважды два — пять — тоже очаровательная вещица. Теперь объятие, поцелуй, падение на землю, нога через железные перила холодного Св.Петербургский мост, льется слезы, льется кровь, бледнеет, умирает обморок, исходит дух разложения, хлопанье пальцем в дверь, жалобные звуки свирели … орган на улице, оборванные сиротские попрошайничества, предсмертные вздохи переутомленной, забитой лошади, еле различимое дыхание обреченной старухи по ту сторону закрытой двери — ты, ТЫ — убийца — звон монеток в кубок, головокружительный вихрь колеса рулетки, мозговая лихорадка, силуэт в дверном проеме, благородная барышня, кланяющаяся перед тобой, ТЫ, похотливый червяк! Крики, веревка, пистолет, пощечина, и вдруг…
Внезапно в темноте появляется образ: худенькая, робкая девушка в зеленой шали, с бледным лицом, осунувшимся от болезни.Она радостно улыбается и протягивает мне руку. Я должен идти, потому что, если я этого не сделаю, я буду продолжать говорить и никогда не перестану …
Эллен Ченсес, профессор русской литературы, Принстонский университет
Вопрос, на мой взгляд, бессмысленный. Одна из тревожных тенденций современного общества — его стремление к ранжированию. Кто лучше? Кто номер один? Вопрос не должен звучать так: «Кто больший романист?», А скорее: «Что я узнаю, читая книги Толстого или Достоевского, или кого-либо еще?
Почему все должно быть гонкой? Почему все должно быть конкурентоспособным? Это означает, что есть победитель и проигравший.Почему чтение Толстого, Достоевского или кого-либо еще должно быть частью истории «успеха» или «неудачи»? Такая постановка вопроса «Толстой или Достоевский: кто романист лучше?», Как мне кажется, оказывает медвежью услугу самому акту созерцания смысла книг этих писателей.
Задать вопрос равносильно тому, чтобы спросить: «Какая еда лучше: молоко или апельсиновый сок? Что лучше, черника или клубника? Что лучше, небо или трава, день или ночь? »
Для меня и Достоевский, и Толстой одинаково великие писатели.Каждый сосредоточился на некоторых из важных «больших вопросов» жизни. Иван Карамазов Достоевского, в Братья Карамазовы , спросил, как справедливый Бог мог создать мир, включающий страдания невинных детей. Толстой через своего персонажа Левина в «Анна Каренина » спросил, в чем смысл жизни. И Достоевский, и Толстой утверждали, что нельзя найти сущность жизни, полагаясь только на интеллект. И Достоевский, и Толстой понимали, что быть верным подлинным ритмам жизни означает уважать нелинейную природу жизни.
Каждый из двух предлагает глубокое понимание психологии. Толстой подчеркивает, как люди относятся друг к другу в социальном контексте. Достоевский глубоко вникает в индивидуальную человеческую психику. Толстой рисует мир, в котором с обычными людьми случаются экстремальные вещи. Достоевский показывает нам, на какие крайности способны люди. Каждый из двух авторов описывает кризис веры. Каждый описывает путь к жизни духовных ценностей.
И Достоевский, и Толстой пишут так, чтобы передать энергию жизни.Эта энергия возникает у Достоевского через столкновение идей, через напряжение, которое он создает через неизвестность и использование таких слов, как «внезапно». Иван Карамазов говорит, что любит жизнь больше, чем смысл жизни. Толстой проявляет любовь к жизни этого мира — запах земли, красоту цветка. Он говорит о подлинной жизни.
И Достоевский, и Толстой заставляют задуматься о главном в жизни. Оба призывают читателя ценить то, чего не могут дать ни деньги, ни конкуренция — любовь и саму жизнь…
… Так кто же больший писатель, Достоевский или Толстой? И Толстой, и Достоевский — великие … А еще есть Чехов , и Пушкин , и Мандельштам , и Ахматова и Битов … И это только русские …
Ракель Чанто, аспирантка, Школа общественных и международных отношений Вудро Вильсона
Наверное, эти слова больше говорят обо мне, чем о Толстом или Достоевском.Я давно отказался от идеи объективной оценки литературы: чтение — это гораздо более опосредованный процесс, чем мы хотели бы признать. По страницам заползают всевозможные привидения, предыстория вкусов и переживаний, предрассудков и страхов. Поэтому, если я говорю, что Достоевский более великий писатель, чем Толстой, я только имею в виду, что он был для меня больше.
Мое первое знакомство с русской литературой было случайным, как и следовало ожидать от двенадцатилетней девочки, выросшей в пригороде Коста-Рики. И Толстой, и Достоевский возникли, как картошка из огромного полиэтиленового пакета, в котором было несколько ценных книг.Мне посчастливилось быть в то время очень молодым, очень любопытным и серьезно неинформированным. В отличие от большинства людей, я прочитал Война и мир , не имея ни малейшего представления о репутации книги. Преступление и наказание последовало вскоре после этого, с таким же скандальным отсутствием почитания. Я любил их обоих: Толстого за историю, которую он рассказывал, и Достоевского за мысли, которые он вызывал.
Спустя много лет и много книг эти два автора продолжают населять разные места в моем сознании и в моей памяти.Толстой вызывает в воображении образы бескрайних степей и элегантных петербургских домов, где великие и сложные персонажи живут своим делом. Его книги — это образцы литературного мастерства, эпические сказки, рассказанные с безупречным мастерством. Работы Достоевского менее точны, более неоднозначны. Я воспринимаю его книги как непрекращающуюся битву демонов, которые никогда не успокаиваются — даже когда вы переворачиваете страницу, когда вы заканчиваете главу, когда вы заканчиваете роман и читаете его снова. Роман Достоевского, сидящий на полке, — это чаша тревог и замешательства, пучок разочарований, отмеченных отчаянной потребностью в искуплении.Его главные герои показаны в экстремальных ситуациях, где не только их личность, но и сама их природа подвергается испытанию.
Что меня завораживает в Достоевском, так это не только подробности рассказа, частные перипетии жизни Родиона Раскольникова или Дмитрия Карамазова; это всего лишь возможность их существования. Это, в конце концов, ошеломляющее представление о том, что мы могли бы быть такими же, как они, — что любой из нас, любой обычный простой человек, несет на себе высший уровень и низшую точку моральных способностей.Персонажи Толстого многое мне рассказывают. Персонажи Достоевского многое мне рассказывают. Если это не имеет первостепенного значения, я не знаю, что это такое.
Крис Хантингтон, автор романа Здесь спал Майк Тайсон
Чтение Толстого переносит меня в мир иной; чтение Достоевского заставляет меня чувствовать себя живым в этом. Когда я читаю Толстого, меня затягивает мечта о крепостных и крестьянских усадьбах, бесконечных королевских титулах и армейских званиях.Столько красивых лошадей! Верный пес! Такие женщины, как Кити и Анна Каренины! Но потом я откладываю книгу и обнаруживаю, что использую вешалку для пальто, чтобы вытащить волосы из стока душа, и это не похоже на битву при Аустерлице. Это похоже на мою жизнь снова.
С другой стороны, много раз меня кто-то раздражает на работе, и я слышу эти слова из Братья Карамазовы , гремящие в моей голове:
«Почему такой человек жив!» — глухо прорычал Дмитрий Федорович, теперь уже почти вне себя от ярости, как-то своеобразно приподняв плечи, так что он выглядел почти горбатым.«Нет, скажи мне, можно ли ему позволить и дальше бесчестить землю вместе с собой?»
Я себе такое дерьмо говорю все время . Это часть удовольствия от жизни.
Поскольку я веду свою повседневную жизнь (в отличие от катания на коньках в Москве или рубки зерна в своих поместьях), просто воображать, что я похожа на прекрасного Левина, вызывает самоутверждение. Он мне нравится больше, чем я ему бы хотелось. Я далеко не такой милый и не такой искренний. Однако я обнаружил, что могу открыто восхищаться князем Мышкиным, потому что в Братья Карамазовы я прямо там делаю это.Я Дмитрий или Иван, держу Алешу за руку. Послание братьев состоит в том, что мы все друг другу; мы разделяем страсти друг друга. Мы одинаково страдаем. Мы по-разному показываем вещи. Я могу быть виновным и невиновным одновременно.
Для меня это жизнь.
Борхес , кажется, сказал, что в любви к Достоевскому есть что-то отроческое — что зрелость требует других писателей. Все, что я знаю, это то, что когда я впервые прочитал Преступление и наказание , эта книга представляла для меня большой труд.Я не понял! За что я чувствовал себя таким виноватым в восемнадцать? Я ничего не СДЕЛАЛ. Я был вне себя от потенциальной энергии. Мне было бы лучше с Война и мир — потому что у меня был темперамент князя Андрея, готового пойти на войну. Я был зол на себя и расстроен, но не сожалел об этом. Я уж точно никогда не мог понять безумия Ивана Федоровича. Я только что провел лето, дрейфуя с красивой 17-летней девушкой на озере Харрисон; Если бы вы спросили меня, почему князь Мышкин гнался за беспокойной Настасей или позволил прекрасной Аглае уйти, я бы не догадался.
В подростковом возрасте я был верен своим друзьям, но также был настолько непримиримым, что никогда бы не потерпел такого друга, как Мышкинский Рогожин. Такая связь пришла ко мне позже, когда я понял, каково это связать себя с кем-то на всю жизнь, — когда я понял, что такое взаимное прощение. Когда мне было чуть больше двадцати, один из моих друзей в пьяном виде зарезал другого. Это было несерьезно. Один из моих лучших друзей попросил меня не видеться с девушкой, с которой он расстался. Вместо этого я женился на ней.Позже я потерял ее. Я гнался за ней по снегу, как за Дмитрием. Теперь я понимаю Достоевского. Какой подросток понимает эти вещи?
Во всяком случае, я понимаю, что «соревнование» между Достоевским и Толстым — всего лишь упражнение в любви. На самом деле никому не нужно выбирать то или иное. Я просто предпочитаю Достоевского. В качестве последнего аргумента я просто процитирую эксперта намного старше и мудрее меня:
Совсем недавно почувствовал себя плохо и прочитал Дом мертвых .Я кое-что забыл, перечитал, и лучшей книги во всей нашей новой литературе, включая Пушкина, не знаю. Это не тон, а прекрасная точка зрения — искренняя, естественная и христианская. Замечательная, поучительная книга. Я наслаждался целым днем, чего не делал уже давно. Если увидишь Достоевского, скажи ему, что я его люблю.
— Лев Толстой в письме к Страхову , 26 сентября 1880 г.
Эндрю Кауфман, автор Понимание Толстого и преподаватель славянских языков и литературы, Университет Вирджинии
Все посредственные романисты одинаковы; каждый великий писатель велик по-своему.Вот почему выбор между двумя выдающимися прозаиками России XIX века в конечном итоге сводится к вопросу о том, какое величие находит отклик у конкретного читателя. Я симпатизирую Толстому, и даже мои критерии оценки художественного произведения, я признаю, неизменно толстовские.
«Цель художника, — писал Толстой, — не в том, чтобы решить вопрос неопровержимо, а в том, чтобы заставить людей полюбить жизнь во всех ее бесчисленных, неиссякаемых проявлениях». По этому стандарту романы Толстого преуспевают там, где нет у Достоевского.
Правда, Достоевский видел и прочувствовал современный опыт во всей его изолированной, трагической глубине. Он показал навязчивую силу идей и психологические кризисы, трещины и взрывы души, которые стали привычными в нашем современном мире. Однако он не заставляет вас любить жизнь во всех ее проявлениях. Фактически, когда он пытается это сделать, он обнаруживает свои недостатки.
В конце Преступление и наказание Раскольников бросается к ногам Сони, которая последовала за ним в Сибирь, где он отбывает наказание за двойное убийство.Соня вскакивает, смотрит на него и дрожит. «Безграничное счастье загорелось в ее глазах; она понимала, и для нее больше не было сомнений в том, что он любит ее, любит ее бесконечно, и что, наконец, настал момент … »Если это попахивает современной мыльной оперой или теми сентиментальными французскими романами, на которых был воспитан Достоевский, то это потому, что Это — это мелодрама. «Бесконечная любовь» Сони — идеал, якобы наступивший «момент», абстракция.
Толстой считал, что современным читателям нужно не больше стремление к «бесконечному счастью» или «Великой идее», как утверждает Степан Трофимович в конце книги «Демоны », а способность принять несовершенное реальность.Автор Анна Каренина учит искать смысл не через грандиозные романтические стремления, как Анна и Вронский, а в рамках несовершенных социальных и семейных структур, как Кити и Левин.
Романы Толстого изображают нормы и преемственность человеческого поведения посредством великих повествований, которые медленно расширяются с течением времени на фоне обширных природных картин. «Как обычно» и «как часто бывает» — фразы, которые вы часто встречаете у Толстого.Мир Достоевского, напротив, — это мир, в котором вы однажды вечером можете прийти домой и «внезапно» найти топор, зарытый в вашем черепе. Жизнь всегда находится на грани взрыва. Трагедия не за горами или в вашей гостиной.
Гостиная Толстого — это место, где люди, ну, живут. Сюда прибегает темноглазая говорливая двенадцатилетняя Наташа Ростова с куклой в руке или где десять лет спустя она наслаждается с Пьером одним из тех милых мирских разговоров между женой и мужем ни о чем и обо всем.
«Я реалист в высшем смысле этого слова», — справедливо утверждал Достоевский. Но Толстой был реалистом в полном смысле этого слова. «Герой моей сказки… Истина», — писал он. И эту истину каждое поколение признает своей собственной, а не только те, кто находится в состоянии социального кризиса или экзистенциального отчаяния. Если Достоевский призывает нас дотянуться до небес, то Толстой на художественном примере учит нас, как мы можем прикоснуться к трансцендентному здесь и сейчас в нашем беспорядочном, мимолетном мире.
Гэри Сол Морсон, профессор гуманитарных и гуманитарных наук Фрэнсис Хупер, Северо-Западный университет
Советский анекдот гласит, что Сталин однажды спросил ЦК: какое отклонение хуже, правое или левое? Некоторые со страхом рискнули пойти «влево», другие неуверенно предложили «вправо».Тогда Великий Рулевой дал правильный ответ: «Оба хуже». Я отвечаю на вопрос: «Кто больший романист, Толстой или Достоевский?»: Оба лучше.
Достоевский говорил с ХХ веком. Он был уникален в том, что предвидел, что это будет эпоха не сладости и света, а самая кровавая в истории. The Demons со сверхъестественной точностью предсказал, каким будет тоталитаризм.
Бахтин понимал основной принцип этики Достоевского: человек никогда не является продуктом внешних сил.Ни наследственность, ни окружающая среда, по отдельности или вместе, не могут полностью объяснить человека. У каждого человека сохраняется «излишек», который составляет существенный элемент его личности. Правда, некоторые люди и все социальные науки, стремящиеся уподобиться физике, отрицают избыток. Но они применяют свои теории только к другим. Что бы он ни исповедовал, никто не воспринимает себя как простую игру внешних сил. Каждый чувствует сожаление или вину, и не избежать агонии выбора. Мы ведем себя так, как если бы мы верили, что каждый момент допускает более одного возможного исхода и что наша свобода делает нас в принципе непредсказуемыми.Без этой непредсказуемости нам не хватило бы человечности. Мы были бы зомби, и никто не несет этической ответственности перед зомби. Следовательно, этика требует: всегда относиться к другому человеку как к способному удивлять, как к человеку, которого нельзя полностью объяснить из вторых рук.
Достоевский презирал и капитализм, и социализм, потому что каждый рассматривает людей как простой продукт экономических (или других) законов. Если социализм хуже, то это потому, что он также предполагает, что эксперты знают, как организовать жизнь к лучшему, а социализм не только отрицает, но и активно исключает возможность выбора в пользу якобы высшего блага.В лучшем случае это представление ведет к Великому инквизитору, в худшем — к кошмарным планам Петра Степановича.
Толстой больше говорит о 21 веке. Ключевой концепцией его романов была случайность. В каждый момент, каким бы маленьким и обычным он ни был, происходит что-то, что не может быть полностью объяснено предыдущими моментами. Подобно Достоевскому, Толстой также отрицал возможность социальной науки , которая всегда должна напоминать «науку войны», проповедуемую генералами в Войне и мире .Как и современные макроэкономисты, эти «ученые» невосприимчивы к контрдоказательствам. По словам Толстого, общественные науки — это просто «суеверие».
Если бы обществоведы понимали людей так же, как Толстого, они могли бы изобразить человека столь же правдоподобно, как персонажи Толстого, но, конечно, ни один из них не приблизился.
Если мы однажды признаем, что у нас никогда не будет социальной науки, то мы, как генерал Кутузов, научимся принимать решения по-другому. Мы, интеллектуалы, были бы осторожнее, скромнее и были бы готовы исправлять свои ошибки постоянными вознями.
Если мы оставили позади эпоху идеологий, предостережения Достоевского могут нам понадобиться меньше, чем мудрость Толстого.
Донна Туссинг Орвин, профессор русского языка и заведующая кафедрой славянских языков и литератур Университета Торонто, автор книги Последствия сознания: Тургенев, Достоевский и Толстой
Я склонился сначала к Толстому. Мне нравилось его сочетание моральной чувствительности и любви к жизни, и мне не нравился безмерный мир личности Достоевского в кризисе.У двух авторов много общего, но они расходятся во мнениях, что делает сравнение непреодолимым.
Оба связывают себя с моральной свободой воли; поэтому в обоих случаях индивидуум является высшим источником добра и зла. Для обоих добро, заключающееся в преодолении эгоизма, естественно, но слабо. Ибо оба чувства важнее разума в душе, хотя Толстой ближе к грекам и к Просвещению в том, что он связывает добродетель с разумом. Для Достоевского разум всегда запятнан эгоизмом, и поэтому он полагается на любовь, чтобы подстегнуть моральные импульсы.Достоевский больше концентрируется на зле; по этой причине его сочинения предвосхищают ужасы двадцатого и зарождающегося двадцать первого веков. Толстой изображает преступления, такие как линчевание Верещагина ( Война и мир ) или уксорицид в Крейцеровской сонате , но не чистую злобу, воплощенную в таких персонажах Достоевского, как Ставрогин ( Демоны ) или Смердяков ( Братья Карамазы) . Самые злые персонажи Толстого, такие как Долохов в «Война и мир », кажется, вторгаются в его тексты из другого (Достоевского?) Мира.Достоевский тоже изображает чистое добро. Князь Лев Николаевич Мышкин ( Идиот ), хотя и назван в честь Толстого, добродетельнее любого толстовского персонажа, как и Алеша Карамазов. Оба автора — злые сатирики. Рационализирующие решения социальных проблем Толстого могут показаться наивными, в то время как возвышенные решения Достоевского кажутся сентиментальными.
Художественная литература Толстого охватывает более широкий круг переживаний, чем Достоевский. Никто лучше не описал детство, семейную жизнь, сельское хозяйство, охоту и войну.Это отражает его близость к физическому и телесному. Не случайно Толстой также известен своими портретами природы и животных. Достоевский обычно связывает физическое с основой. (Сравните мясистого старого Федора Карамазова с его эфирным сыном Алешей.) В его произведениях болезнь часто приносит озарение, а Толстой в большинстве (хотя и не всегда) предпочитает здоровые состояния нездоровым.
Художественная литература Достоевского направлена на максимально полное раскрытие характера.Однако он считает, что каждый человек уникален и поэтому в конечном итоге недоступен для других. Его герои колеблются между добром и злом; это делает будущее любого из них, даже самого добродетельного, непредсказуемым. Персонажи Толстого сложны, но не уникальны. Разнообразие среди них (большее, чем у Достоевского) является результатом практически, но не теоретически бесконечного числа комбинаций всех возможностей, присущих человеческой природе, и их взаимодействия с внешним миром.Толстой изображает пересечение случая, исторических сил и характера. По его мнению, чем больше мы отстранены от внешних обстоятельств, тем мы свободнее. Толстой в старости тяготел к христианской анархии, а Достоевский в своем последнем романе ( Братья Карамазовы, ), кажется, защищает христианскую теократию во главе с кем-то вроде Зосимы.
Я по-прежнему предпочитаю приземленность и экспансивность Толстого блестящей, резкой анатомии психики Достоевского, но я не могу представить жизнь без них обоих.
Джошуа Ротман, аспирант по английскому языку Гарвардского университета и автор колонки Brainiac, которая появляется каждое воскресенье в Boston Globe ‘s Ideas section
У меня есть обычные причины думать о Толстом как о «лучшем» — точнее, как о лучшем — романисте. Он исследует невероятное разнообразие сцен и предметов; его точный, лаконичный стиль; его эпический тон с особым сочетанием отстраненности и человечности.И меня всегда поражает то, как его романы описывают каждого изнутри, даже собак и лошадей. Я так же реагирую на письмо Толстого, как и его невестка Таня Берс , которая была образцом для Наташи в Войне и мире : «Я понимаю, как вы можете описывать помещиков, отцов, генералов, солдаты, — сказала она ему, — но как вы можете проникнуть в сердце влюбленной девушки, как вы можете описать ощущение матери — хоть убей, я не могу понять.«Я думаю, что Толстой« намекает на самого себя »лучше, чем любой другой писатель.
Но больше всего меня впечатлили сцен Толстого. Я убежден, что Толстой — величайший писатель литературных сцен. Достоевскому часто приписывают более «драматический характер» (Джордж Штайнер в «Толстом или Достоевский? » называет Достоевского «одним из главных драматических темпераментов после Шекспира»). Но романы Толстого уникальны тем, что они построены полностью из коротких, совершенных, легко читаемых сцен, и тем, как эти сцены дополняют друг друга, пока в них беспечно и естественно не рассматриваются самые сложные проблемы.
Посмотрите сцены бала Кити и Вронского в «Анна Каренина». В первой сцене Китти и Анна сидят на софе. Китти приглашает Анну на бал и предлагает ей надеть платье сиреневого цвета. Затем к Анне подбегает стайка детей, Анна берет их на руки, и сцена заканчивается. Читая сцену, мы понимаем, что такой Кити видит Анну: загадочную, красивую, поэтичную молодую маму. Затем, через две сцены, Китти приходит на бал в платье персикового цвета и видит Анну в черном бархате.Это сцена, когда Анна крадет Вронского у Кити. Прямо здесь, в сопоставлении этих двух сцен, разделенных всего на две или три страницы, вы видите разницу между детством и взрослостью, а также между сексуальной невинностью и опытом. Ни один другой писатель не сможет показать вам столько и так быстро.
Но дело не только в том, что его короткие сцены движутся быстро; Дело в том, что они позволяют Толстому сосредотачиваться на самых обычных вещах, например, на цвете платья. Одна из лучших сцен конца Анна Каренина организована вокруг грозы; в Война и мир , он делает две сцены вокруг дуба, голого, а затем цветущего.В каждой сцене детали кажутся ничем не примечательными, но во многих сценах они собираются в структуру, которая является чем-то большим, чем сумма ее частей. Толстой назвал эту структуру «сетью». Достоевский, конечно, тоже создавал сети, и в некотором смысле они более мощные. Но я предпочитаю обычные материалы Толстого необычным материалам Достоевского, потому что они могут научить вас раскрывать «сцены» и «сети» в вашей собственной жизни.
Изображения Толстого и Достоевского на Wikimedia Commons
Почему Толстой и Достоевский сейчас важнее, чем когда-либо
Когда друзья спрашивают меня, какой мой любимый роман, я говорю им: «Это просто. Преступление и наказание. или Анна Каренина. В зависимости от того, какое из них я читал последним. «
Как преподаватель в большом книжном колледже, моя работа требует много читать литературы. Я с радостью принимаю эту задачу. Соответственно, я прочитал много классических произведений западного канона. И после всего этого чтения я убежден, что по силе психологии, по характеристике и по театральному напряжению Достоевский и Толстой считаются одними из величайших писателей канона.
Более того, эти русские сегодня важны как никогда. Оба предвидели ползучую утилитарную этику, которая исказит социальную жизнь России и в конечном итоге будет доминировать в концептуальных рамках западных граждан.
Достоевский и Толстой родились в России с разницей в семь лет. Несмотря на то, что они никогда не встречались, они глубоко уважали друг друга. Достоевский называл Толстого «самым любимым писателем среди русской публики всех оттенков». Последней книгой, которую Толстой прочитал перед смертью, была книга Достоевского Братья Карамазовы .
У двух авторов была общая эпоха и страна, но они жили в разных слоях российского общества и как художники предлагали совершенно разные взгляды.
Достоевский любил изнанку России — игроков, проституток, уличных революционеров. Его темп безумный от беспокойства, а его сцены напоминают лучшее из театральной драмы — едва домашнее насилие слов.
Оба предвидели ползучую утилитарную этику, которая исказит социальную жизнь России и в конечном итоге станет доминировать в концептуальных рамках западных граждан.
В Преступление и наказание он устанавливает своего антигероя Раскольникова на захудалых улицах Санкт-Петербурга. Раскольников ходит по этим улицам, стремясь очистить свой разум от кровавых наклонностей. Однако на улицах он становится свидетелем детского попрошайничества, слухов о самоубийстве и пьяных пьяниц; эти видения распространяют еще больше болезней через нежную ткань его души. Захваченный улицей, Раскольников все глубже погружается в планирование убийства.
Величайшие персонажи Достоевского не просто думают идеями, они чувствуют идеи.«Его непревзойденный гений как идеологического романиста, — писал Джозеф Франк, — заключался в способности изобретать действия и ситуации, в которых идеи доминируют в поведении, но последнее не становится аллегорическим» ( Достоевский: писатель в свое время, , 2009).
Раскольников — классический персонаж Достоевского; он дико колеблется между восторгом христианской надежды и удушающей тяжестью утилитарной этики. С первых страниц Преступления Раскольников планирует. По мере развития событий его план раскрывается как убийство скромного ростовщика.Но это будет не обычное убийство; это будет философское убийство. Раскольников внутренне оправдывает свой план, создавая «переоценку ценностей» (фраза принадлежит Ницше), которая на самом деле демонстрирует, что убийство уместно. Изможденный, копящий ростовщик не имел никакой пользы, никакой ценности. Но Раскольников как человек, не боящийся «переступить черту», представляет большую ценность. Таким образом, Раскольников имеет все основания уничтожить ее и извлечь выгоду из накопленных ею рублей.
Тем не менее, сразу после планирования убийства он полон глубокого сострадания к кроткой и неразвитой психике Лизавете, сестре ростовщика.Лизавете также не хватает «ценности», но Раскольников сетует, что ее убийственный план пострадал от ее невиновности.
Начинается жестокая внутренняя битва. Сила и сострадание соперничают за сердце Раскольникова. Его молодые воспоминания о христианской надежде сталкиваются с утилитарным порывом его русской взрослости. Эта битва отражает более широкую дилемму, стоящую перед Западом 21-го века. Достоевский опасался отказа от христианских идеалов и упрекал Западную Европу в отказе от надежды на «спасение, пришедшее от Бога и провозглашенное через откровение -« Возлюби ближнего твоего, как самого себя », — и заменил его практическими выводами, такими как« ». Chacun pour soi et Dieu pour tous ‘[«Каждый за себя, Бог за всех»].”
Как и Достоевский, Лев Толстой тоже беспокоился о распаде духовных убеждений 19 -го века России. Полем битвы его дебатов были не запятнанные улицы Достоевского, а покрытые толстыми коврами коридоры аристократии. Толстовские аристократы прыгают между делами семьи, бизнеса и романтики без искренней братской любви или экзистенциальных обязательств.
На фоне этого духовного оцепенения Толстой обнаруживает людей, переживающих настоящие духовные кризисы.Он находит Анну Каренину, которая, возвращаясь поездом с совета своей сестры против развода, обменивается взглядами с мужчиной, который позже поможет распутать ее собственный брак.
Когда Анна посещает вечеринку светских людей, мы встречаем Левина — слегка замаскированного варианта самого Толстого — который планирует сделать предложение невестке Анны, Кити. К сожалению, Кити любит Вронского и отвергает продвижение Левина.
Отвергнутый Кити, Левин уезжает из города и уже несколько месяцев не видит ее.Когда, наконец, они встречаются снова, Толстой предлагает главу (iv, 13), которая представляет собой мини-шедевр в великой картине романа. Левин и Китти играют в словесные игры на карточном столе. Китти извиняется перед Левином, используя блоки слов: t, y, c, f, a, f, w, h . «Что вы можете простить и забыть о том, что произошло». На это Левин отвечает: «Мне нечего прощать и забывать, я никогда не переставал любить тебя».
Знаменитая вступительная фраза Толстого: «Все счастливые семьи похожи; каждая несчастная семья несчастлива по-своему », — прекрасно передает действие Анна Каренина .Расстраивающий, но в то же время очаровательный роман Левина и Китти демонстрирует, что «все счастливые семьи похожи», даже несмотря на то, что Анна рушится по-своему.
В конце концов, бывшие друзья Анны отвергают ее как опальную женщину, и она возвращается домой — только для того, чтобы обнаружить, что ее отважный Вронский холоден, отстранен и рассеян. Ее судьба близка.
Ходят слухи, что Толстой начал писать роман против развода, но обнаружил такую симпатию к Анне, что перенес свою критику в русское общество.Его надпись из Второзакония и Послания к римлянам, кажется, направлена не столько на горячность Анны, сколько на грубое неприятие ее общества: «Моя месть, я отплачу».
И Толстой, и Достоевский были глубоко сформированы христианскими писаниями. Книга Иова, в частности, затронула Достоевского. Став взрослым, он перечитал книгу Иова, которая повергла его в состояние «нездорового восторга». «Странно, Аня, — писал он жене в 1875 году, — эта книга — одна из первых в моей жизни, которая произвела на меня впечатление; Я тогда был еще почти ребенком.”
Оба романиста зациклены на вечных вопросах, придавая своим работам новую актуальность в нашей культуре, озабоченные этикой полезности.
Персонажи Достоевского, такие как Иов, были лишены социальных норм, облегчающих повседневную жизнь. Он загонял таких персонажей, как Раскольников, в горнило веры и сомнений, которые он сам испытывал на протяжении всей своей жизни.
Достоевский, бывший заключенный, был благословлен и проклят пламенной психологией художника-философа.В то время как философы 18 -го и 19 -го века громко трясли ведрами холодных силлогизмов, Достоевский горячо отвечал незабываемыми персонажами и жестокими сюжетами. Он не философствовал об атеизме или теизме; они столкнулись в его животе и всплыли в его романах. Все его зрелые романы обращаются к психическим и социальным последствиям выбора между христианством и атеизмом. Например, его «Великий инквизитор» (глава в Братья Карамазовы ) — это всемирно-классическая трактовка вопроса о том, почему Бог допускает зло.
Духовные кризисы занимают также романы Толстого, который в середине своей жизни переживал глубокий внутренний кризис. Последние главы Анны Карениной выражают внутренние стоны Левина о смысле жизни. Эти стоны напоминают кризис, о котором Толстой позже задокументировал в My Confession (1880). Действительно, приступы отчаяния Толстого были настолько ужасны, что он попросил жену спрятать свое охотничье ружье, чтобы не использовать его на себе, выгуливая собак.
Выйдя из этого кризиса, Толстой отказался от мяса, копчения, охоты и своих авторских прав; он проповедовал пацифизм, анархизм и глубоко личное христианство.
Строгие традиционалисты будут ругать богословие обоих романистов; Русская Православная Церковь отлучила Толстого от церкви в 1901 году (среди прочего) за то, что отверг библейское учение о телесном воскресении. А националистическую эсхатологию Достоевского трудно принять любому нерусскому.
Тем не менее христианство было «доминирующей силой» в произведениях обоих романистов (Уильям Лайон Фелпс, Очерки русских романистов , 1911). Оба знали то, чем пренебрегли лучшие из современных романистов: человеческое сердце вдыхает надежду на превосходство.Оба романиста изображали своих героев и героинь блуждающими сердцами, незащищенными доктринальными доспехами, подверженными тем же бедам и наградам, которые Бог посетил на Иова. Оба романиста зациклены на вечных вопросах, придавая своей работе новую актуальность в нашей культуре, озабоченной этикой полезности.
«Косые ответы Достоевского и Толстого на эпидемию Черныша» Захария Д. Ревински
Член (-а) комитета
Арлин Форман
Хизер Хоган
Ключевые слова
Чернышевский, Что делать?, Достоевский, Преступление и наказание, Толстой, Анна Каренина, русская радикальная интеллигенция
Аннотация
Эта статья посвящена тонкой реакции Федора Достоевского и Льва Толстого на творчество и философию радикального интеллигента, литературного критика и философа Николая Гавриловича Чернышевского.Достоевский и Толстой глубоко сомневались в идеях Чернышевского и их последствиях как для отдельного человека, так и для российского общества в целом. Цель данной статьи — описать эти идеи и последствия в том виде, в каком они проявляются в двух самых известных и важных произведениях русской и мировой литературы XIX века, «Преступлении и наказании» Достоевского и «Анне Карениной» Толстого.
Дискуссия начинается с толкования радикальной утилитаристской и утопической философии, отстаиваемой Чернышевским в его влиятельном «Что делать?» и «Антропологический принцип в философии».Обсудив основные тезисы философской системы Чернышевского, автор продолжает исследовать появление этих идей в «Преступлении и наказании» и «Анне Карениной» через анализ главных и второстепенных персонажей в каждом романе. Многоголосие прозы Достоевского распространяется, как утверждает автор, на вопросы философии Чернышевского и ее влияние на Россию, и персонажи «Преступления и наказания», прежде всего Раскольников, Разумихин и Лужин, анализируются через эту призму.Каренин, Вронский, Анна Каренина и Левин составляют основу анализа толстовской «Анны Карениной».
В максимально возможной степени автор стремится включить биографические и философские подробности о Достоевском и Толстом, чтобы оставаться близкими и верными соответствующим видениям и пониманию России двумя авторами. Достоевский и Толстой придерживались взглядов на человеческую природу, Россию и взаимодействие человека с другими людьми, которые разительно отличались от взглядов Чернышевского и радикальной интеллигенции.Нерешительность Достоевского и Толстого по поводу философии Чернышевского проявляется в их произведениях, временами с большой тонкостью, и выяснение литературных проявлений их философских ответов служит основным стимулом для этой статьи.
Ссылка из репозитория
Ревински, Захарий Д., «Косвенные ответы Достоевского и Толстого на эпидемию философии Чернышевского» (2010). Почетные грамоты . 391.
https: //digitalcommons.oberlin.edu / honors / 391
Достоевский, Толстой и Ницше · Ohio University Press / Swallow Press
В очерках, собранных в этом томе, Шестов представляет глубокий и оригинальный анализ мысли трех самых ярких литературных деятелей Европы XIX века — Достоевского, Толстой и Ницше — все они оказали решающее влияние на развитие его собственной философии.
Согласно Шестову, величие этих писателей состоит в том, что они глубоко исследовали вопрос о смысле жизни и проблемах человеческих страданий, зла и смерти.То, что все трое временами прекращали свои исследования и впадали в банальность проповеди, не умаляет их статуса, но показывает лишь то, что есть пределы способности человека беспрепятственно смотреть на реальность.
Достоевский, Толстой и Ницше объединены, по мнению Шестова, общим пониманием сущностной трагедии человеческой жизни — трагедии, которую никакие научные знания и никакая политическая и социальная реформа не могут значительно смягчить, но которая может в конечном итоге быть искупленным только верой во всемогущего Бога, провозглашенного Библией.
Во всех трех своих предметах Шестов видит восстание против тирании идеалистических систем философии, а также признание того, что якобы универсальные и необходимые законы, открытые наукой, и моральные принципы, для которых автономная этика заявляет о вечной значимости, не освобождают человека, а скорее сокрушите и уничтожьте его. Это восстание и это признание часто подавляются Достоевским, Толстым и Ницше, но они вспыхивают снова и снова с подавляющей силой.
В этом провокационном обсуждении романов и рассказов двух знаменитых русских писателей, а также очерков и афоризмов одинокого немецкого философа, гений которого окончательно угас из-за безумия, Шестов находит идеи и идеи, которые другие критики упустили из виду, или важные из них. чего они не поняли должным образом. Ценность его достижения широко признана. Князь Мирский, например, в своей авторской истории русской литературы не преминет сказать, что Шестов для Достоевского, несомненно, является его величайшим комментатором.
Читатель найдет в этих замечательных исследованиях людей, которые оказали сильнейшее интеллектуальное влияние на молодого Шестова, начало собственной полемики на протяжении всей жизни русского философа против идеализма, сциентизма и общепринятой морали, а также первые попытки нащупать эти поиски. за веру в библейского Бога, которая должна была стать лейтмотивом всех его мыслей и писаний в последние десятилетия его жизни.
Лев Шестов — Достоевский, Толстой и Ницше
Первое из эссе настоящего тома, «Добро в учении Толстого и Ницше: философия и проповедь» , было опубликовано Львом Шестовым в 1900 году, когда ему было 30 лет. четыре года, а второй, Достоевский и Ницше: Философия трагедии , три года спустя, в 1903 году.В них можно найти начало страстных нападок на философский идеализм и общепринятую мораль, которые Шестов должен был непрерывно и со все возрастающей силой поддерживать на протяжении всей своей жизни, а также первые попытки поиска веры во всемогущего Бога мира. Библия, которая должна была исполниться и стать лейтмотивом всех его мыслей и писаний в последние десятилетия его жизни до самой его смерти в 1938 году.Именно открытие Шестовым произведений Фридриха Ницше в конце 1890-х годов решительно разрушило смутный моральный идеализм, который он принял в юности и который до сих пор отражен в его первой книге Шекспир и его критик Брандес , опубликованной в 1898 году. .С этого момента Ницше должен был оказывать большое влияние на его мысли, что привело его к беспощадному сомнению в отношении всех достоверностей, которые ранее составляли основу его собственного разума и которые для других по-прежнему сохраняли свой авторитет в неприкосновенности.
Размышляя над массой парадоксальных и сложных идей, которые он нашел у Ницше, Шестов не мог не отметить поразительное сходство, наряду с некоторыми фундаментальными различиями, между немецким философом и двумя величайшими русскими литературными деятелями второй половины XIX века. XIX век, Лев Толстой и Федор Достоевский.Тщательное сопоставление этих сходств и различий, а также серьезная оценка мысли всех трех писателей показались Шестову императивной и неизбежной необходимостью, и этому предприятию он посвятил несколько лет напряженного труда. Ценность плодов этих усилий широко признана. Князь Мирский, например, в своей авторитетной истории русской литературы называет Шестова величайшим комментатором Достоевского.
К Толстому, произведения которого он с детства увлеченно читал, Шестов всегда вызывал глубокое, хотя и не безоговорочное восхищение.Даже когда он писал «Добро в учении Толстого и Ницше », и когда моралистическая проповедь, которую аристократический писатель, облаченный в крестьянскую одежду и приведенный для работы в поле, годами бросал из своего убежища в Ясной Поляне. Русская интеллигенция и высшие классы стали ему все более и более противны, Шестов все еще чувствовал, что Толстой был и останется «великим писателем русской земли», как называл его Тургенев, и что монументальные достижения его ранних лет ставили его, в важном смысле, выше всяких упреков.Автор книги «Война и мир », по его мнению, не только превосходный романист, но и один из самых глубоких мыслителей, поскольку его литературное творчество, хотя и не написанное в форме философского трактата, было рождено неутолимым желанием Толстого. понять жизнь — то же желание, которое порождает всю великую философию. Война и мир сам по себе является философским трудом, потому что он рассматривает высший философский вопрос, вопрос о месте и судьбе человека во вселенной.
Жалость карьеры Толстого, как видит ее Шестов в «Добро в учении Толстого и Ницше », состоит в том, что великий писатель не счел возможным оставаться на «философской высоте» Войны и мира , но спустился оттуда в состояние грубой нетерпимости и фанатизма, в котором он чувствовал себя обязанным проповедовать людям и наказывать их за их недостатки и грехи. В массивном романе, написанном в начале 1860-х годов, Толстой не проявлял склонности брать на себя роль учителя или проповедника, но довольствовался тем, что «во всех случаях рука Творца».«Здесь он искал философию, которая не осудила бы никого, но оправдала бы всех, философию, которая, по выражению Ницше,« приняла бы на себя не только наказание, но и вину ». Здесь, где Толстой« смирил себя и его душа нашла покой », он был готов позволить каждому жить своей жизнью по-своему и смотреть на вещи по-своему. Но олимпийская терпимость и безмятежность духа, проявленные в Войне и мире , подошли к концу, и Толстой был вынужден стать полемист и проповедник, найдя таким образом объект, на котором можно высвободить накопившуюся в его сердце горечь из-за того, что ему стало казаться «загадочной и хрупкой неразрешимостью мучительных проблем жизни».»
Шестов видит перемену в настроении Толстого, уже ярко отраженную в Анне Карениной . Хотя Толстой в этом романе, как и в романе «Война и мир », все еще отказывается дать «добру» и общепринятой морали полную власть над человеком и все же отказывается принять идею о том, что «служение добру должно быть исключительной и сознательной целью нашей жизни », тем не менее он появляется в ней как поборник общепринятых моральных правил и судья тех, кто их нарушает.Прелюбодейная Анна, нарушившая правила, должна быть наказана. В неумолимом приведении Толстым Анны к горькому и позорному концу под колесами поезда писатель, по мнению Шестова, действовал из глубокой личной необходимости. Анну нужно было уничтожить, чтобы спасти самого Толстого, чтобы он сохранил свое «духовное равновесие» и то чувство твердой почвы под ногами, в котором он так отчаянно нуждался.
Переживания Толстого среди бедняков на улицах и в ночлежках Москвы, которые он так красноречиво описал в своей статье «Размышления о переписи населения Москвы», глубоко потрясли душу писателя.Движимый состраданием, он сначала попытался помочь некоторым несчастным обитателям улиц и приюта Лиапин, дав им небольшие суммы денег. Но быстро стало очевидно, как мало можно сделать таким образом. Выйдя в свое имение, Толстой пришел к выводу, что для того, чтобы условия, в которых жили бедные, были значительно улучшены такими же людьми, как он сам, членами образованного и богатого сословия, они должны сначала сами излечиться от болезни своего праздное существование, которое привело их к жизни, посвященной в основном, если не исключительно, интеллектуальным и эстетическим наслаждениям.Ученых и богатых нужно было научить выполнять и уважать физический труд, и тогда они могли бы научить плохое дело так же, как и слово, делать то же самое. Это убеждение заставило Толстого отказаться от европейской одежды, переодеться крестьянином и работать на полях Ясной Поляны по несколько часов в день. Тот факт, что проницательный ум великого писателя не мог не заметить, что это также никоим образом не облегчает страдания бедных и несчастных, не сильно беспокоил его; он, по словам Шестова, обеспечил себе личное чувство морального оправдания и превосходства над своими соседями, и это все, что ему тогда нужно, чтобы успокоить волнения своего духа.«Он хотел помочь не другим, а только для того, чтобы найти для себя подтверждение, удовлетворение, которого он не находил в своей литературной работе».
In Достоевский и Ницше: Философия трагедии Шестов предполагает, что Толстой был не менее чувствителен к ужасам существования, чем его русский коллега и немецкий философ. Перед ним также «открылась бездна … которая угрожала поглотить его; он видел торжество смерти на земле; он видел себя живым трупом.«Но Толстой не выдержал и сознательно отвел взгляд от того, что он видел и что могло привести его к более глубокой истине, чем та, которая выражена в моралистических проповедях его более поздних произведений. Это было потому, что философствование с его требованием за то, что он непоколебимо смотрел на реальность, стал для него сокрушительным и непосильным бременем, и он оставил его ради гораздо более легкой и утешительной задачи проповеди ». Пораженный ужасом, он проклял все высшие требования своей души и обратился за знаниями к посредственности, усредненности до пошлости, правильно почувствовав, что только из этих стихий может быть воздвигнута та стена, которая скроет ужасную правду от наших глаз если не навсегда, то хотя бы надолго.И он нашел свой Ding an sich и свои синтетические априорные суждения, то есть он узнал, как человек избавляется от всего проблемного и создает твердые принципы, по которым он может жить ». По Шестову, мотивы литературного творчества Толстого искусство и идеалистическая философия Иммануила Канта были идентичны: «все тревожные вопросы жизни должны быть тем или иным образом перенесены в сферу непознаваемого», ибо только так можно достичь «того спокойствия, которое люди, которые когда-то были испуганный призрачной ценностью больше всего в жизни.»
Именно эта жгучая потребность в спокойствии и его желание «любой ценой укротить этих разъяренных зверей, носящих иностранные имена, скептицизм и пессимизм», по мнению Шестова, побудили Толстого отождествить с Богом «добро» и «братскую любовь». и настаивать на том, что у человека нет другой цели. Такое учение, как указывает Шестов, чуждо библейской вере; Библия не отождествляет Бога с добром, но рассматривает его как небесного отца. Толстой, однако, не руководствовался верой или, более того, какими-либо подлинными религиозными соображениями.Его определение Бога и его превознесение братской совместной жизни всех людей как высшей цели жизни были чисто полемическими актами, направленными на то, чтобы наделить его правом требовать от каждого любви к ближнему как морального долга и бросать обвинения и анафему. у тех, кто не выполнил свои обязательства. Отождествление Толстым добра и братской любви с Богом не было, как он утверждал, порождением «чистейшего разума и правдивой совести», а порождено, по словам Шестова, его глубоким ужасом перед загадочной реальностью страданий и зла.
Великий писатель более позднего периода своей жизни, как предполагает наш критик в The Good in the Teaching of Tolstoy and Nietzsche , вовсе не был озабочен тем, чтобы привести людей к религиозной вере, а только упрекал их в том, что он считал их преднамеренным неверием. . И это потому, что ему самому, как и Ницше, не хватало подлинной веры. Но в то время как Ницше не пытался скрыть свое неверие, Толстой считал возможным «не рассказывать своим ученикам о пустоте своего сердца, из-за которой он воздвиг — с литературной точки зрения — такое блестящее здание своей проповеди. .«Однако факт, — настаивает Шестов, — заключается в том, что у Толстого, как и у Ницше, первопричиной разрушения его« философской »безмятежности было важное открытие, что Бог мертв. Для Толстого заявление о том, что Бог есть добро, вполне эквивалентно по смыслу, согласно Шестову, провозглашения Ницше, что Бог мертв, и оба писателя исходили из одного и того же фундаментального опыта и с одной и той же точки зрения.
In «Добро в учении Толстого и Ницше» Шестов яростно оспаривает отождествление морали Толстого с Богом и называет угрозы проповедника отлучить людей от церкви с помощью морали тщетными и пагубными.«Мы знаем, что это не так, что может быть вина против морали, но не против Бога, потому что мораль создана людьми, а Бог — нет». Далее он требует знать, по какому праву Толстой приравнял Бога к морали и тем самым перекрыл путь тем, кто искренне ищет его. В этой связи Шестов старается указать, что Ницше, как показывает беседа Заратустры со старым папой в главе г. Так говорил Заратустра , озаглавленной «Вне службы», не мог принять Бога, который тождественен добру и что Образ «судящего Бога» заставил Ницше — по мнению Шестова, подлинного искателя бога, — отступить от отвращения перед общепринятыми религиозными представлениями.Предполагается, что причина такого отношения Ницше заключалась в том, что после того, как его поразила ужасная болезнь, он, в отличие от Толстого, не мог представить себе возможность каких-либо изменений в своем состоянии. Он считал, что его положение необратимо, что для него больше нет будущего, а есть только прошлое. Как могла формула «благо Бог» что-то значить для человека в такой ситуации? Ницше не мог согласиться отождествлять Бога с братской любовью, потому что для него это означало бы «лишить Бога его священных атрибутов, всемогущества, всеведения и т. Д.и превознося до божества бедное, слабое человеческое чувство, которое может помочь только там, где можно обойтись без его помощи, и которое оказывается бессильным, когда потребность в его помощи острее всего ». Шестов вынужден заключить в The Good в Учении Толстого и Ницше говорится, что интеллектуальная честность и искренность Толстого в проповеди о том, что мораль и братская любовь суть Бог, не могут оставаться бесспорными, и что эта проповедь, как и гнев Толстого, изливается на тех, кто не верит или не может верить в средство от физического труда, которое он призывает как полную панацею от болезней общества, «может показаться нам не чем иным, как искусным — а может быть, и неумелым — средством избежать собственных сомнений.»
Спустя годы, после того как Шестов более глубоко задумался над художественными произведениями, которые Толстой написал после своего «обращения», и особенно после того, как он смог прочитать посмертно опубликованные рассказы великого писателя, он значительно пересмотрел свою оценку Толстого. В эссе «Страшный суд: последние произведения Толстого», включенном в его книгу на весах Иова (опубликована в 1929 году), Шестов видит в позднем периоде своей жизни Толстого не в первую очередь проповедником, а философом, действительно, гораздо более значительным. философом, чем он был, когда писал Война и мир .Если Платон прав, говоря, что философы «не озабочены ничем, кроме смерти и умирания», то русский романист в последние тридцать лет своей жизни, несомненно, был одним из величайших философов современности. Толстой, по словам Шестова, был вынужден уйти от «обычного пути», по которому он шел всю свою жизнь, в период своих великих романов, переживанием ужаса перед угрозой смерти, подобной той, которой подвергся главный герой его романа. незаконченный рассказ «Дневник сумасшедшего».«Впредь, — пишет Шестов, — все, что он делал, имело одну цель, одно значение: ослабить узы, связывающие его с этим общим для всех людей миром, сбросить за борт весь балласт, который придавал его судну равновесие, но в то же время предотвращал это от ухода с земли ». В блестящем анализе« Дневника сумасшедшего », а также трех других поздних рассказов Толстого:« Отец Сергий »,« Смерть Ивана Ильича »и« Мастер и человек », Шестов показывает, как во всех них Толстой пытался передать что-то из откровения, пережитого человеком, который действительно сталкивается с угрозой его уничтожения как личность, как такому человеку отныне должно явиться все, что он раньше считал реальным и твердым. иллюзорность и все, что когда-то казалось нереальным и иллюзорным, теперь должно казаться единственной реальностью.Именно осознание этого Толстым, заключает Шестов, побудило пожилого писателя в одну темную ночь вскоре после своего восьмидесятилетия, отмечавшегося во всем цивилизованном мире, покинуть Ясную Поляну для беспокойных и бесцельных странствий, которым предстояло положить конец. с его смертью через несколько недель в доме начальника станции на Астаповском перекрестке. «Его дела, его слава — все это было для него несчастьем, слишком тяжелым бременем для него. Кажется, он дрожащей, нетерпеливой рукой срывает знаки мудреца, мастера, уважаемого учителя.Чтобы он мог предстать перед Верховным судьей с невесомой душой, ему пришлось забыть и отречься от всего своего великолепного прошлого.
В «Добро в учении Толстого и Ницше» , однако, Шестов все еще настаивает на том, что Ницше был более честен, чем Толстой, в обращении с ужасами бытия, которые оба так остро пережили. Перед лицом этого личного несчастья, ужасной и непрекращающейся болезни, которой он страдал в течение стольких лет, Ницше был вынужден отказаться от эстетизма, отраженного в его ранней работе Рождение трагедии , а также от философии, которую он усвоил. от его ранних мастеров, Шопенгауэра и Вагнера, и повернулся в разных направлениях, чтобы найти точку dappui, которая могла бы поддерживать его в жизни и сделать его существование терпимым.
Какое-то время, отмечает Шестов, Ницше искал спасения в науке, но вскоре сама ясность и совершенство научных систем стали для него источником не утешения и мира, а обиды и раздражения. Он не мог понять, как «люди могут интересоваться логическими системами, исследовать внешний мир, не чувствуя того, от чего он сам так сильно пострадал, и оставаться равнодушными к тому, что так его пугало. Эти ученые, которые до старости не видел над своими научными работами трагедию нашего земного существования, открывшуюся ему при таких необыкновенных обстоятельствах, казалось ему младенцами.»
Поиски Ницше спасения в «хорошем» не были более успешными. В первый период после своего несчастья, когда он еще не глубоко пережил все страшные испытания, которые уготовила ему судьба, Ницше, как и Толстой, горячо верил в возможность спастись любовью и состраданием. По словам Шестова, его преданность морали в то время, когда он обратился к ней за спасением, была полной и безоговорочной. Ницше «выполнил все его требования, полностью подчинился ему, заглушил в себе все протесты, сделал из него своим богом.И, как всякий истинно верующий, он был верен объекту своего поклонения не только в действии, но и в мыслях ». Но, несмотря на всю полноту преданности философа ему, добро оказалось бессильным как инструмент спасения. Ницше обнаружил — первым сделал это, утверждает Шестов, — что «пытки Макбета предназначены не только для тех, кто служил« злу », но и для тех, кто посвятил себя добру».
Таким образом, не простое желание сбросить надоедливое и ограничивающее иго привело Ницше к отказу от общепринятой морали и к его формуле «за пределами добра и зла».«Ницше также нельзя считать обычным libre-penseur, который вел борьбу за право людей потакать своим аппетитам и прихотям и за их свободу наслаждаться плотскими радостями существования. Толстой был глубоко заблужден и вопиюще несправедливо поступил. Ницше, когда он связал его с Оскаром Уайльдом и дкадентами. Философ всегда вел аскетический и дисциплинированный образ жизни, следуя классической модели серьезного и добросовестного немецкого профессора, и его позиция была столь же далека от позиции обычного гедониста или вольнодумца, можно представить.Попав в ужасную ситуацию Ницше, обычные вольнодумцы, как предполагает Шестов, «приняли бы за Бога первого пришедшего идола, взяли бы на себя обязательство соблюдать самые абсурдные правила, чтобы хоть как-то оправдать свое существование», и они, несомненно, не отвергали сострадания, в котором страдающие считают себя так остро нуждающимися.
Ницше был слишком интеллектуально и морально честен, чтобы возвысить что-либо до высшего принципа только из-за своей настойчивой личной потребности в этом, хотя и он, как отмечает Шестов, в конце концов не избежал сползания до банальности проповеди своей доктрины bermensch , когда иначе он не мог снять невыносимое напряжение своей души.Но когда он перестал учить любви к ближнему и состраданию, он сделал это из-за болезненного осознания того, как мало сострадания, даже когда оно представляет собой нечто большее, чем платонические вздохи и высокопарные фразы, может сделать перед лицом чудовищного зла мир. Наш критик утверждает, что собственный опыт Ницше научил его, «что любовь и сострадание совершенно не могут помочь и что задача философа иная: не пропагандировать любовь к ближнему или сострадание, но покончить с этими чувствами, чтобы найти ответ на вопросы, которые они задают.«Ницше должен был спросить себя, нет ли какой-нибудь возвышенности, которая выше чувства сострадания. Он не мог принять учение Толстого о том, что мораль, то есть сострадание и братская любовь, есть высшее благо или сам Бог. Ибо он имел, как Шестов. выражает это, искал «божественные следы» в морали и не нашел их. «Мораль оказалась бессильной именно там, где люди имели бы право ожидать от нее величайшего проявления ее силы».
Ницше был вынужден пойти «за пределы добра и зла.«Вместо нравственности, любви к ближнему и сострадания он установил amor fati . По его собственным словам:« Моя формула человеческого величия — amor fati ; что никто не желает иметь ничего другого, ни вперед, ни назад, ни в вечности. Не только для того, чтобы терпеть необходимость, а тем более для того, чтобы скрыть ее — весь идеализм — это ложь перед необходимостью, — но и любить ее ». Этот вывод не был прихотью со стороны Ницше. Толстого подальше от жалких проституток московских улиц и убогих обитателей ночных приютов города, желания не «бороться с ненавистной несправедливостью», которую он не мог преодолеть.Но Ницше, добавляет Шестов, хотел большего: «он хотел, он был вынужден любить всю эту ненавистную реальность, потому что она была в нем, и он не мог спрятаться от нее». И всякий, кто возьмется опровергнуть философию Ницше, призывает далее Шестов, должен сначала опровергнуть ту жизнь, из которой она была взята, потому что не он изобрел идею amor fati , а скорее железная воля своего собственного фатума, которая принесла его всей его философии.
Много лет спустя, в своей работе «Афины и Иерусалим» (опубликованной в 1938 году), Шестов рассматривал поддержку Ницше amor fati как предательство его собственных более ранних попыток выйти «за пределы добра и зла» и как прискорбный откат в сторону фундаментальное учение классической философской традиции в том виде, в каком оно развивалось от Сократа через Спинозу до Гегеля.Здесь он предполагает, что Ницше не хватало смелости продолжать противодействовать силе Необходимости и игнорировать ее. Как Сократ и Спиноза, он был парализован раньше этого. «Вместо того, чтобы сражаться с чудовищем, — пишет Шестов о Ницше, — он становится его союзником, его рабом и направляет свой молот, правда, не против тех, кто отказывается подчиняться Необходимости (все подчиняются Необходимости, и мудрые тоже). как глупец), но против тех, кто отказывается рассматривать подчинение Необходимости как summum bonum и блаженство.Ницше гордится amor fati и основывает все свои надежды на том, что вы будете подобны Богу, зная добро и зло. Его философия, подобно Сократу и Спинозасу, превращается в назидание: человек должен с невозмутимостью вынести оба лика удачи; никакое зло не может постигнуть хорошего человека, потому что он должен найти счастье даже в быке Фаларисе ». Ницше, заключает Шестов, был соблазнен идеей необходимости. Ему, как и людям в целом, не удалось сохранить свою свободу и нарушить сквозь стену тех древних предрассудков, которые люди считают вечными истинами и поэтому почитают.«Он склонил свою голову и призвал людей простираться ниц перед жертвенником или троном чудовища, без которого человек не может жить».
В то время, когда он писал Хорошее учение Толстого и Ницше , однако, Шестов считал, что до Ницше была только одна альтернатива. Если он не возьмет на себя роль морального обличителя и не продолжит отрицать весь мир и всю жизнь, тогда он должен утвердить amor fati , любовь к «жизни такой, какая она есть на самом деле, какой она всегда была и всегда будет». .«Ницше утверждал жизнь и признавал полную законность ее притязаний». Слабая и безвкусная добродетель, добродетель, которая гордится своими лохмотьями, ему противна, — говорит здесь Шестов о Ницше, — ибо он слишком хорошо видит, с какой завистливой алчностью это касается силы, которую он не может победить и поэтому постоянно оскорбляет ».
Добродетель или «добро» бессильно, заключил Ницше, потому что противоречит природе. Природа беззаботно и безжалостно калечит, ранит, голодает и убивает людей.Издавать законы, запрещающие людям калечить, ранить, голодать и убивать своих товарищей и требовать от них сострадания и любви к ближнему, бесполезно, поскольку «когда мы почитаем закон, противоречащий природе, мы идем ложным путем». Ницше, по Шестову, «должен был отрицать идеализм и утверждать насекомое, то есть реальную жизнь с ее ужасами, ее несчастьями, ее преступлениями, ее пороками. Он был вынужден отказаться от редких островков добра, возвышающихся над водой. безбрежного моря зла, иначе перед ним открылись бы бездны пессимизма, отрицания, нигилизма.Человеческий закон должен исходить из природы и не может противоречить общим законам природы. Зло, или то, что люди называют злом, которое до сих пор представлялось нам самой ужасной и самой болезненной из всех загадок из-за его бессмысленного противостояния всему, что дорого нашему сердцу, перестало быть для Ницше злом. Более того, он находит добро в зле, а в злых людях он обнаруживает могущественную созидательную силу ».
Образ Ницше, который, возможно, наиболее широко распространен с момента его жизни до наших дней, — это образ упрямого и жестокого аморалиста, который стремился подорвать не только мораль, но и религию, и разрушить веру в Бога.Шестов, как мы видели, не может считать Ницше простым аморалистом. И он не соглашается признать в нем обычного врага веры. Напротив, он настаивает на том, что Ницше был страстным и набожным искателем Бога, и что его яростные нападки на религию были на самом деле направлены не на христианство как таковое, а на «некоторые широко распространенные общие места христианской доктрины, которые скрываются от всех и даже от Сам Ницше, смысл и свет истины ». В самом деле, наш критик хочет утверждать, что Ницше, провозглашая, например, свою формулу «за пределами добра и зла», с помощью которой философ имел в виду утверждать, что зло так же необходимо, как и добро, и что и то, и другое являются существенными условиями человеческого существования. , только подтверждали глубоко важное учение Нового Завета о том, что солнце одинаково восходит над праведными и нечестивыми (Матфея 5:45).Философское «по ту сторону добра и зла» есть, по Шестову, истина, «сокрытая в словах Евангелия, которые мы действительно признали, но никогда не осмелились внести в нашу философскую концепцию мира». Ницше отвергал традиционную мораль, в том числе по той причине, что она всегда чувствовала себя обязанной заклеймить большинство людей как нечестивых и приговорить их к наказанию. Когда он заявил, что необходимо идти дальше добра и зла, и потребовал «любви, которая не только несет за собой все наказание, но и всю вину», и «справедливости, которая оправдывает всех, кроме судьи», он фактически предлагал, — настаивает Шестов. Добро в учении Толстого и Ницше , комментарий к евангельской притче мытаря и фарисея.В Достоевский и Ницше Шестов указывает, что сам Ницше сравнивал свое отношение к морали с отношением Иисуса. Здесь он цитирует знаменитый отрывок из Так сказал Заратустра , в котором Заратустра говорит: «О, братья мои, однажды один человек заглянул в сердца добрых и праведных и сказал, что они фарисеи. Но Его не поняли. и сами праведники не были свободны понять Его: их дух заключен в тюрьму в их чистой совести.Глупость хороших людей неизмеримо проницательна. Однако это правда: хорошие должны быть фарисеями — у них нет выбора. Добро должно распять того, кто изобретает свою добродетель! Это правда! »Ницше, а также Достоевский, согласно комментарию Шестова к этому отрывку, превзошли принятую фарисейскую мораль тех, кто считает себя уже добрым и справедливым.« Они поняли будущее этого человека, если у человека действительно есть будущее покоится не на тех, кто сейчас радуется вере в то, что они уже обладают добротой и справедливостью, а на тех, кто не знает ни сна, ни отдыха, ни радости и продолжает бороться и искать.Отказавшись от старых идеалов, они идут навстречу новой реальности, какой бы ужасной и отвратительной она ни была.
Можно или нет должным образом сравнивать нравственное отношение Ницше с позицией Иисуса из Евангелий, ясно одно: Ницше, очевидно, не пришел к вере в Бога Иисуса или Библии в целом. Напротив, он был вынужден объявить о своем открытии, что Бог мертв, что люди убили его. Однако он сделал это без чувства самодовольства, но с чувством крайнего ужаса.По словам Шестова, «все сравнения, которые приходили ему в голову, казались ему недостаточными, чтобы передать другим ужасное внутреннее чувство опустошения, которое он испытал, когда увидел и услышал, что Бог был убит». Ницше отчаянно хотел верить, но не мог этого сделать. В этом, как предполагает Шестов, его опыт был аналогичен опыту Генриха Гейне в последние годы немецкого поэта. Случаи обоих этих людей демонстрируют очевидность предположения Толстого о том, что вера — это только вопрос личного решения.Они ясно показывают, что верить или не верить зависит не только от воли человека, и что заявление Толстого о том, что человеку нужно только желать, чтобы оно нашло моральную поддержку своей жизни, является не чем иным, как недоказанной и недоказуемой теорией. Стало очевидным, заключает Шестов, что для современного человека религиозную веру уже нельзя купить легко или дешево. Сначала нужно достоверно испытать все ужасы жизни, прежде чем у него появится хотя бы возможность достичь этого. «нам больше не дано искать, не ища.От нас требуется больше … Мы должны понять весь ужас ситуации, в которой Ницше говорит словами сумасшедшего, который скрывается за юмором Гейнеса, который испытал Данте после того, как прошел через ту дверь, которая породила трагедии Шекспира и романы и проповеди Толстого ».
Великий урок, который преподал нам Ницше, подчеркивает Шестов — и именно на этом он заключает The Good in the Учения Толстого и Ницше — заключается в том, что мы не можем отождествлять добро, сострадание или братскую любовь с Богом. что «мы должны искать то, что выше сострадания, выше добра; мы должны искать Бога.«Но сам Ницше не нашел или не мог найти Бога, точно так же, как Толстой не нашел или не мог. И, потерпев неудачу в своих поисках, Ницше, как и Толстой, уступил, по словам Шестова, бедному и пошлому утешению, которое давала проповедь. Роль bermensch или сверхчеловека в его более поздних работах точно такая же, как и роль добро в Толстом. Она позволяет ему избавиться от мучительных вопросов без ответа, снять горечь и унижение, оправдать себя перед мужчин и получить чувство превосходства над ними, сокрушать и уничтожать других во имя принципа.Проповедь Толстого родилась из его бессилия и полной беспомощности перед лицом трагедии и невзгод жизни. И тот же образец представлен у Ницше. «Он знал, что он всего лишь бедное жертвенное животное, и наделил себя возвышенными достоинствами bermensch . Он чувствовал, что все потеряно, что конец, последний конец настал, и в то же время сказал: если есть Бог, как я могу вынести мысль, что этот Бог — не я? »
Шестов считает, что и Толстой, и Ницше, наконец, не смогли справиться с «большим несчастьем, большим уродством, большим недоверием».«Они были так напуганы этим и так сильно страдали от них, что были вынуждены перестать допрашивать жизнь и пытались спрятаться от реальности. Но он спрашивает:« Может ли их проповедь навсегда скрыть от людей вопросы жизни? Может ли добро или bermensch примирить человека с несчастьем, абсурдностью нашего существования? »И он отвечает на свой вопрос.« Ясно, что поэзия проповедей Толстого и Ницше может удовлетворить только того, кто, судя по произведениям этих писателей, но также из переживаний собственной жизни не получает ничего, кроме стихов.Но для того, кто вступил в серьезный конфликт с жизнью, весь парад торжественных и элегантных слов, которые Толстой и Ницше готовят для триумфального марша своих богов, не означает ничего больше, чем любые другие церемонии, с помощью которых люди стремятся обогатить свою жизнь. »
Хотя Шестов рассматривает высказывания Ницше по поводу bermensch как знак того, что он тоже, наконец, потерпел поражение, его общее восхищение немецким философом в The Good in the Teaching of Tolstoy and Nietzsche и в Dostoevsky и Ницше при этом существенно не уменьшился.К общей откровенности и честности Ницше, а также к духовной силе, из которой исходили его мысли, Шестов выказывает в этих эссе непоколебимое уважение. Что он находит особенно ценным в философе, так это его призыв к личному, страстному, заинтересованному подходу к истине в отличие от абстрактного и теоретического подхода традиционной логики и эпистемологии. Ницше призывал к истинам, которые «режут нас на части». Он поставил под сомнение ценность этой объективности и полной непривязанности, которых требовал рационалист Спиноза в его знаменитом правиле Non ridere, non lugere, neque detectari, sedlligere .Именно от Ницше Шестов черпал вдохновение для своей собственной полемики на протяжении всей жизни не только против подавляющей и ограничивающей силы якобы вечных моральных правил, но и против того, что он считал неоправданной тиранией абстрактного безжизненного разума над отдельными живыми людьми.
Хотя величие Ницше бесспорно для Шестова, он не уклоняется от предположения, что более поздний Достоевский часто был гораздо более настойчивым и смелым в обращении к реальности, чем немецкий философ, и, конечно, более, чем его соотечественник Толстой.В то же время он утверждает, что творчество Достоевского последних двадцати лет жизни романиста также проникнуто глубокой двойственностью в этом отношении.
То, что Достоевский временами, даже в более поздний период своей жизни, чувствовал необходимость выступить в качестве проповедника и хранителя традиционной морали, очевидно, по мнению Шестова, из Преступление и наказание (1866). По мнению нашего критика, существенной заботой Достоевского в этом романе был вопрос: кто прав — тот, кто подчиняется правилам морали, даже когда не видит их смысла и оправдания, или тот, кто по тем или иным причинам решает их нарушить. ? Писатель не оставляет сомнений в своем ответе.Тот, кто нарушил правило, должен быть осужден. Достоевский так же беспощадно ведет своего Раскольникова к наказанию, как Толстой свою «Анну Каренину». И оба делают это по одной и той же причине, а именно для того, чтобы их моральное положение было твердо и безошибочно установлено. «Достоевский, как и Толстой, готов подставить другую щеку своему ближнему, но что касается своего права на добродетель, то он не только не откажется от нее, но и скорее лишит ее соседа. И в борьбе за это право он непримирим.»
Шестов самым неблагоприятным образом сравнивает обращение Достоевского с преступником в «Преступление и наказание» с трактовкой Шекспира в «Макбет ». Достоевский хочет только осудить Раскольникова, а Шекспир считает Макбета трагической и в некотором смысле благородной фигурой. Достоевский озабочен тем, чтобы довести до конца простую идею о том, что можно служить добру или злу, в то время как Шекспира это совершенно не интересует, но он хочет понять преступника и его преступление.Достоевский — банальный проповедник, Шекспир — глубокий философ. Но Достоевский не всегда довольствовался назидательными проповедями.
Пока не кончил писать Дом мертвых (1861 — 62) Достоевский, правда, оставался, по Шестову, твердым защитником традиционных истин, благочестивым последователем идеализма Белинского, человеком разума, надежда и гуманные чувства. В этот период он мог найти свое высшее счастье, как он сам признается, в том, чтобы пролить слезы над унижением и притеснением, нанесенным его изобретением, правительственным чиновником Макаром Девушкиным в Бедных людях .В тот период он все еще мог писать со всей искренностью: «Ваше сердце глубоко тронуто осознанием того, что самый забитый человек, самый низкий из низших, также является человеком и называется вашим братом». Хотя в то время, когда он писал «Дом мертвых», ему было уже сорок лет и он уже пережил свой солдатский срок и каторгу, а также личную ссору с Белинским, Достоевский, по-видимому, все еще не подозревал, как скоро его юношеская вера оставит его, и вся структура его идеализма и гуманизма рухнет вокруг его бусинки.
Обрушение произошло с ошеломляющей внезапностью. Его появление зафиксировано в Записках из подполья (1864), в которых, не сомневается Шестов, взгляды «подпольного человека» принадлежат самому автору. Как только самые заветные надежды русских идеалистов и реформаторов 1850-х годов начали сбываться, так же, как в России было отменено крепостное право и были приняты другие меры по улучшению общества, под аккомпанемент торжественного хора своих коллег, Достоевский приехал. мучительные выводы о том, что все его предыдущие судимости были не чем иным, как мошенничеством и обманом. Записки из подполья , пишет наш критик, «это душераздирающий крик ужаса, вырвавшийся от человека, внезапно убедившегося, что всю свою жизнь он лгал и притворялся, когда он уверял себя и других, что самая высокая цель жизни — это служить самому скромному человеку «. Дикие крики и неорганизованный бред главного героя этой книги, его горькое высмеивание всех высоких идеалов и его беспощадное издевательство над всеми благородными чувствами представляют, по Шестову, полное, хотя и несколько скрытое, отречение автора его книги. мимо.«Я не могу, я просто не могу продолжать притворяться. Я не могу продолжать жить ложью идей, и все же у меня нет другой правды. Что бы ни случилось. Так говорится в этих заметках, как бы Достоевский ни отрицал их в его комментарии «.
Ничего из того, что писатель прежде считал священным, отмечает Шестов, не сохранилось в Записках из подполья . Шиллер, человечность, поэзия Некрасовых, Хрустальный дворец — все безжалостно топчут. И не потому, что он сомневался в реальности своих юношеских идеалов, Достоевский так яростно восстал против них.Его настроение было таким, что их осознание, если оно произойдет, не вызовет от него ничего, кроме проклятия. И все же Достоевский не мог открыто признать чувства подполья своими собственными; его амбивалентность была настолько глубока, что ему всегда приходилось противопоставлять им свой резервный запас идеалов ».
Спустя два десятилетия в своем большом эссе под названием «Покорение самоочевидного: философия Достоевского», написанном в 1921 году в ознаменование столетней годовщины со дня рождения писателя, Шестов назвал Достоевского одним из тех, кому которого, согласно древней легенде, иногда посещает Ангел Смерти и дает одну из бесчисленных пар глаз, которыми покрыто его тело, так что отныне человек видит новые и странные вещи, которых он не видел раньше и которые те, у кого только естественные глаза, не могут видеть.Здесь он пишет: «Тот, кому Ангел Смерти дал таинственный дар, не имеет и больше не может обладать уверенностью, которая сопровождает наши обычные суждения и придает прекрасную прочность истинам нашего общего сознания. Отныне он должен жить без уверенности. и без убеждения … Он видит, что ни дела разума, ни какие-либо человеческие дела не могут спасти его. Он прошел проверку, с какой тщательностью, с какими сверхчеловеческими усилиями, все, что человек может сделать с помощью своего разума. , все стеклянные дворцы, и видел, что это были не дворцы, а курятники и муравейники, потому что они были построены по принципу смерти, дважды два четыре.И чем больше он это чувствует, тем яростнее из глубины его души поднимается тот более чем рациональный, неизвестный, тот первобытный хаос, который больше всего ужасает наше обычное сознание. Вот почему в своей теории познания Достоевский отрицает всякую определенность и противопоставляет ее как своей высшей цели — неопределенности. Вот почему он просто высовывает язык перед доказательствами, хвалит каприз, безусловный, непредвиденный, всегда иррациональный, и высмеивает все человеческие добродетели ». Достоевского можно понять, убеждает Шестов в этом эссе, только читателям, желающим предпринять героические усилия, чтобы разгадать его секрет.«Тем, кто хочет сблизиться с Достоевским, придется проделать целый ряд специальных упражнений на духовность; жить часами, днями, годами среди взаимно противоречивых самоочевидностей. Другого пути нет. Только так можно. Поймите, что время имеет не одно, а два или даже больше измерений, что законы существуют не на все времена, а даны и только для того, чтобы преступление могло умножиться, что именно вера, а не дела могут спасти души, что смерть Сократ может встряхнуть грозного дважды два четыре, что Бог требует всегда и только невозможное, чтобы гадкий утенок мог превратиться в прекрасного белого лебедя, чтобы у всего было начало, но ничто не кончилось, этот каприз имеет право гарантировать, что фантастика реальнее естественного, что жизнь — это смерть, а смерть — это жизнь, и другие истины того же рода, которые смотрят на нас странными и ужасными глазами с каждой страницы сочинений Достоевского.Предлагая эти представления в своих произведениях, Достоевский подвергал наиболее радикальной критике человеческого знания из когда-либо созданных и, по мнению Шестова, гораздо более достоверной, чем критика Канта. Но Достоевский, как здесь также настаивает наш критик, не был способен на полное постоянство в провозглашении новых истин, которые он видел. То, что он не всегда мог нести бремя, которое они возлагали на него и часто возвращались к принятым истинам, очевидно из таких его персонажей, как Алеша, отец Зосима и отец Терапонт. , которые представляют установки и идеи общего сознания и снова и снова подтверждают гуманитарные, идеалистические, сентиментальные, позитивистские мысли, которые лелеют большинство людей.
В Достоевский и Ницше Шестов указывает, что писатель, когда писал «Братьев Карамазовы», уже не мог верить в спасительную силу идеи «люби ближнего своего». В самом деле, он пришел к выводу, что осознание собственной неспособности каким-либо образом облегчить страдания людей может даже превратить любовь, которая была в сердце к ним, в ненависть, и это осознание привело его к поиску силы и власти. , тот же Wille zur Macht , провозглашенный Ницше.Но это только одно из многих сходств, которые Шестов отмечает между этими двумя мужчинами, которых он считает глубоко родственными. Он ссылается также на вопрос, который Достоевский задает Ивану Карамазову: «Зачем нам познавать это дьявольское добро и зло, если оно так дорого стоит?» Он замечает, что эта мысль та же самая, что позже выразил Ницше. «Дьявольское добро и зло, которое казалось случайной фазой из уст литературного героя, чуждого автору, теперь оформлено как научная формула, выходящая за рамки добра и зла, и в этом облике бросает вызов тысячелетняя вера всех мудрецов прошлого и настоящего.«Не менее значительным сходством между двумя великими писателями является их общий апофеоз индивидуальности и индивидуальной свободы. Шестов цитирует заявление Нейцше о том, что истинный философ« подтверждает свое существование и его единственное, возможно, даже до высокомерия: pereat mundus, указанная философия, указанная философия, фиам! », и он замечает, что эти последние слова являются почти точным переводом вызова подпольного человека:« Должен ли мир пойти на травку или я хочу выпить чаю? Я говорю, что мир может испортиться, пока я получаю чай.«Здесь слова, которые главный герой Достоевского« бросил в порыве слепоты и гнева на несчастную проститутку »,« переведены известным философом на язык Цицерона и Горация и предложены как формула, определяющая сущность высших человеческих устремлений. «Подпольный человек, как Ницше (в период до того, как он был парализован своим amor fati ), восстает против необходимых и универсальных законов, будь то в науке или этике. потому что «кажутся ему принципами смерти».Это каменная стена, о которую он должен биться головой, даже если он не может надеяться разрушить ее. Универсальные нормы, гармония и регулярность, которых так страстно ищут научные исследования и этическая теория, не утешают таких людей, как Достоевский и Ницше , но подавляют и душат их дух.
Шестов указывает, что юношеский идеализм и Ницше, и Достоевского был разрушен их личной встречей с ужасами реального существования. Опыт их собственной жизни привел обоих к тому, что наш критик называет «философией трагедии».Шестов красноречиво излагает свою точку зрения: «… когда оказывается, что идеализм не выдержал напора действительности, когда человек, волею судеб столкнувшийся лоб в лоб с реальной жизнью, вдруг видит свой ужас что все прекрасные априорные суждения были ложными, то только в первый раз его охватывает то неудержимое сомнение, которое мгновенно разрушает кажущиеся очень прочными стены старых воздушных замков ». Именно тогда, добавляет Шестов, этот человек« переживает за впервые в жизни то ужасное одиночество, от которого не может избавить даже самое преданное и любящее сердце.И именно здесь начинается философия трагедии. Надежда потеряна навсегда, но жизнь остается, и впереди еще много жизни ».
Достоевский, как и Ницше, открыл, что никакое увеличение научных знаний и никакие социальные изменения не устранят существенную трагедию человеческого существования. Надежда на социальный прогресс, ожидание будущего счастья для всего человечества не может компенсировать мучения, которые испытывает каждый отдельный человек. Поднимая вопрос в «Братья Карамазовы» , можно ли купить всеобщее счастье людей ценой страданий одного невинного ребенка, Достоевский, по словам Шестова, «наконец-то пришел к своему последнему слову.Теперь он открыто заявляет о том, что он сначала выразил, с оговорками и аннотациями в Записках из подполья : абсолютно никакой гармонии, никаких идей, никакой любви или прощения, короче говоря, ничто из того, что мудрецы придумали с древних времен до наших дней, не может оправдать чушь и нелепость в судьбе отдельного человека ».
Не может быть ни красоты, ни благородства в царстве, куда были вынуждены уйти Достоевский и Ницше, допускает Шестов. В самом деле, может быть только уродство и несчастье.Но одно можно сказать наверняка: «здесь есть реальность — новая, неслыханная, незамеченная реальность, или, лучше сказать, реальность, которая никогда раньше не демонстрировалась». Ницше упрекал «маленьких людей», позитивистов и идеалистов в том, что они не уважают большое несчастье, великое уродство, великую неудачу. Тем самым он предлагает Шестову то, что тот называет «последним словом» философии трагедии. «Не переносить все ужасы жизни в область Ding an sich , за пределы синтетических априорных суждений, а уважать их!»
И все же принятие ужасов жизни и уважение к ним на самом деле не последнее, а лишь предпоследнее слово философии трагедии.Это не должно было быть последним словом для Шестова и не для Достоевского. Шестов напоминает нам, что Раскольников Достоевского в Преступлении и наказании ищет спасения в Библии. «Он снова пытается возродить в своей памяти то понимание Евангелия, которое не отвергает молитв и надежд одинокого, разоренного человека под предлогом, что думать о своем личном горе — значит быть эгоистом. Он знает, что его стенания будут здесь можно услышать, что его больше не будут вешать на вешалку с идеями, что ему будет позволено рассказать всю ужасную, скрытую правду о себе, правду, с которой он родился в Божьем мире.»
И для Шестова последнее и самое верное слово — Бог библейской веры. В эссе настоящего сборника, написанных, когда автор был еще совсем молод, эта мысль высказывается лишь изредка, но позже она стала бременем всего его написания. Здесь он исследует осознание трагической бездны жизни, которое он обнаружил в произведениях Достоевского, Толстого и Ницше. Позже он должен был прояснить в великом комментарии к крику псалмопевца: «Из глубины я воззвал к Тебе, Господи», связь между трагедиями бытия и Богом: «Какая связь существует между глубинами и Господь? Когда нет ни глубины, ни чести, ни отчаяния, человек не видит Бога и не взывает к Нему.«И в последних и величайших своих произведениях, Афинах и Иерусалиме, он должен был выразить с помощью библейского языка окончательную истину, к которой привели его страстные, продолжительные поиски и размышления:« Вера, только вера, которая взирает на Создателя и что Он вдохновляет, излучает высшие и решающие истины относительно того, что есть, а что нет. Реальность преображается. Небеса прославляют Господа. Пророки и апостолы в экстазе восклицают: смерть, где твое жало? Черт, где твоя победа? И все возвещают: омовения глаз не видели, и ухо не слышало, и не входило в сердце человека то, что Бог приготовил для любящих Его.
