Экзистенциализма основоположник: Экзистенциализм, позитивизм и неомарксизм
Экзистенциализм в творчестве Достоевского | Makulatura
3 530
Экзистенциальное мышление царит в головах нового поколения. Молодые люди определяют свое мировоззрение как «экзистенциальное». Зачастую понятие «экзистенциализм» трактуется неправильно. Это происходит из—за расчленения известных учений на цитаты. По отдельности они имеют другой смысл, нежели в контексте. «Макулатура» разбирается в этом философском течении на примере Ф.М. Достоевского.
Проблема популизма и чрезмерного хайпа вокруг экзистенциализма не нова. Еще Сартр в эссе «Экзистенциализм — это гуманизм» писал:
Большинству людей, употребляющих это слово, было бы трудно его разъяснить, ибо ныне, когда оно стало модным, экзистенциалистами стали объявлять и музыкантов, и художников. Слово приобрело такой широкий и пространный смысл, что, в сущности, уже ничего не означает.
Почему Достоевский
Творчество Достоевского — всеобъемлюще. Его трудно ухватить, привязать к теории.
Философия экзистенциализма рассматривает внутренний мир человека в состояниях страха, вины, безысходности. Представители этого течения считают, что среди трудностей и абсурда, человек полностью раскрывается. Каждое мгновение жизни ценно для него. Такой ситуацией для человечества и стал XX век.
Почему экзистенциализм появился в России
Русский экзистенциализм возник раньше, чем французский. Причина в образе жизни русского. Стрессовые ситуации стали повседневным блюдом русского человека. Его особенный характер отторгает внешний мир.
Конфликт внутреннего мира с окружающим происходит непрерывно. Это создает благоприятную почву для возникновения философии экзистенциализма.
Предпосылки возникновения
Развитие экзистенциализма в России пришлось на конец XIX века. Государство переживало переход от крепостнической системы к капиталистической.
Основными причинами популярности экзистенциализма стали:
- жесткая политика властей (контрреформы Александра III)
- беззаконие по отношению к низшему классу
- упадок культуры
- изменение ценностных ориентиров
- отсутствие доверия к правительству
- политическая недееспособность народа
Достоевский и все-все-все
Н.А. Бердяев писал:
Достоевский сделал великое открытие о человеке, после него человек уже не тот, что до него. Только Кьеркегор и Ницше могут разделить с ним славу зачинателей новой эры. Достоевский создает новое видение человеческой натуры.
Он выделяет в человеке следующее:
- Склонность к унынию
- Противоречивость и трагичность
- Страдание
- Беззащитность перед искушением
- Стремление к свободе
Впервые Л. Шестов в книге «Достоевский и Ницше» трактует писателя как философа экзистенциализма. Шестов писал о философии Достоевского как о «философии трагедии, философии безнадежности, отчаяния, безумия – даже смерти».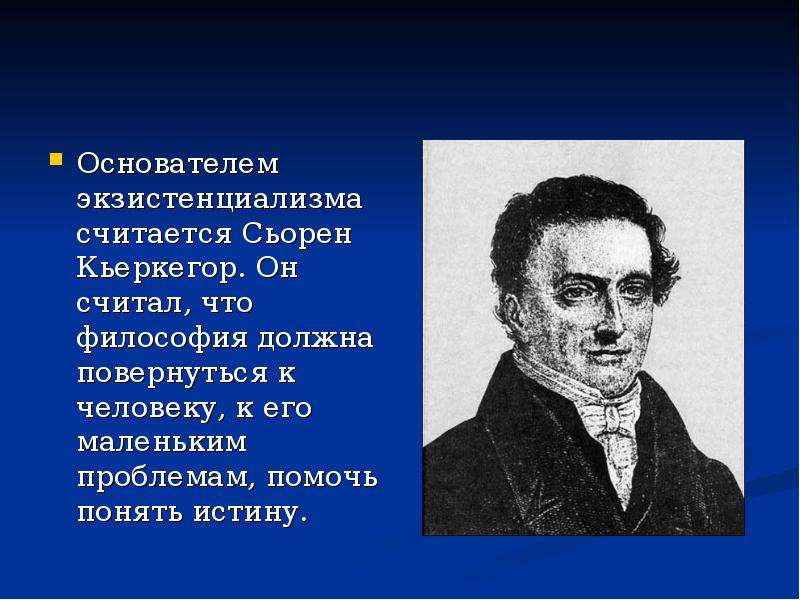
Свобода у Достоевского
Свобода – ведущее понятие экзистенциализма. Свобода вместе с отчаянием провоцирует человека на непредсказуемые, иногда жестокие поступки.
Поиск свободы Раскольниковым приводит его к убийству двух людей. После этого поступка Достоевский подводит героя ко второму понятию в своей философии — ответственности за свободу и поступки. Герой испытывает серьезные душевные муки вплоть до разоблачения.
Личность у Достоевского
Философия экзистенциализма напрямую связана с конкретной личностью. В середине — несостоявшийся человек с деформированным мировоззрением. В центре произведений Достоевского — судьба незаурядных личностей. Раскольников в «Преступлении…», Ставрогин в «Бесах».
Что окружает персонажей Достоевского
Достоевский не рисует красочных пейзажей в произведениях. Он не описывает быт людей и нравы эпохи. В его книгах не увидишь фрагмент о модных салонах, которые символизировали время. Тусклые, серые улицы и обшарпанные комнаты на чердаке – типичный Петербург Достоевского. Каждая убогая хибара отражает внутренний мир персонажей. Чаще всего они пребывают в состоянии отчаяния или тоски. Цвет грязных обоев не отличается от цвета мыслей их хозяев.
Каждая убогая хибара отражает внутренний мир персонажей. Чаще всего они пребывают в состоянии отчаяния или тоски. Цвет грязных обоев не отличается от цвета мыслей их хозяев.
О ком пишет Достоевский
Федор Михайлович замечал, что его произведения о нетипичных героях эпохи. Именно в таких персонажах проявляются характерные особенности своего времени. Среднестатистический человек не подходит для этой роли. Все его качества ровны и заурядны. Такой персонаж не отличается от окружающих. Поэтому нет конфликта внутреннего мира с внешним. Экзистенциализм же изучает обратное состояние человека.
У Достоевского получалось описать это крайнее, катастрофическое состояние души. Он увидел самое дно русской жизни. Показал нищенское, убогое существование пьяниц и бедняков. Их будни в мерзких полуподвальных кабаках. Эти люди находятся на грани, их жизнь доведена до предела. Постоянный конфликт с обществом отнимает жизненные силы.
Раскольников не стал бы убивать старушку, будь он богаче или счастливее.
Но Родион Раскольников доведен до отчаяния — денег в семье не хватает, одежда поношена, безрадостные мысли поглощают его. Внешний мир, обстановка вокруг подталкивали его к убийству. Концентрация всех факторов происходит в момент, когда герой решает свою судьбу. Ситуация критического выбора главенствует в экзистенциализме.
Философские взгляды Достоевского
Достоевский создал новый подход к антропологии человека. В основе– религиозный фундамент. Авторитет бога у писателя не подвергался сомнениям. Его интересовали вопросы бытия божьего и бессмертия человеческой души. Достоевский считал, что духовное перерождение возможно только с помощью веры. Религия дарит человеку надежду на бессмертие. Мысль о перерождении и страшном суде заставляет человека жить достойно.
Достоевский считал себя реалистом. В его «Записной книжке» отмечалось: «При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен, хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему». В своих произведениях Достоевский добирался до самой сути, сидел в печенках и выворачивал скрытое наизнанку.
Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен, хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему». В своих произведениях Достоевский добирался до самой сути, сидел в печенках и выворачивал скрытое наизнанку.
Достоевский не учил людей жить. Он показывал, почему человек живет именно так. Затем Достоевский прокладывал для человека путь к духовной реинкарнации. Она заключалась в гармоничных отношениях с внешним миром.
Достоевский считал русского человека способным к духовному возрождению. Это связано с высокой оценкой личностных качеств россиян. Русский человек становился образцом для других, первопроходцем в переоценке традиционных ценностей. Именно так, по мнению Достоевского, получила развитие русская философия.
«Записки из подполья»
В «Записках из подполья» впервые появляются экзистенциальные мотивы. Достоевский критикует устоявшийся уклад, систему ценностей и норм. Он показывает иррациональность общества с особенной иронией.
Писатель размышляет над знаковым вопросом:
«Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?».
Речь идет о выборе между личным желанием и объективной реальностью. Никто не может заставить героя отказаться от своих планов. Пусть хоть землетрясение, а чай надо выпить! Здесь сталкиваются субъективные интересы человека и объективная реальность. Человек, по Достоевскому, может влиять на нее. Ведь если отказаться от идеи выпить чай в любой момент, значит признать отсутствие выбора.
Нельзя назвать Достоевского отцом основателем экзистенциализма. Но многие его мысли опередили свое время и в 20 веке послужили фундаментом для учений классического экзистенциализма
2.
 Экзистенциализм. Философия: Учебник для вузов
Экзистенциализм. Философия: Учебник для вузов2. Экзистенциализм
Экзистенциализм (от позднелат. exsistentia – существование), или философия существования, – философское направление XX в., идеи которого получили широкое распространение во многих европейских странах, а также в США. Его основоположниками на Западе считаются немецкие философы Карл Ясперс (1883—1969) и Мартин Хайдеггер (1889—1976), французские философы Жан Поль Сартр (1905—1980), Габриель Марсель (1889—1973), а также Морис Мерло-Понти (1908—1961) и Альбер Камю (1913—1960). К экзистенциализму близко такое религиозно-философское течение, как персонализм.
Экзистенциализм не является академической доктриной, его основные темы – человеческое существование, судьба личности, вера и неверие, утрата и обретение смысла жизни, – близкие любому художнику, писателю, поэту, с одной стороны, сделали это направление популярным среди художественной интеллигенции, а с другой – побудили самих экзистенциалистов обращаться к языку искусства (Ж.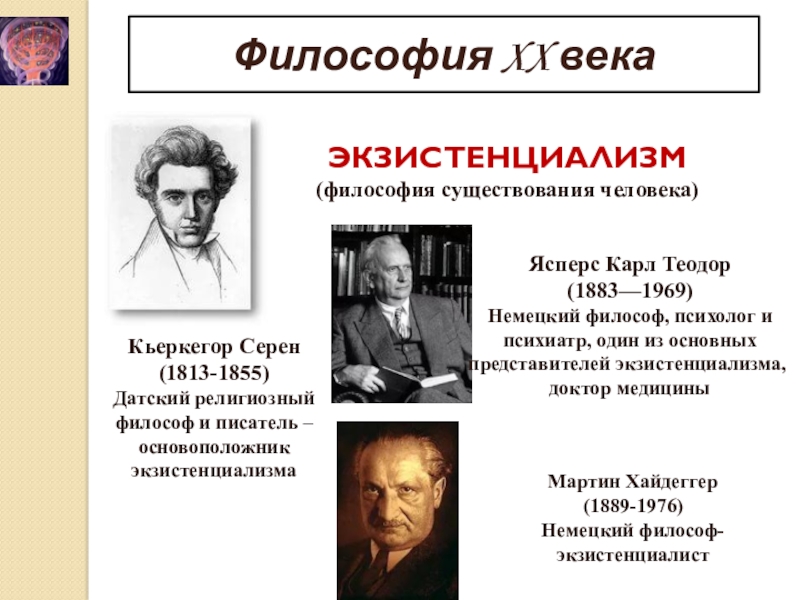
В отличие от методологизма и гносеологизма, распространенных в философии конца XIX – начала XX в., экзистенциализм пытается возродить онтологию (учение о бытии). С философией жизни его сближает стремление понять бытие как нечто непосредственное и преодолеть интеллектуализм как традиционной рационалистической философии, так и науки. Бытие, согласно экзистенциализму, не есть ни эмпирическая реальность, данная нам во внешнем восприятии, ни рациональная конструкция, предлагаемая научным мышлением, ни мир «умопостигаемых сущностей», познание которого составляло задачу классического рационализма; во всех этих случаях проводилось различение и даже противопоставление субъекта объекту.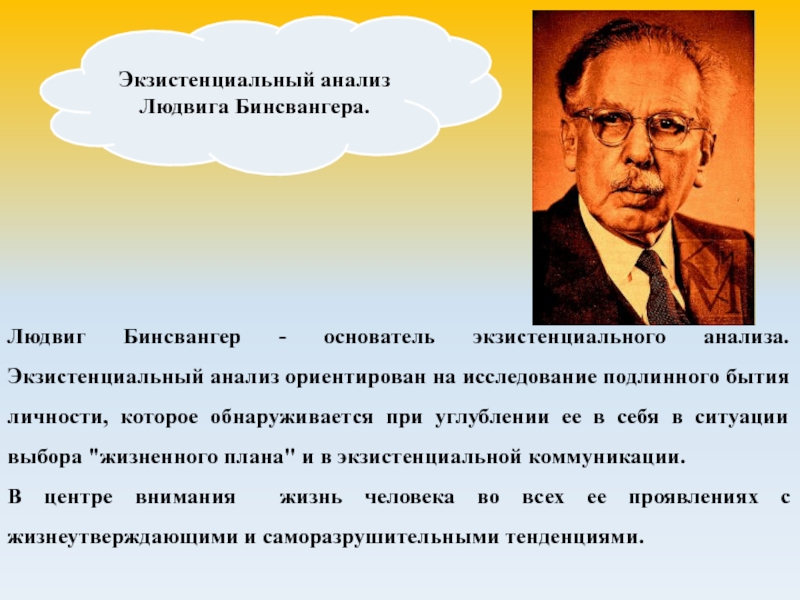 Бытие должно быть постигнуто только интуитивно, как некая изначальная непосредственная, нерасчлененная целостность субъекта и объекта. Но в отличие от философии жизни, выделившей в качестве изначального и подлинного бытия само переживание, экзистенциализм стремится преодолеть психологизм и найти ядро непосредственного переживания, которое не может быть названо просто переживанием, т. е. чем-то субъективным. В качестве такого ядра экзистенциализм выдвигает переживание субъектом своего «бытия-в-мире». Бытие здесь дано непосредственно, в виде собственного бытия – существования или экзистенции. Для описания ее структуры многие представители экзистенциализма прибегают к феноменологическому методу Гуссерля, выделяя в качестве структуры сознания его направленность на другое (интенциональность). В отличие от того, что в философии жизни называлось «жизнью», переживанием, которое как бы замкнуто в себе, экзистенция открыта, она направлена на другое, становящееся ее центром притяжения. Согласно атеистическому варианту экзистенциализма, экзистенция есть бытие, направленное к ничто и сознающее свою конечность.
Бытие должно быть постигнуто только интуитивно, как некая изначальная непосредственная, нерасчлененная целостность субъекта и объекта. Но в отличие от философии жизни, выделившей в качестве изначального и подлинного бытия само переживание, экзистенциализм стремится преодолеть психологизм и найти ядро непосредственного переживания, которое не может быть названо просто переживанием, т. е. чем-то субъективным. В качестве такого ядра экзистенциализм выдвигает переживание субъектом своего «бытия-в-мире». Бытие здесь дано непосредственно, в виде собственного бытия – существования или экзистенции. Для описания ее структуры многие представители экзистенциализма прибегают к феноменологическому методу Гуссерля, выделяя в качестве структуры сознания его направленность на другое (интенциональность). В отличие от того, что в философии жизни называлось «жизнью», переживанием, которое как бы замкнуто в себе, экзистенция открыта, она направлена на другое, становящееся ее центром притяжения. Согласно атеистическому варианту экзистенциализма, экзистенция есть бытие, направленное к ничто и сознающее свою конечность. Поэтому описание структуры экзистенции, предпринятое Хайдеггером, есть описание ряда модусов (свойств) человеческого существования. Такие модусы экзистенции, как забота, страх, решимость, совесть и др., определяются через смерть, они суть различные способы соприкосновения с ничто, движения к нему, убегания от него и т. д. Как считает Ясперс, именно в пограничных ситуациях (в моменты глубочайших потрясений, перед лицом смерти) человек прозревает экзистенцию как глубочайший корень своего существа.
Поэтому описание структуры экзистенции, предпринятое Хайдеггером, есть описание ряда модусов (свойств) человеческого существования. Такие модусы экзистенции, как забота, страх, решимость, совесть и др., определяются через смерть, они суть различные способы соприкосновения с ничто, движения к нему, убегания от него и т. д. Как считает Ясперс, именно в пограничных ситуациях (в моменты глубочайших потрясений, перед лицом смерти) человек прозревает экзистенцию как глубочайший корень своего существа.
Итак, существенное определение нашего бытия, именуемого экзистенцией, есть его незамкнутость, открытость, предпосылкой чего выступает конечность экзистенции, ее смертность. В силу своей конечности экзистенция является временной, и ее временность существенно отличается от объективного времени как чистого количества, безразличного по отношению к заполняющему его содержанию. Экзистенциалисты отличают подлинную, т. е. экзистенциальную, временность (она же историчность) от физического времени, которое производно от нее. Они подчеркивают в феномене времени определяющее значение будущего и рассматривают его в связи с такими экзистенциалами (модусами экзистенции), как решимость, проект, надежда, отмечая тем самым личностно-исторический (а не безлично-космический) характер времени и утверждая его связь с человеческой деятельностью, исканием, напряжением, ожиданием. Историчность человеческого существования выражается, согласно экзистенциализму, в том, что оно всегда находит себя в определенной ситуации, в которую оно «заброшено» и с которой вынуждено считаться. Принадлежность к определенному народу, сословию, наличие у индивида тех или иных биологических, психологических и других качеств, все это – эмпирическое выражение изначально-ситуационного характера экзистенции, того, что она есть «бытие-в-мире». Временность, историчность и «ситуационность» экзистенции – модусы ее конечности.
Они подчеркивают в феномене времени определяющее значение будущего и рассматривают его в связи с такими экзистенциалами (модусами экзистенции), как решимость, проект, надежда, отмечая тем самым личностно-исторический (а не безлично-космический) характер времени и утверждая его связь с человеческой деятельностью, исканием, напряжением, ожиданием. Историчность человеческого существования выражается, согласно экзистенциализму, в том, что оно всегда находит себя в определенной ситуации, в которую оно «заброшено» и с которой вынуждено считаться. Принадлежность к определенному народу, сословию, наличие у индивида тех или иных биологических, психологических и других качеств, все это – эмпирическое выражение изначально-ситуационного характера экзистенции, того, что она есть «бытие-в-мире». Временность, историчность и «ситуационность» экзистенции – модусы ее конечности.
Другим важнейшим определением экзистенции является трансцендирование, т. е. выход за свои пределы. Трансцендентное и сам акт трансцендирования понимаются различными представителями экзистенциализма неодинаково. С точки зрения религиозного экзистенциализма трансцендентное – это Бог. Согласно Сартру и Камю, трансценденция есть ничто, выступающее как глубочайшая тайна экзистенции. Если у Ясперса, Марселя, позднего Хайдеггера, признающих реальность трансцендентного, преобладает момент символический и даже мифопоэтический (у Хайдеггера), поскольку трансцендентное невозможно рационально познать, а можно лишь «намекнуть» на него, то учение Сартра и Камю, ставящих своей задачей показать иллюзорность трансценденции, носит в этом отношении критический и даже нигилистический характер.
С точки зрения религиозного экзистенциализма трансцендентное – это Бог. Согласно Сартру и Камю, трансценденция есть ничто, выступающее как глубочайшая тайна экзистенции. Если у Ясперса, Марселя, позднего Хайдеггера, признающих реальность трансцендентного, преобладает момент символический и даже мифопоэтический (у Хайдеггера), поскольку трансцендентное невозможно рационально познать, а можно лишь «намекнуть» на него, то учение Сартра и Камю, ставящих своей задачей показать иллюзорность трансценденции, носит в этом отношении критический и даже нигилистический характер.
Социальный смысл учения об экзистенции и трансценденции раскрывается в экзистенциалистских концепциях личности и свободы. Личность, согласно экзистенциализму, есть самоцель, коллектив – средство, обеспечивающее возможность материального существования составляющих его индивидов. Общество, далее, призвано обеспечивать возможность свободного духовного развития каждой личности, гарантируя ей правовой порядок, ограждающий личность от посягательств на ее свободу. Но роль общества остается при этом, в сущности, отрицательной: свобода, которую оно может предоставить индивиду, это «свобода от» – свобода экономическая, политическая и т. п. Подлинная же свобода, «свобода для», начинается по ту сторону социальной сферы, в мире духовной жизни личности, где индивиды сталкиваются не как производители материальных благ и не как субъекты правовых отношений, а как экзистенции. Общество при этом лишь ограничивает личность. Отсюда центр тяжести перемещается с родового, общественного на единичного человека. Последний, однако, важен не сам по себе, а лишь как «явленность трансцендентного». В этой связи вводится различение индивидуальности и личности. Экзистенциализм вычленяет в человеке как бы несколько слоев: природный (биологически-физиологический и психологический), изучаемый естественными науками и составляющий его природную, эмпирическую индивидуальность; социальный , изучаемый социологией; духовный, являющийся предметом изучения истории, философии, искусствознания и т.
Но роль общества остается при этом, в сущности, отрицательной: свобода, которую оно может предоставить индивиду, это «свобода от» – свобода экономическая, политическая и т. п. Подлинная же свобода, «свобода для», начинается по ту сторону социальной сферы, в мире духовной жизни личности, где индивиды сталкиваются не как производители материальных благ и не как субъекты правовых отношений, а как экзистенции. Общество при этом лишь ограничивает личность. Отсюда центр тяжести перемещается с родового, общественного на единичного человека. Последний, однако, важен не сам по себе, а лишь как «явленность трансцендентного». В этой связи вводится различение индивидуальности и личности. Экзистенциализм вычленяет в человеке как бы несколько слоев: природный (биологически-физиологический и психологический), изучаемый естественными науками и составляющий его природную, эмпирическую индивидуальность; социальный , изучаемый социологией; духовный, являющийся предметом изучения истории, философии, искусствознания и т. д., и, наконец, экзистенциальный, который не поддается научному познанию и может быть лишь освещен или «прояснен» философией (Ясперс).
д., и, наконец, экзистенциальный, который не поддается научному познанию и может быть лишь освещен или «прояснен» философией (Ясперс).
Экзистенциализм отвергает как рационалистическую просветительскую традицию, сводящую свободу к познанию необходимости, гак и гуманистически-натуралистическую, для которой свобода состоит в раскрытии природных задатков человека, раскрепощении его «сущностных» сил. Свобода, согласно экзистенциализму, должна быть понята исходя из экзистенции. Поскольку же структура экзистенций выражается в «направленности-на», в трансцендировании, то понимание свободы различными представителями экзистенциализма определяется их трактовкой трансценденции. Согласно Марселю и Ясперсу, свободу можно обрести лишь в Боге. Согласно Сартру, у которого трансценденция – это ничто, свобода есть отрицательность по отношению к бытию, которое он трактует как эмпирически сущее. Человек свободен в том смысле, что он сам «проектирует», создает себя, выбирает себя, не определяясь ничем, кроме собственной субъективности, сущность которой – в полной независимости от чего бы то ни было. Человек одинок и лишен всякого онтологического «основания». Учение Сартра о свободе служит выражением позиции крайнего индивидуализма. Свобода предстает в экзистенциализме как тяжелое бремя, которое должен нести человек, поскольку он личность. Он может отказаться от своей свободы, перестать быть самим собой, стать «как все», но только ценой отказа от себя как личности. Мир, в который при этом погружается человек, носит у Хайдеггера название «man» (немецкое безличное местоимение): это безличный мир, в котором все анонимно, в котором нет субъектов действия, в котором все – «другие», и человек даже по отношению к самому себе является «другим»; это мир, в котором никто ничего не решает, а потому и не несет ни за что ответственности.
Человек одинок и лишен всякого онтологического «основания». Учение Сартра о свободе служит выражением позиции крайнего индивидуализма. Свобода предстает в экзистенциализме как тяжелое бремя, которое должен нести человек, поскольку он личность. Он может отказаться от своей свободы, перестать быть самим собой, стать «как все», но только ценой отказа от себя как личности. Мир, в который при этом погружается человек, носит у Хайдеггера название «man» (немецкое безличное местоимение): это безличный мир, в котором все анонимно, в котором нет субъектов действия, в котором все – «другие», и человек даже по отношению к самому себе является «другим»; это мир, в котором никто ничего не решает, а потому и не несет ни за что ответственности.
Общение индивидов, осуществляемое в таком мире, не является подлинным, оно лишь подчеркивает одиночество каждого. Согласно Камю, перед лицом ничто, которое делает человеческую жизнь бессмысленной, прорыв одного индивида к другому, подлинное общение между ними невозможно.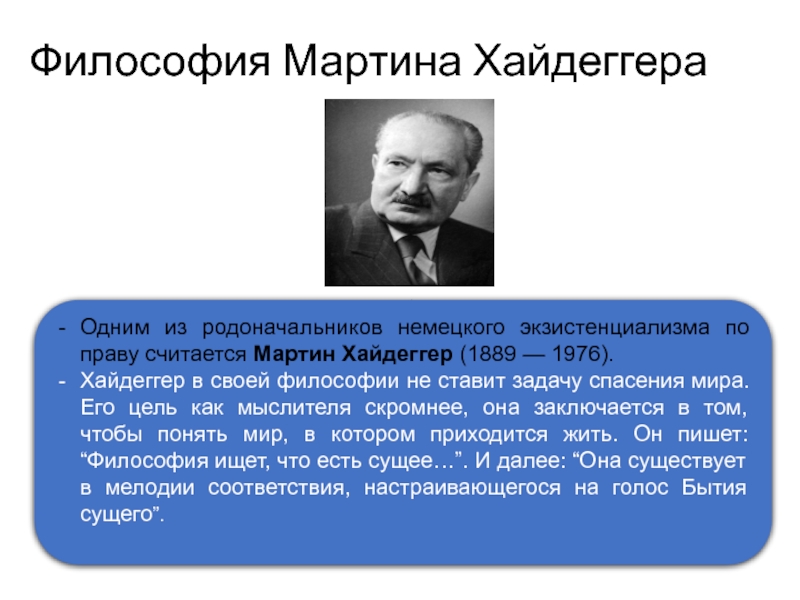 И Сартр, и Камю видят фальшь и ханжество во всех формах общения индивидов, освященных традиционной религией и нравственностью: в любви, дружбе и т. п. Характерное для Сартра стремление разобличитъ искаженные, превращенные формы сознания («дурной веры» или «самообмана») оборачивается требованием принять реальность сознания, разобщенного с другими и самим собой. Единственный способ подлинного общения, который признает Камю, – это единение индивидов в бунте против «абсурдного» мира, против конечности, смертности, несовершенства, бессмысленности человеческого бытия. Экстаз может объединить человека с другим, но это в сущности экстаз разрушения, мятежа, рожденного отчаянием «абсурдного» человека.
И Сартр, и Камю видят фальшь и ханжество во всех формах общения индивидов, освященных традиционной религией и нравственностью: в любви, дружбе и т. п. Характерное для Сартра стремление разобличитъ искаженные, превращенные формы сознания («дурной веры» или «самообмана») оборачивается требованием принять реальность сознания, разобщенного с другими и самим собой. Единственный способ подлинного общения, который признает Камю, – это единение индивидов в бунте против «абсурдного» мира, против конечности, смертности, несовершенства, бессмысленности человеческого бытия. Экстаз может объединить человека с другим, но это в сущности экстаз разрушения, мятежа, рожденного отчаянием «абсурдного» человека.
Иное решение проблемы общения дает Марсель. Согласно ему, разобщенность индивидов порождается тем, что предметное бытие принимается за единственно возможное. Но подлинное бытие – трансценденция – является не предметным, а личностным, потому истинное отношение к бытию – это диалог. Бытие, по Марселю, не Оно, а Ты. Поэтому прообразом отношения человека к бытию является глубоко личное отношение к другому человеку, осуществляемое перед лицом Бога. Любовь, согласно Марселю, есть трансцендирование, прорыв к другому, будь то личность человеческая или божественная. Поскольку такой прорыв с помощью рассудка понять нельзя, Марсель относит его к сфере «таинства».
Поэтому прообразом отношения человека к бытию является глубоко личное отношение к другому человеку, осуществляемое перед лицом Бога. Любовь, согласно Марселю, есть трансцендирование, прорыв к другому, будь то личность человеческая или божественная. Поскольку такой прорыв с помощью рассудка понять нельзя, Марсель относит его к сфере «таинства».
Прорывом мира «man» является, согласно экзистенциализму, не только подлинное человеческое общение, но и сфера художественного, философского, религиозного творчества. Однако истинная коммуникация (общение), как и творчество, несет в себе трагический надлом: мир объективности непрестанно грозит разрушить экзистенциальную коммуникацию. Сознание этого приводит Ясперса к утверждению, что все в мире в конце концов терпит крушение в силу самой конечности экзистенции и потому человек должен научиться жить и любить с постоянным сознанием хрупкости всего, что он любит, незащищенности самой любви. Глубоко скрытая боль, причиняемая этим сознанием, придает его привязанности особую чистоту и одухотворенность.
Социально-политические позиции у разных представителей экзистенциализма неодинаковы. Так, Сартр и Камю участвовали в движении Сопротивления; с конца 1960-х гг. позиция Сартра отличалась крайним левым радикализмом и экстремизмом. Концепции Сартра и Камю оказали известное влияние на социально-политическую программу движения «новых левых» (культ свободы, перерастающей в произвол). Политическая ориентации Ясперса и Марселя носила либеральный характер, а социально-политическим воззрениям Хайдеггера была присуща консервативная тенденция.
В целом экзистенциализм представляет собой умонастроение человека XX в., утратившего веру в разум исторический и научный, недаром он находится в оппозиции как к рационализму и классическому идеализму, верившим в разумную необходимость исторического процесса, так и к позитивизму. Не возлагая надежд ни на божественное провидение, ни на логику истории, ни на всесилие науки и техники и не доверяя природной мощи, экзистенциализм обращается не к силе, а к слабости – к самому человеку в его конечности.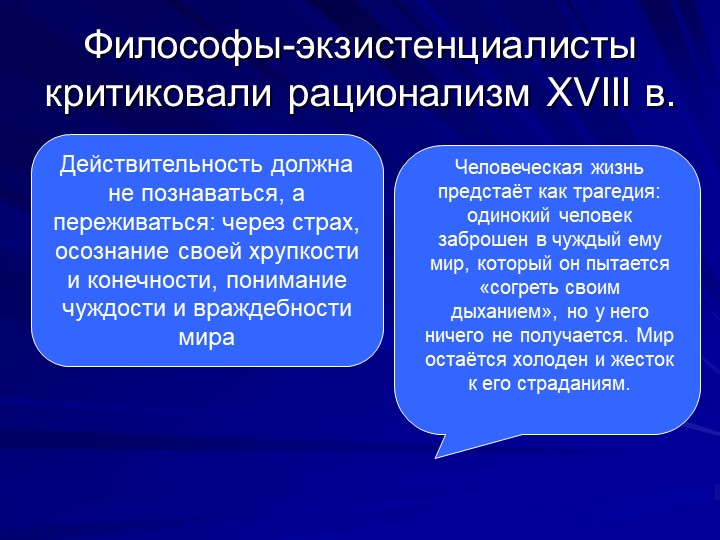 Сегодняшний человек, согласно экзистенциализму, может черпать силы только в своей слабости, он может обрести смысл своей жизни не перед лицом вечного и бесконечного, а перед лицом смерти. Освободить человека от всех надежд на то, что он может обрести свободу с помощью чего-то вне себя, и от всех иллюзий, связанных с этими надеждами, поставить его перед собой и заставить заглянуть в себя – вот та задача, которую поставил перед собой экзистенциализм.
Сегодняшний человек, согласно экзистенциализму, может черпать силы только в своей слабости, он может обрести смысл своей жизни не перед лицом вечного и бесконечного, а перед лицом смерти. Освободить человека от всех надежд на то, что он может обрести свободу с помощью чего-то вне себя, и от всех иллюзий, связанных с этими надеждами, поставить его перед собой и заставить заглянуть в себя – вот та задача, которую поставил перед собой экзистенциализм.
Пока экзистенциализм выступает как философия критическая, требующая разоблачения иллюзий о человеке, пока он производит «феноменологическую редукцию», очищая от внешнего и открывая ядро человеческой личности – экзистенцию, он остается верным своим предпосылкам. Но как только он пытается утвердить положительные ценности, он вступает с этими предпосылками в противоречие. В самом деле, как совместить культурное творчество – созидание, утверждение – с устремленностью к ничто, концу, смерти? Как соединить культуру и экзистенцию? Перед лицом ничто всякое устремление, всякое творчество с самого начала обречено на крушение, перед лицом ничто незачем строить. Поэтому экзистенциалисты (прежде всего такие философы, как Сартр, Камю) склонны скорее к бунту, чем к творчеству, созиданию.
Поэтому экзистенциалисты (прежде всего такие философы, как Сартр, Камю) склонны скорее к бунту, чем к творчеству, созиданию.
Поздний Хайдеггер в поисках подлинного бытия все чаще обращал свой взор на Восток, в частности к дзен-буддизму, с которым его сближала тоска по «невыразимому» и «неизреченному», а также склонность к метафорическому способу выражения.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесЭкзистенциальная психология: идеи, этапы развития, представители
«В жизни нет смысла», «Я безнадежно одинок и никогда не найду понимания», «Мои близкие однажды умрут, и это ужасно!» Подобные мысли периодически посещают головы людей, вызывая чувства тревоги, грусти и безысходности. Преодолеть подобную модель мышления помогает экзистенциальная психология. Ее цель – разрешить личный внутренний конфликт и вернуть радость жизни.
Вы узнаете больше подробностей, уделив несколько минут чтению этой статьи, но перед этим небольшая проверка знаний по теме.
А теперь, собственно, перейдем к самой статье.
Определение и основные идеи экзистенциальной психологии
Экзистенциальная психология основана на философском подходе и представляет собой процесс поиска ценности и смысла жизни. Она базируется на мысли, что человек не является жертвой обстоятельств, а несет ответственность за собственные действия и выбор, тем самым формируя реальность.
Экзистенциальная психология использует позитивный подход, который приветствует человеческие стремления и способности, одновременно признавая человеческие ограничения. Этот раздел психологии помогает людям примиряться с основными принципами человеческого существования, так называемыми данностями. Существует 4 основные экзистенциальные данности:
- Свобода и связанная с ней ответственность. У каждого есть свобода выбора. Любое решение имеет последствия независимо от того, насколько оно велико или мало.
 Чтобы расти, человек должен взять на себя ответственность, т.е. стать автором собственного выбора, действий и жизни. Тем не менее многие люди стремятся к свободе, пытаясь избежать ответственности.
Чтобы расти, человек должен взять на себя ответственность, т.е. стать автором собственного выбора, действий и жизни. Тем не менее многие люди стремятся к свободе, пытаясь избежать ответственности. - Смерть. Смерть – одна из абсолютных истин жизни. Каждый умрет в тот или иной момент.
- Одиночество. С одной стороны, человек – социальное существо, желающее постоянного контакта с окружающими, с другой – он абсолютно одинок, поскольку не может рассчитывать на 100% понимание и принятия его индивидуального опыта другими людьми.
- Бессмысленность. Смысла жизни нет. Это означает, что не существует никакого заранее определенного значения. Смысл жизни у всех разный, и каждый человек должен сам найти это значение посредством собственного выбора и действий.
Борьба с любой из этих данностей вызывает внутриличностный конфликт и наполняет человека страхом или экзистенциальной тревогой. Например, для большинства людей факт собственной смерти или кончины родственников является источником глубокой тревоги, они настойчиво игнорируют реальность и отказываются мириться с тем, что смерть наступит.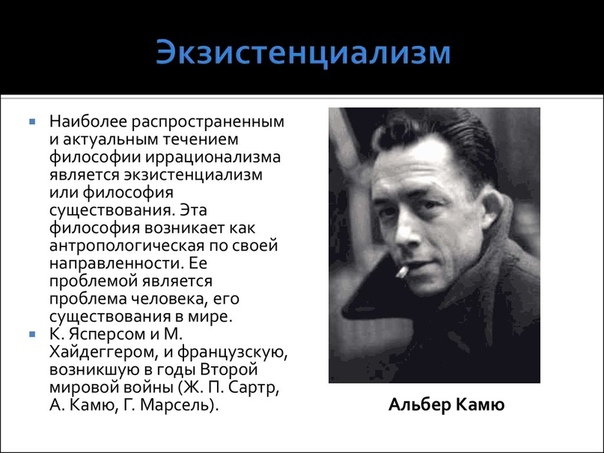 Есть и те, кто до состояния невроза или психоза зациклен на неизбежности смерти.
Есть и те, кто до состояния невроза или психоза зациклен на неизбежности смерти.
Экзистенциальная психология предлагает решение: принять неотвратимость смерти, будучи свободным от ее давления. Люди, которые поддерживают здоровый баланс, мотивированы принимать решения, позитивно влияющие на их текущую жизнь. Реальность смерти побуждает максимально использовать возможности и ценить то, что уже есть.
Жить аутентичной (подлинной) жизнью, реализуя свои уникальные свойства и потенциал – главный призыв экзистенциальной психологии. Этого можно достичь, только взяв ответственность за собственные действия и праздность, осознав, что бездействие – это тоже решение.
Экзистенциальная психология напоминает об ограниченности времени, стимулирует искать смысл жизни и действовать таким образом, чтобы судьба находилась в руках человека. Она признает неизбежность «нормальной» тревоги, считая ее частью взросления и адекватной реакцией на происходящее.
Основные представители экзистенциальной психологии и хронология ее развития
Прародительницей экзистенциальной психологии была философия существования или экзистенциализм.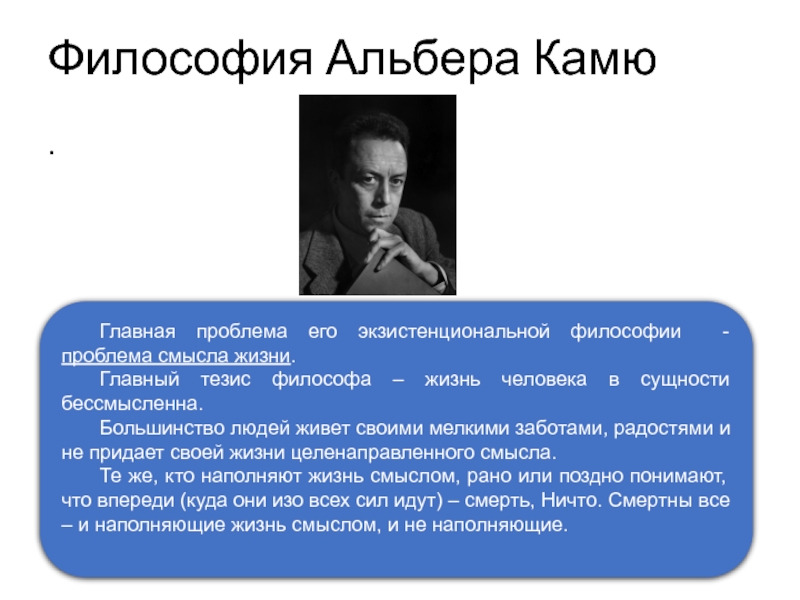 Рассмотрим, как развивались взгляды философов и психологов на существование человека.
Рассмотрим, как развивались взгляды философов и психологов на существование человека.
Сёрен Кьеркегор
Датский философ Сёрен Кьеркегор являлся основоположником экзистенциализма. Он выделял три стадии человеческого существования: эстетическую, этическую и религиозную. Эстетическая стадия – это состояние «здесь и сейчас», она сфокусирована на получении удовольствия и боли. В таком режиме живут маленькие дети.
Этическая стадия предполагает знакомство с понятием выбора и ответственности. Человеку следует выбрать: жить, опираясь на личные ценности, или подчиниться принятым в обществе правилам. Кьеркегор считал, что подчинение хоть и приводит к упрощению жизни, но является тупиком для личности.
Это противоречие можно преодолеть, живя в религиозной манере. Однако и здесь возникают сложности: с одной стороны, человек осознает свою уникальность, с другой – полную несостоятельность по сравнению с Богом. В результате возникают негативные чувства: одиночество, беспокойство и страх, которые, как считал Кьеркегор, позволяют узреть истину и привести к подлинному существованию.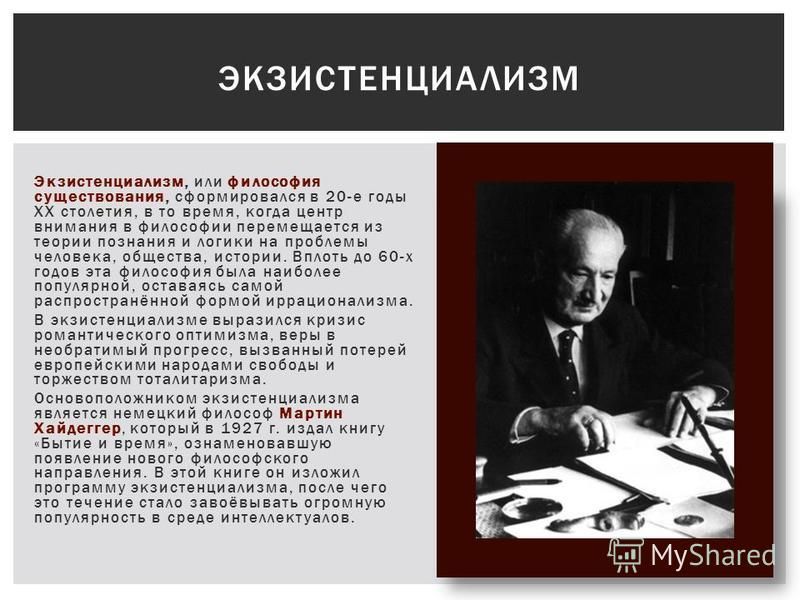
Фридрих Ницше
Другим философом, который внес вклад в развитие экзистенциализма, был загадочный немец Фридрих Ницше. Он считал, что фундаментальной силой этого мира является воля к власти. Согласно Ницше, жизнь чрезвычайно трудна и Вселенная настроена против человечества: природные силы, такие как стихийные бедствия и болезни, уничтожают людей физически, неравенство является естественным состоянием общества, Бог мертв, а загробной жизни не существует.
Философ видел великое будущее за сверхчеловеком. Этим термином он характеризовал человека, который смог полностью реализовать свой потенциал, овладел собой и отказался от «стадной морали», чтобы создать свои собственные ценности и жить в соответствии с ними.
Мартин Хайдеггер
Немецкий экзистенциалист Мартин Хайдеггер также исследовал роль человека в мире и тривиализировал природу Бога, считая его существом чуть более высокого порядка, чем человек.
Хайдеггер утверждал, что естественная способность людей – осознавать связь с истиной. Стремление к постижению истины рождает непреодолимую тревогу, поскольку человек знает, что время его жизни ограничено. Хайдеггер считал смерть позитивным событием, поскольку именно осознание смертности подталкивает людей быть верными себе и жить подлинной жизнью.
Стремление к постижению истины рождает непреодолимую тревогу, поскольку человек знает, что время его жизни ограничено. Хайдеггер считал смерть позитивным событием, поскольку именно осознание смертности подталкивает людей быть верными себе и жить подлинной жизнью.
Жан-Поль Сартр
Французский писатель Жан-Поль Сартр был тем человеком, который перенес экзистенциальную философию в психологию. Он заявлял, что Бога нет, а главная цель существования человека – осознание своей истинной сути, открытие себя.
Сартр писал, что многие люди отвергают свою уникальную способность к созиданию и подавляют энтузиазм, позволяя жизни безвольно течь. Это приводит к беспокойству и отчаянию, человека начинает буквально тошнить от жизни. Подобные состояния обуславливают необходимость экзистенциального психоанализа, который, по мнению Сартра, открывает истинную цель человеческого существования.
Сартр был уверен, что никакая внешняя сила не властна над людьми, только мы сами, благодаря осознанности, творим реальность. Он также утверждал, что люди обречены на отчаяние и неудачу, поскольку их ответственность абсолютна, и рассчитывать на поддержку Высших Сил не приходится.
Он также утверждал, что люди обречены на отчаяние и неудачу, поскольку их ответственность абсолютна, и рассчитывать на поддержку Высших Сил не приходится.
Виктор Франкл
Австрийский психиатр Виктор Франкл был разработчиком логотерапии – направления психотерапии, которое ориентировано на поиск смысла существования.
Франк опирался на философию Кьеркегора, утверждая, что основной движущей силой жизни является поиск смысла, а не стремление к сексу и удовольствию, как теоретизировал отец психоанализа Зигмунд Фрейд, или власти, как утверждал Ницше. Логотерапия – это форма экзистенциальной терапии, которая подчеркивает, что люди способны находить смысл во всем, что они делают: творчестве, работе, взаимодействии с другими людьми и даже страдании.
Пережив опыт заключения в фашистских концентрационных лагерях, Франкл писал, что в бесчеловечных условиях жизнь не теряет смысла, а средством выживания становится обращение к духовному «Я», которое не могут разрушить внешние силы.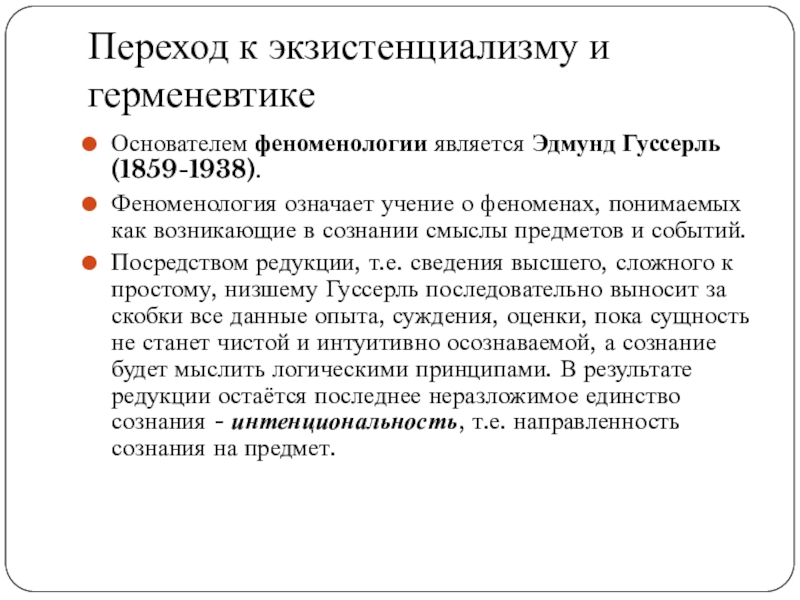
Ролло Мэй
Американский психолог Ролло Мэй был главным популяризатором экзистенциальной психологии. Мэй утверждал, что развитие человека проходит определенные стадии, каждой из которых соответствует конкретный тип экзистенциального кризиса:
- Невинность: у младенца нет никаких побуждений, кроме желания жить.
- Восстание: ребенок хочет свободы, но не может должным образом заботиться о себе.
- Решение: молодой человек принимает самостоятельные решения, стремясь к независимости от родителей.
- Ординарность: взрослый человек, подавленный требованиями жизни, ищет защиту в конформизме и следовании общественным нормам.
- Творчество: продуктивная, творческая самореализация, во время которой человек преодолевает эгоизм.
По мнению Мэя, некоторые люди пропускают определенные этапы и независимо от возраста могут неоднократно к ним возвращаться.
Ирвин Ялом
Ирвин Ялом – современный психиатр и педагог, автор большого числа книг об экзистенциальной психологии. Именно он обобщил 4 «конечные проблемы жизни»: смерть, свободу, одиночество и бессмысленность, раскрыл значение каждой и описал тип конфликта, который возникает в результате сопротивления этим экзистенциальным данностям.
Именно он обобщил 4 «конечные проблемы жизни»: смерть, свободу, одиночество и бессмысленность, раскрыл значение каждой и описал тип конфликта, который возникает в результате сопротивления этим экзистенциальным данностям.
В своей практике Ялом обучает людей существовать в качестве части чего-то большего, чем они сами, осознавая, принимая и не избегая того факта, что в жизни есть место боли, смерти и грусти.
Экзистенциальная психология сегодня
Экзистенциальная терапия постепенно получает признание. Соответствующие специалисты практикуют в 48 странах мира, и с каждым годом количество людей с экзистенциальными расстройствами только растет.
В книге «Человек в поисках смысла» Виктор Франкл назвал этот процесс экзистенциальным вакуумом. Он считал, что удобства промышленной революции дали людям вредный избыток свободного времени, сделав их жизни бесцельными, скучными и грустными. Именно экзистенциальный вакуум, по мнению Франкла, лежит в основе депрессии, агрессии и разного рода зависимостей.
Современные экзистенциальные психотерапевты объясняют возникновение перечисленных выше психологических проблем ограниченной способностью принимать осмысленные и самостоятельные решения о том, как жить. В данном случае экзистенциальный подход направлен на повышение самосознания и самопонимания.
Терапевты помогают человеку найти смысл жизни, преодолевая беспокойство, учат мыслить и действовать ответственно, направлять внимание внутрь себя и работать с негативными установками, а не бороться с внешними силами, такими как социальное давление и неодобрение. Содействие творчеству, любви, аутентичности и свободе воли – те принципы, при помощи которых экзистенциальные психотерапевты помогают людям двигаться к трансформации.
Часто экзистенциальная психология воспринимается как болезненная, пессимистичная, непрактичная и мистическая. Это заблуждение. Подход, который она использует, чрезвычайно практичен, конкретен и гибок. Его можно сформулировать так: примиритесь с реальностью, не отрицая, не избегая и не покрывая ее сахаром, и помните, что ваш выбор определяет вашу судьбу.
Друзья, не прекращайте своего движения, действуйте и ищите смысл! На этом пути мы желаем вам смелости, упорства и осознанности.
Исторический музей Южного Урала первым в России покажет картины Руффо Казелли — основателя кибернетического экзистенциализма
В пятницу, 4 июня, в Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка «За каждым фактом стоит тень». На выставке будут представлены работы итальянского художника Руффо Казелли (1932–2020) — основоположника кибернетического экзистенциализма в современном искусстве. Это первая выставка работ Казелли после его смерти, а также первая в нашей стране.
Выставка организована совместно с Почетным консульством Италии в Челябинске и галеристом, близкой подругой Руффо Казеллии и его наследницей Кармен Галло.
Почему именно Челябинск получил эксклюзивное право принять эту выставку? Помощник почетного консула Италии в Челябинске Наталья Бычкова пояснила, что идею предложила сама Кармен Галло:
— Оказалось, что в нашем городе есть ценители творчества Руффо Казелли, от которых Кармен Галло получает множество отзывов. Поэтому сюда она и обратилась. Для нас это честь, и мы рады возможности познакомить челябинцев и гостей города с творчеством этого самобытного художника.
Поэтому сюда она и обратилась. Для нас это честь, и мы рады возможности познакомить челябинцев и гостей города с творчеством этого самобытного художника.
В Историческом музее Южного Урала будет представлено 17 картин Руффо Казелли, написанных в период с 1970 по 2009 годы. Персонажи этих картин — полулюди-полуроботы, обитатели кибернетической вселенной. Определение «кибернетический экзистенциализм» его искусство получило в 80-е годы в галерее Кармен Галло в Манхэттене. Сегодня эта галерея называется «Центр междисциплинарных исследований кибернетического экзистенциализма». То есть кибернетический экзистенциализм — это уже не только направление в современном искусстве, но и целое культурное движение.
Выставка «За каждым фактом стоит тень» располагается в фойе второго этажа восточной башни. Церемония открытия — 4 июня в 18:00.
Экзистенциализм wiki | TheReaderWiki
Экзистенциали́зм (фр. existentialisme от лат. existentia — существование), также философия существования — направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека. Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которых он отличается, прежде всего, идеей преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и большим акцентом на глубину эмоциональной природы.
existentialisme от лат. existentia — существование), также философия существования — направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека. Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которых он отличается, прежде всего, идеей преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и большим акцентом на глубину эмоциональной природы.
По мнению французского философа Жан-Поля Сартра, исходный пункт экзистенциализма сформулирован одним из героев Достоевского: «если Бога нет, то всё дозволено»[1].
Согласно экзистенциальному психологу и психотерапевту Р. Мэю, экзистенциализм — не просто философское направление, а, скорее, культурное движение, запечатлевающее глубокое эмоциональное и духовное измерение современного человека, изображающее психологическую ситуацию, в которой он находится, выражение уникальных психологических трудностей, с которыми он сталкивается[2][3].
Предшественником экзистенциализма стал Сёрен Кьеркегор, хотя он не использовал термин «экзистенциализм». Кьеркегор первым использовал термины «экзистенция», «экзистенциальное», «экзистировать», «экзистирование», «экзистирующий субъект» в своём фундаментальном труде «Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам»[en]» Кьеркегор задолго до Зигмунда Фрейда использовал термин сексуальность. В «Понятии страха[en]» Кьеркегор пишет: «Греховность вошла в мир через Адамов грех, а сексуальность стала для него при этом означать греховность. Так была положена сексуальность». Для Кьеркегора самым главным является наличное существование человека, которое не мыслится им без религиозного измерения жизни. В своих работах он защищал истинное христианство, полемизируя со спекулятивной философией и непосредственно с Гегелем.
Одним из первых термин «экзистенциальная философия» (нем.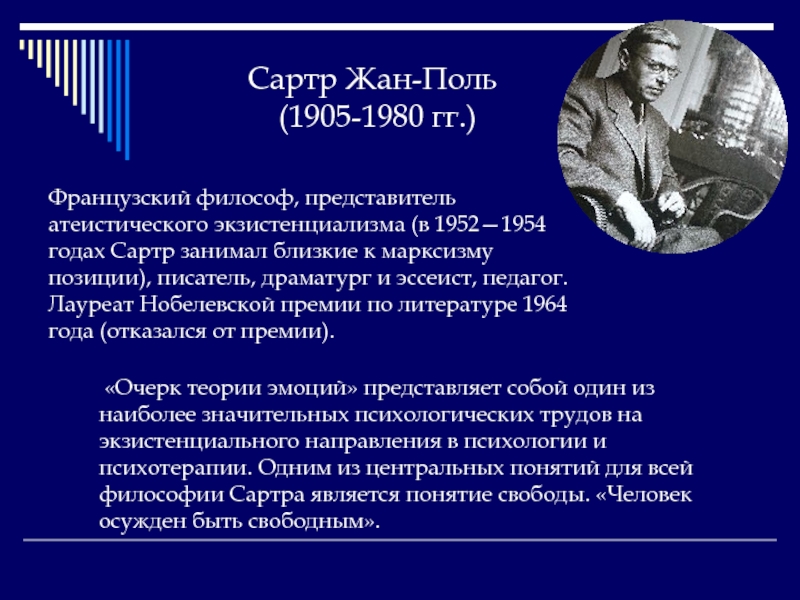 Existenzphilosophie) ввел Карл Ясперс в 1931 в работе «Духовная ситуация времени»[4], а в 1938 году он вынес его в название отдельной работы. В качестве основоположника экзистенциальной философии Ясперс называет Сёрена Кьеркегора. В своём фундаментальном труде «Бытие и время» Мартин Хайдеггер пишет: «Вопрос экзистенции должен выводиться на чистоту всегда только через само экзистирование. Ведущую при этом понятность себе самой мы именуем экзистентной. Вопрос экзистенции есть онтическое „дело“ присутствия. Тут не требуется теоретической прозрачности онтологической структуры экзистенции. Вопрос о структуре нацелен на раскладку того, что конституирует экзистенцию. Взаимосвязь этих структур мы именуем экзистенциальностью. Их аналитика имеет характер не экзистентного, но экзистенциального понимания». В связи с этим Наталья Исаева, переводчик и исследователь творчества Кьеркегора, пишет в комментариях к его работе «Или-или»: «У Хайдеггера в „Бытии и времени“ мы находим всего лишь три примечания, где он прямо отсылает читателя к Кьеркегору.
Existenzphilosophie) ввел Карл Ясперс в 1931 в работе «Духовная ситуация времени»[4], а в 1938 году он вынес его в название отдельной работы. В качестве основоположника экзистенциальной философии Ясперс называет Сёрена Кьеркегора. В своём фундаментальном труде «Бытие и время» Мартин Хайдеггер пишет: «Вопрос экзистенции должен выводиться на чистоту всегда только через само экзистирование. Ведущую при этом понятность себе самой мы именуем экзистентной. Вопрос экзистенции есть онтическое „дело“ присутствия. Тут не требуется теоретической прозрачности онтологической структуры экзистенции. Вопрос о структуре нацелен на раскладку того, что конституирует экзистенцию. Взаимосвязь этих структур мы именуем экзистенциальностью. Их аналитика имеет характер не экзистентного, но экзистенциального понимания». В связи с этим Наталья Исаева, переводчик и исследователь творчества Кьеркегора, пишет в комментариях к его работе «Или-или»: «У Хайдеггера в „Бытии и времени“ мы находим всего лишь три примечания, где он прямо отсылает читателя к Кьеркегору.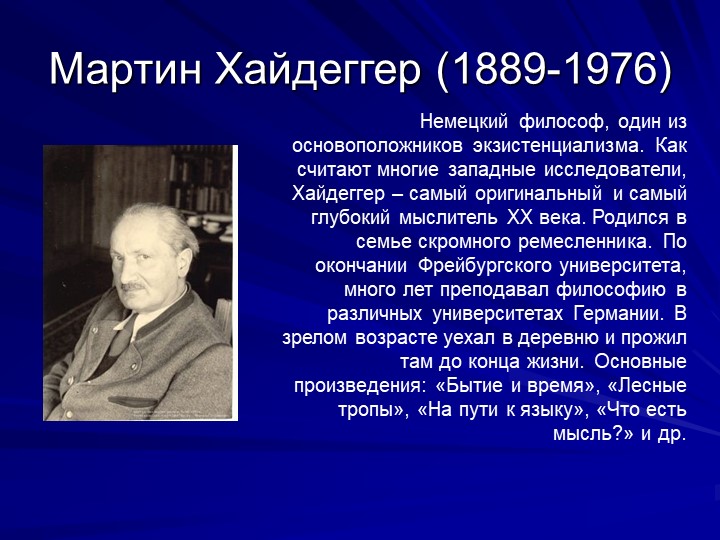 (Heidegger M. Sein und Zeit. 1927), однако на деле долг тут неоплатно высок, и большую часть основополагающих понятий экзистенциализма можно с лёгкостью найти у датского философа. И „Dasein“ как „наличное бытие“, и „заброшенность-в-мир“, и маркирующая роль „страха“, „тревоги“ („Angst“), и ощущение человеком своей смертности, вносящее глубинные деформации в рефлексирующее сознание, — введением всей этой проблематики Хайдеггер, безусловно, обязан Кьеркегору».
(Heidegger M. Sein und Zeit. 1927), однако на деле долг тут неоплатно высок, и большую часть основополагающих понятий экзистенциализма можно с лёгкостью найти у датского философа. И „Dasein“ как „наличное бытие“, и „заброшенность-в-мир“, и маркирующая роль „страха“, „тревоги“ („Angst“), и ощущение человеком своей смертности, вносящее глубинные деформации в рефлексирующее сознание, — введением всей этой проблематики Хайдеггер, безусловно, обязан Кьеркегору».
В «Заключительном ненаучном послесловии к „Философским крохам“» Кьеркегор утверждал: «Экзистенция, подобно движению, остаётся весьма трудным для рассмотрения предметом. Как только я начинаю её мыслить, я тотчас же отменяю эту экзистенцию, а это значит, что я перестаю и мыслить её. Представляется даже правильным утверждать, что тут мы имеем дело с чем-то, что не может быть помыслено, — то есть с экзистированием. И опять же тут присутствует некая трудность, которую экзистенция суммирует следующим образом: тот, кто мыслит, одновременно экзистирует». В 1939 году после смерти русского философа-эмигранта Льва Шестова выходит его книга «Киргегард и экзистенциальная философия[5]. В 1943 году книгу со сходным названием выпускает Отто Больнов. Термин экзистенциализм использует в названии своей работы Жан-Поль Сартр (фр. L’existentialisme est un humanisme, 1946), где экзистенциализм разделён им на религиозный (Карл Ясперс, Габриэль Марсель) и атеистический (Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Мартин Хайдеггер). Атеистический экзистенциализм отвергает, что за сущими (явлениями) может стоять таинственное Сущее (Бог), определяющее их «сущность» или истину.
В 1939 году после смерти русского философа-эмигранта Льва Шестова выходит его книга «Киргегард и экзистенциальная философия[5]. В 1943 году книгу со сходным названием выпускает Отто Больнов. Термин экзистенциализм использует в названии своей работы Жан-Поль Сартр (фр. L’existentialisme est un humanisme, 1946), где экзистенциализм разделён им на религиозный (Карл Ясперс, Габриэль Марсель) и атеистический (Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Мартин Хайдеггер). Атеистический экзистенциализм отвергает, что за сущими (явлениями) может стоять таинственное Сущее (Бог), определяющее их «сущность» или истину.
В своей работе «Философия экзистенциализма» Отто Фридрих Больнов писал: «Именем философии существования, или же экзистенциальной философии, обозначают философское течение, которое возникло прежде всего около 1930 года в Германии, с тех пор продолжало развиваться в различных формах и затем распространилось за пределы Германии. Единство этого, в свою очередь, внутренне ещё очень разнообразного, движения состояло в возврате к великому датскому философу Сёрену Кьеркегору, лишь в эти годы по-настоящему открытому и приобретшему значительное влияние. Образованное им понятие экзистенциального существования обозначает общий исходный пункт, получившей тогда свое название экзистенциальной философии».
Единство этого, в свою очередь, внутренне ещё очень разнообразного, движения состояло в возврате к великому датскому философу Сёрену Кьеркегору, лишь в эти годы по-настоящему открытому и приобретшему значительное влияние. Образованное им понятие экзистенциального существования обозначает общий исходный пункт, получившей тогда свое название экзистенциальной философии».
Экзистенциализм (согласно Ясперсу) возводит свои истоки к Кьеркегору, Шеллингу и Ницше. А также, через Хайдеггера и Сартра, генетически восходит к феноменологии Гуссерля (Камю считал экзистенциалистом даже Гуссерля[6]).
Экзистенциальная философия — это философия бытия человека[7]
Основная категория философии экзистенциализма — это экзистенция.
В философии существования нашёл отражение кризис оптимизма Просвещения, опиравшегося на технический прогресс, но, согласно экзистенциалистам, бессильного объяснить неустойчивость, неустроенность человеческой жизни, присущие человеку чувство страха, отчаяния, безысходности. Философия экзистенциализма — иррациональная реакция на рационализм Просвещения и немецкой классической философии. По утверждениям философов-экзистенциалистов, основной порок рационального мышления состоит в том, что оно исходит из принципа противоположности субъекта и объекта, то есть разделяет мир на две сферы — объективную и субъективную. Всю действительность, в том числе и человека, рациональное мышление рассматривает только как предмет, «сущность», познанием которой можно манипулировать в терминах субъекта-объекта. Подлинная философия, с точки зрения экзистенциализма, должна исходить из единства объекта и субъекта. Это единство воплощено в «экзистенции», то есть некой трансцендентной реальности.
Философия экзистенциализма — иррациональная реакция на рационализм Просвещения и немецкой классической философии. По утверждениям философов-экзистенциалистов, основной порок рационального мышления состоит в том, что оно исходит из принципа противоположности субъекта и объекта, то есть разделяет мир на две сферы — объективную и субъективную. Всю действительность, в том числе и человека, рациональное мышление рассматривает только как предмет, «сущность», познанием которой можно манипулировать в терминах субъекта-объекта. Подлинная философия, с точки зрения экзистенциализма, должна исходить из единства объекта и субъекта. Это единство воплощено в «экзистенции», то есть некой трансцендентной реальности.
Согласно философии экзистенциализма, чтобы осознать себя как «экзистенцию», человек должен оказаться в «пограничной ситуации» — например, перед лицом смерти. В результате мир становится для человека «интимно близким». Истинным способом познания, способом проникновения в мир «экзистенции» объявляется интуиция («экзистенциальный опыт» у Марселя, «понимание» у Хайдеггера, «экзистенциальное озарение» у Ясперса), которая являет собой трактовку феноменологического метода Гуссерля.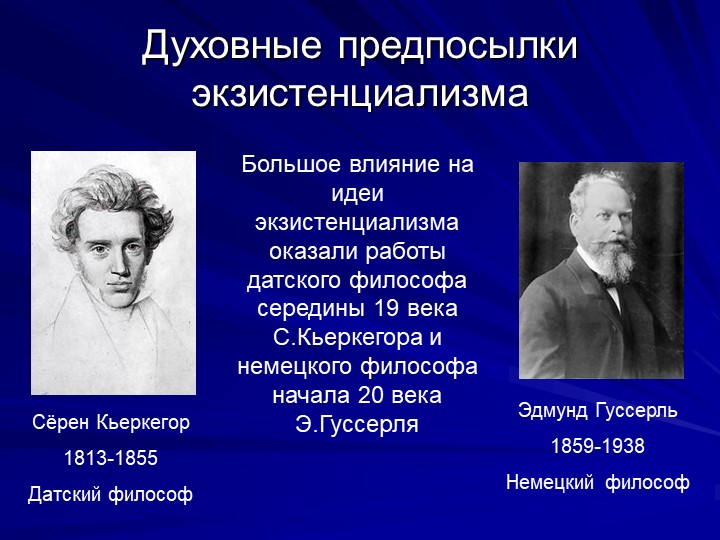
Значительное место в философии экзистенциализма занимает постановка и решение проблемы свободы, которая определяется как «выбор» личностью одной из бесчисленных возможностей. Предметы и животные не обладают свободой, поскольку сразу обладают сущностью, эссенцией. Человек же постигает свою сущность в течение всей жизни и несёт ответственность за каждое совершённое им действие, не может объяснять свои ошибки «обстоятельствами». Таким образом, человек мыслится экзистенциалистами как строящий себя «проект». В конечном счёте, идеальная свобода человека — это свобода личности от общества.
В экзистенциализме, согласно Р. Мэю, человек воспринимается всегда в процессе становления, в потенциальном переживании кризиса,[8] который свойственен Западной культуре, в которой он переживает тревогу, отчаяние, отчуждение от самого себя и конфликты[9].
Человек способен мыслить и осознавать своё бытие, а следовательно, рассматривается в экзистенциализме как ответственный за своё существование. Человек должен осознавать себя и быть ответственным за себя, если он хочет стать самим собой[10].
Человек должен осознавать себя и быть ответственным за себя, если он хочет стать самим собой[10].
Принципы экзистенциализма.
- Применительно к человеку, его существование предшествует его сущности. Свою сущность он обретает по ходу существования. Человек делает себя сам. Он обретает свою сущность на протяжении всей своей жизни. (Некоторые экзистенциалисты отвергают долговременное обретение сущности: для них, обретаясь, она сразу отчуждается.)
- Существование человека — это свободное существование. Свобода подразумевается не как «свобода духа», а как «свобода выбора», которую никто не может отнять у человека. Как правило, люди избегают осознавать, что они свободны, предпочитая жить «как заведено в мире», неподлинно.
- Существование человека включает в себя ответственность: не только за себя, но и за окружающих, поскольку мир, интерпретируемый свободой, есть целостный: решая как поступить, человек выбирает быть таким или другим всему миру, и себя в нём.

- Временное и конечное существование. Человеческое существование — это бытие, обращённое в смерть. (Тем не менее, разные экзистенциалисты по-разному относятся к вопросу, является ли смерть «моей интимной возможностью».)
Значение страха для экзистенциальной философии
Экзистенциалисты пришли к выводу, что страх (или тревога) — это что-то значительно более глубокое, чем простое переживание, вызванное внешними раздражителями. Прежде всего, экзистенциалисты разделяют понятия страха и боязни. Боязнь всегда предполагает наличие какой-либо определённой угрозы: людей, обстоятельств, условий, явлений и т. д. Источник боязни всегда определён. В случае со страхом, какой-либо предмет, который возбуждает страх, отсутствует. Человек не может даже сказать, что его страшит. В этой неопределённости и проявляется основное свойство страха, ощущение страха возникает без какой-либо видимой и определённой причины.
Экзистенциалисты придают страху позитивную окраску: он потрясает человека во всех его жизненных отношениях. Он необходим нам для того, чтобы вытянуть человека из размеренного, бездумного проживания жизни. Именно страх даёт возможность абстрагироваться от всех ежедневных проблем, забот и посмотреть на всё происходящее со стороны. Страх подобен огню, он сжигает всё несущественное и временное; он отвлекает человека от всего мирского. Только тогда проявляется истинное существование. Наталья Исаева пишет: «Психологический очерк Кьеркегора „Понятие страха“ вообще-то целиком посвящён проблеме первородного греха (Arvesynd, букв.: „наследственного греха“), лежащего в основе страха (Angest). Не будем забывать, что Кьеркегор был тут первым — первым философом, первым психологом, первым теологом, разграничившим „страх-боязнь“ (Frygt), то есть страх, которому мы можем найти, подобрать конкретную причину, и этот мучительный, сосущий человека изнутри страх-головокружение (Angest), лишённый рациональных объяснений. <…> По мысли Кьеркегора, причиной, точнее, истоком страха может быть лишь первое искушение, в которое впал Адам, — ведь это и есть тот самый грех, что открыл дорогу смерти».
Он необходим нам для того, чтобы вытянуть человека из размеренного, бездумного проживания жизни. Именно страх даёт возможность абстрагироваться от всех ежедневных проблем, забот и посмотреть на всё происходящее со стороны. Страх подобен огню, он сжигает всё несущественное и временное; он отвлекает человека от всего мирского. Только тогда проявляется истинное существование. Наталья Исаева пишет: «Психологический очерк Кьеркегора „Понятие страха“ вообще-то целиком посвящён проблеме первородного греха (Arvesynd, букв.: „наследственного греха“), лежащего в основе страха (Angest). Не будем забывать, что Кьеркегор был тут первым — первым философом, первым психологом, первым теологом, разграничившим „страх-боязнь“ (Frygt), то есть страх, которому мы можем найти, подобрать конкретную причину, и этот мучительный, сосущий человека изнутри страх-головокружение (Angest), лишённый рациональных объяснений. <…> По мысли Кьеркегора, причиной, точнее, истоком страха может быть лишь первое искушение, в которое впал Адам, — ведь это и есть тот самый грех, что открыл дорогу смерти».
Кьеркегор утверждал:
Страх есть головокружение свободы[11]
По мнению Кьеркегора, «ещё никогда не существовало гения без чувства страха, разве что он был одновременно и религиозен».
Во время этого чувства всё незначительное отступает на задний план, а остаётся само существование. Когда человек поднимается над бездумным проживанием, он понимает, что большинство его ценностей, ориентиров и жизненных отношений — ошибочны. Прежде он был ведомый ими, но теперь словно отторжен от них, теперь он целиком опирается на трансцендентного (в опыте не явленного) Бога или (если отвергает веру в Его существование) на самого себя, — и лишь в этом проявляется истинная свобода. Для большинства экзистенциалистов слово Бог не выражает и не отражает современной понятийной базы как в науке, так и в философии[12].
Как следствие, страх у экзистенциалистов становится наивысшим достижением человека, так как только в нём открывается истинное существование (по другой терминологии Страх переводится как Тревога)[11].
«Подлинность» в экзистенциальной философии
Для писателей и философов экзистенциалистов тема подлинности существования является одной из важных. Идея о подлинном бытии включает «создание себя» человеком. Подлинное бытие — то, которое совершается в согласии со свободой и принятием ответственности. Сартр говорит об этом: первым делом экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование.[13]
Часто подлинность описывается через предварительную демонстрацию неподлинности. У Сартра можно найти примеры таких персонажей и антигероев, которые совершают свои действия исходя из внешнего давления — давления к тому, чтобы казаться человеком с определёнными качествами, давления вести определённый образ жизни, давления к игнорированию своих моральных и эстетических возражений — ради того, чтобы вести более комфортное существование. Или примеры персонажей, которые не понимают собственные причины поведения и игнорируют ключевые факты о себе, чтобы избежать неудобной правды.
Или примеры персонажей, которые не понимают собственные причины поведения и игнорируют ключевые факты о себе, чтобы избежать неудобной правды.
Сартра связывают с острым пониманием свободы, он говорит: «человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал, и всё-таки свободен, потому что однажды брошенный в мир, отвечает за всё, что делает».[13] С позиции Сартра — этот опыт (свободы) необходимый для подлинности, может быть таким неприятным, что ведет людей к неподлинным способам существования.
Обычно подлинность рассматривается как очень общий концепт, не связанный с конкретной политической или эстетической идеологией. Это необходимый аспект подлинности: поскольку она тревожит отношения человека с миром, она не может возникать просто через повторение набора действий или через приверженность ряду взглядов — таким образом, подлинность связана с творчеством.
В противоположность этому, неподлинное бытие — это отказ жить в соответствии со свободой. Есть много вариантов того, как это может проявляться: рассмотрение выбора как чего-то бесполезного и случайного, убеждение в детерминизме, или та или иная мимикрия, когда человек живёт как «следовало бы». Но это не значит, что любое существование в согласии с социальными нормами — неподлинно. Ключевой момент — какую позицию человек занимает по отношению к свободе и ответственности, и в какой степени человек ведет себя в соответствии со свободой.
Есть много вариантов того, как это может проявляться: рассмотрение выбора как чего-то бесполезного и случайного, убеждение в детерминизме, или та или иная мимикрия, когда человек живёт как «следовало бы». Но это не значит, что любое существование в согласии с социальными нормами — неподлинно. Ключевой момент — какую позицию человек занимает по отношению к свободе и ответственности, и в какой степени человек ведет себя в соответствии со свободой.
Подлинность у Кьеркегора — это настойчивость в индивидуальном поиске подлинной веры («мужество веры», «прыжок веры») и становлении верным самому себе.
Значительное внимание понятию «подлинности» уделяет Хайдеггер в «Письме о гуманизме» и «Бытии и времени».
Впоследствии тема «подлинности», «аутентичности» найдет свое развитие в экзистенциальной психотерапии.
Своими предшественниками современные экзистенциалисты считают:
В России экзистенциализм возник накануне Первой мировой войны 1914—1918:
В СССР экзистенциальные идеи развивал «философ подполья» Яков Друскин[15].
В Германии экзистенциализм возник после Первой мировой войны:
Нашёл своих последователей в период Второй мировой войны 1939—1945 во Франции:
В 1940—1950-е годы экзистенциализм получил распространение и в других европейских странах:
Австрия:
Италия:
Испания:
В США идеи экзистенциализма популяризировали:
Великобритания:
Польша:
Аргентина:
Словения:
К экзистенциализму близки религиозно-философские направления:
Русская религиозная философия, развивающая категорию правды, близкую к экзистенциальной истине[16]:
Французский персонализм:
В немецком протестантизме — диалектическая теология:
- ↑ Guignon, Charles B.
 Existentialism: basic writings / Charles B. Guignon, Derk Pereboom. — Hackett Publishing, 2001. — P. xiii. — ISBN 9780872205956.
Existentialism: basic writings / Charles B. Guignon, Derk Pereboom. — Hackett Publishing, 2001. — P. xiii. — ISBN 9780872205956. - ↑ Мэй Р. Открытие Бытия. — М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 49.
- ↑ Мэй Р. Истоки экзистенциального направления в психологии и его значение / В кн.: Экзистенциальная психология. Экзистенция / Пер. с англ. М. Занадворова, Ю. Овчинниковой. — М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — С. 113.
- ↑ Ясперс К. Духовная ситуация времени — С.304
- ↑ Лев Шестов
- ↑ Сидоров А. Н. Жан-Поль Сартр и либертарный социализм во Франции (50-70-е гг. XX в.): Монография. — Иркутск: Издательство Иркутского государственного технического университета, 2006.
- ↑ Ясперс К. Духовная ситуация времени — С.379
- ↑ Мэй Р. Открытие Бытия. — М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 61.
- ↑ Мэй Р. Открытие Бытия.
 — М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 64-65.
— М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 64-65. - ↑ Мэй Р. Открытие Бытия. — М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 107—109.
- ↑ 1 2 Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма: Философия существования (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения: 7 декабря 2011. Архивировано 7 декабря 2011 года.
- ↑ Есть Бог или нет?
- ↑ 1 2 Экзистенциализм — это гуманизм // Жан-Поль Сартр (неопр.). scepsis.net. Дата обращения: 12 июня 2020.
- ↑ Лесевицкий А. В. Конфликт индивидуального и социального в экзистенциальной философии Ф. М. Достоевского: монография. — Пермь: ОТ и ДО, 2011. — 192 с.
- ↑ А. Н. Авдеенков. «Некоторое равновесие с небольшой погрешностью»: экзистенциальная философия Я. С. Друскина
- ↑ Н. Ф. Бучило.
 История и философия науки : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев. — М. : Проспект, 2014. — 432 с. — ISBN 978-5-392-13218-8
История и философия науки : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев. — М. : Проспект, 2014. — 432 с. — ISBN 978-5-392-13218-8
Глава II Части четвертой. «От феноменологии к экзистенциализму и герменевтике»
Содержание главы II:
• Феноменология (Э. Гуссерль)
• Экзистенциализм
• Герменевтика
• Структурализм
1. Феноменология (Э. Гуссерль)
Феноменология — одно из важнейших направлений в
философии XX века, как определенная методология философского исследования
оказавшее влияние на другие течения (прежде всего экзистенциализм) и
гуманитарные науки. Основатель этого направления — немецкий философ Эдмунд
Гуссерль (1859-1938). Он был учеником немецкого философа Франца Брентано
(1838-1917), разработавшего метод непосредственного описания психических явлений
и вычленения их структур. Брентано также выдвинул идею интенциональности
(направленности на другое) как отличительной особенности психических явлений. Эта идея стала ядром феноменологического подхода. Феноменология с самого начала
формировалась не как замкнутая философская школа, а как широкое философское
движение, в котором уже в ранний период возникают тенденции, несводимые к
философии Гуссерля. Тем не менее ведущую роль в ее становлении сыграли именно
работы Гуссерля, и прежде всего его двухтомный труд «Логические исследования»
(1900- 1901), а также сочинение «Идеи чистой феноменологии и феноменологической
философии» (1913). Феноменология получила широкое распространение в Европе и
Америке, а также в Австралии, Японии и некоторых других странах Азии. Архивы
Гуссерля находятся в Лувене (Бельгия, основной архив), Кёльне, Фрейбурге,
Париже; исследовательские центры и феноменологические общества существуют во
многих странах мира.
Эта идея стала ядром феноменологического подхода. Феноменология с самого начала
формировалась не как замкнутая философская школа, а как широкое философское
движение, в котором уже в ранний период возникают тенденции, несводимые к
философии Гуссерля. Тем не менее ведущую роль в ее становлении сыграли именно
работы Гуссерля, и прежде всего его двухтомный труд «Логические исследования»
(1900- 1901), а также сочинение «Идеи чистой феноменологии и феноменологической
философии» (1913). Феноменология получила широкое распространение в Европе и
Америке, а также в Австралии, Японии и некоторых других странах Азии. Архивы
Гуссерля находятся в Лувене (Бельгия, основной архив), Кёльне, Фрейбурге,
Париже; исследовательские центры и феноменологические общества существуют во
многих странах мира.
Исходный пункт феноменологии как философского учения —
возможность обнаружения и описания интенциональной (направленной на предмет)
жизни сознания. Существенная черта феноменологического метода — отказ от любых
непроясненных предпосылок. Феноменология также исходит из идеи неразрывности и в
то же время взаимной несводимости (нередуцируемости) сознания и предметного мира
(природы, социума, духовной культуры). Гуссерлевский лозунг «К самому предмету!»
ориентирует на отстранение от причинных и функциональных связей, существующих
между сознанием и предметным миром, а также на отказ от признания их
мистического взаимопревращения. Тем самым за сознанием остается лишь функция
смыслообразования (установление смысла предметов), не связанная с какими-либо
мифологическими, научными, идеологическими и повседневно-обыденными установками.
Движение к предметам — это воссоздание смыслового поля (поля значений)
непосредственно между сознанием и предметами.
Феноменология также исходит из идеи неразрывности и в
то же время взаимной несводимости (нередуцируемости) сознания и предметного мира
(природы, социума, духовной культуры). Гуссерлевский лозунг «К самому предмету!»
ориентирует на отстранение от причинных и функциональных связей, существующих
между сознанием и предметным миром, а также на отказ от признания их
мистического взаимопревращения. Тем самым за сознанием остается лишь функция
смыслообразования (установление смысла предметов), не связанная с какими-либо
мифологическими, научными, идеологическими и повседневно-обыденными установками.
Движение к предметам — это воссоздание смыслового поля (поля значений)
непосредственно между сознанием и предметами.
Для этого необходимо обнаружение
и выявление чистого сознания, или сущности сознания, что предусматривает
определенную методологическую и собственно феноменологическую работу: критику
философских и психологических учений (натурализм, историзм, психологизм,
платонизм), усматривающих сущность сознания в указанных установках; а также
феноменологическую редукцию, то есть исключение этих установок — как внешних по
отношению к сознанию — из сферы рассмотрения, или, как говорит Гуссерль,
«вынесение их за скобки». С точки зрения Гуссерля, любой предмет должен быть
взят только как коррелят сознания, то есть как находящийся лишь в соотношении с
сознанием (восприятием, памятью, фантазией, суждением, сомнением, предположением
и т.д.). Предмет при этом не превращается в сознание, но его значение, или смысл
(для Гуссерля эти термины тождественны), схватывается именно так, как он
усматривается сознанием. Феноменологическая установка нацелена, таким образом,
не на восприятие известных и выявление еще неизвестных свойств, функций
предмета, но на сам процесс сознания как процесс формирования определенного
спектра значений, усматриваемых в предмете, его свойствах и функциях. При этом
неважно, существует ли предмет реально или же он иллюзия, галлюцинация, мираж.
«Безразличие» к существованию предмета носит условно-методологический характер,
сознание предстает здесь как «переплетение переживаний в единстве их потока»,
никак не определяемого предметом, смысл которого оно устанавливает
(конституирует).
С точки зрения Гуссерля, любой предмет должен быть
взят только как коррелят сознания, то есть как находящийся лишь в соотношении с
сознанием (восприятием, памятью, фантазией, суждением, сомнением, предположением
и т.д.). Предмет при этом не превращается в сознание, но его значение, или смысл
(для Гуссерля эти термины тождественны), схватывается именно так, как он
усматривается сознанием. Феноменологическая установка нацелена, таким образом,
не на восприятие известных и выявление еще неизвестных свойств, функций
предмета, но на сам процесс сознания как процесс формирования определенного
спектра значений, усматриваемых в предмете, его свойствах и функциях. При этом
неважно, существует ли предмет реально или же он иллюзия, галлюцинация, мираж.
«Безразличие» к существованию предмета носит условно-методологический характер,
сознание предстает здесь как «переплетение переживаний в единстве их потока»,
никак не определяемого предметом, смысл которого оно устанавливает
(конституирует).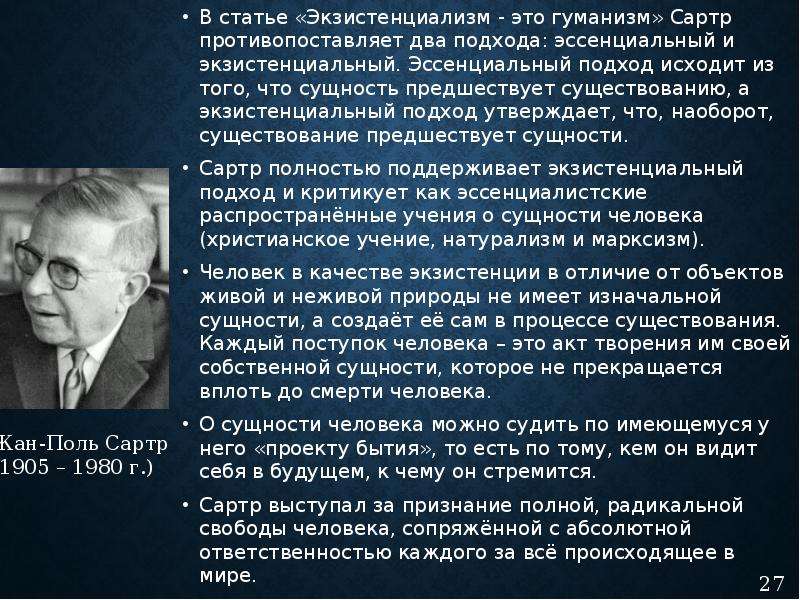 В то же время сознание не есть нечто «чисто внутреннее»
(понятия внутреннего и внешнего не являются основными в феноменологическом
учении о сознании), в сознании нет ничего, кроме смысловой направленности на
реальные, идеальные, воображаемые или просто иллюзорные предметы. Чистое
сознание — это не сознание, очищенное от предметов, напротив, сознание здесь
впервые выявляет свою сущность как смысловое смыкание с предметом благодаря
самоочищению от навязываемых схем, догм, шаблонных ходов мышления, от попыток
найти основу сознания в том, что сознанием не является. Феноменологический метод
— это выявление и описание поля непосредственной смысловой сопряженности
сознания и предмета, поля, горизонты которого не содержат в себе скрытых, не
проявленных в качестве значений сущностей.
В то же время сознание не есть нечто «чисто внутреннее»
(понятия внутреннего и внешнего не являются основными в феноменологическом
учении о сознании), в сознании нет ничего, кроме смысловой направленности на
реальные, идеальные, воображаемые или просто иллюзорные предметы. Чистое
сознание — это не сознание, очищенное от предметов, напротив, сознание здесь
впервые выявляет свою сущность как смысловое смыкание с предметом благодаря
самоочищению от навязываемых схем, догм, шаблонных ходов мышления, от попыток
найти основу сознания в том, что сознанием не является. Феноменологический метод
— это выявление и описание поля непосредственной смысловой сопряженности
сознания и предмета, поля, горизонты которого не содержат в себе скрытых, не
проявленных в качестве значений сущностей.
У Гуссерля взаимная несводимость
сознания и предметного мира выражается в различении трех видов связей: между
вещами (предметами и процессами внешнего мира), между переживаниями и между
значениями. Связь значений — идеальная, а не дедуктивно- или
индуктивно-логическая, она дана только в описании как процесс
смыслоформирования. Сознание в своей сущности принципиально непредметно, оно не
может быть представлено как объект, причинно определяемый или функционально
регулируемый. Сознание обнаруживает себя как направленность на предмет (это и
есть конституирование значения), как бытие осознанности, но не как осознанная
предметность.
Связь значений — идеальная, а не дедуктивно- или
индуктивно-логическая, она дана только в описании как процесс
смыслоформирования. Сознание в своей сущности принципиально непредметно, оно не
может быть представлено как объект, причинно определяемый или функционально
регулируемый. Сознание обнаруживает себя как направленность на предмет (это и
есть конституирование значения), как бытие осознанности, но не как осознанная
предметность.
Переворот в философии, который Гуссерль провозглашает в
своей программной статье «Философия как строгая наука»
(1910- 1911) [Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос,
1911. Кн. 1.], связан прежде всего с поворотом к непсихологически понятой
субъективности и с критикой натурализма, который, по Гуссерлю, или просто
отождествляет все существующее с физической природой, или допускает
существование причинно или функционально зависимого от нее психического. В
«натурализировании» разума Гуссерль увидел опасность не только для теории
познания, но и для человеческой культуры в целом, ибо натурализм стремится
сделать относительными как смысловые данности сознания, так и абсолютные идеалы
и нормы. Релятивизму натурализма он противопоставляет методологию строгой науки
о сознании, в основе которой лежит требование направлять рефлексию (размышление)
на смыслообразующий поток сознания и выявлять смысловую данность переживания
внутри конкретного потока сознания. «Строгость» в учении о сознании
подразумевает, во-первых, отказ от высказываний, в которых нечто утверждается о
существовании предметов в их пространственно-временных и причинных связях;
во-вторых, отказ от высказываний относительно причинно-ассоциативных связей
переживаний. Ни предметы, ни психологические состояния не перестают существовать
оттого, что при повороте к феноменологической установке причинность и
функционализм лишаются статуса единственного метода изучения сознания.
Релятивизму натурализма он противопоставляет методологию строгой науки
о сознании, в основе которой лежит требование направлять рефлексию (размышление)
на смыслообразующий поток сознания и выявлять смысловую данность переживания
внутри конкретного потока сознания. «Строгость» в учении о сознании
подразумевает, во-первых, отказ от высказываний, в которых нечто утверждается о
существовании предметов в их пространственно-временных и причинных связях;
во-вторых, отказ от высказываний относительно причинно-ассоциативных связей
переживаний. Ни предметы, ни психологические состояния не перестают существовать
оттого, что при повороте к феноменологической установке причинность и
функционализм лишаются статуса единственного метода изучения сознания.
Гуссерль вводит особые термины
для обозначения процедур феноменологического метода, благодаря которым
совершается переход от естественной (натуралистической) установки к
феноменологической: эпохе (воздержание от суждений по поводу того, что является
внешним по отношению к сознанию) и феноменологическая редукция (вынесение его за
скобки), то есть выдвижение на первый план смысловой связи сознания и мира. Для
«наивного человека» (выражение Гуссерля) тип связи между предметами сливается с
типом связи между предметами и сознанием. Феноменологическая установка
отстраняется от причинно-функциональной взаимозависимости сознания и предметного
мира. Лозунг «К самому предмету!» — это требование удерживать внимание на
смысловой направленности сознания к предметам, в которой предметы раскрывают
свой смысл без отсылки к природным или рукотворным связям с другими предметами.
В этой процедуре нет ничего сверхъестественного: достаточно, например, направить
внимание на дом как на архитектурное сооружение, несущее определенный
культурно-исторический или социальный смысл, «вынеся за скобки» дом как
препятствие (или цель) и дом как результат деятельности строителей. Постижение
смысловых связей Гуссерль называет «созерцанием сущностей», к чему и должна
подготовить сознание феноменологическая редукция, очистив его от всякого
эмпирического содержания и вынеся за скобки вопрос о существовании внешнего по
отношению к сознанию мира.
Для
«наивного человека» (выражение Гуссерля) тип связи между предметами сливается с
типом связи между предметами и сознанием. Феноменологическая установка
отстраняется от причинно-функциональной взаимозависимости сознания и предметного
мира. Лозунг «К самому предмету!» — это требование удерживать внимание на
смысловой направленности сознания к предметам, в которой предметы раскрывают
свой смысл без отсылки к природным или рукотворным связям с другими предметами.
В этой процедуре нет ничего сверхъестественного: достаточно, например, направить
внимание на дом как на архитектурное сооружение, несущее определенный
культурно-исторический или социальный смысл, «вынеся за скобки» дом как
препятствие (или цель) и дом как результат деятельности строителей. Постижение
смысловых связей Гуссерль называет «созерцанием сущностей», к чему и должна
подготовить сознание феноменологическая редукция, очистив его от всякого
эмпирического содержания и вынеся за скобки вопрос о существовании внешнего по
отношению к сознанию мира.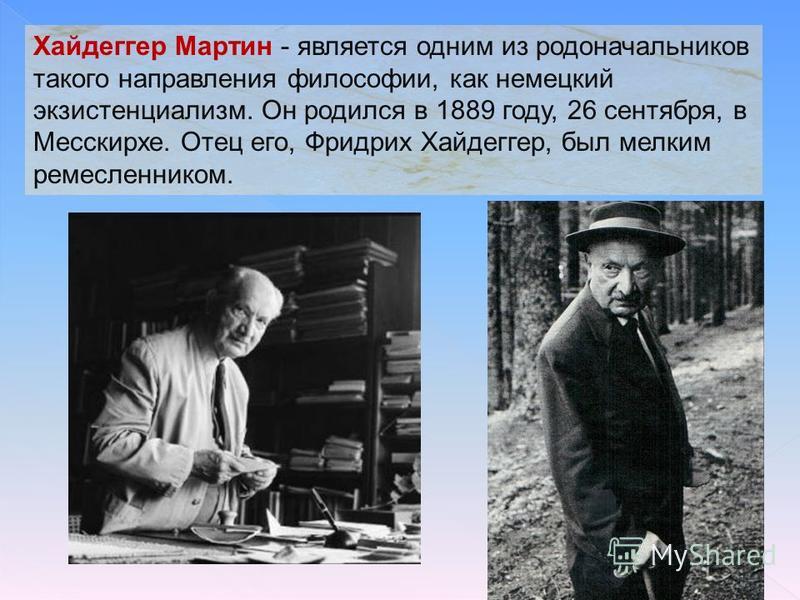 Феноменология объединяет традиционно
противопоставляемые в философии идеальные, вневременные предметы и временной
поток сознания. Поток сознания и идеальный предмет здесь — лишь два рода
непсихологических связей сознания. Гуссерль отождествляет идеальное и общее;
усмотрение общего — не интеллектуальная, рассудочная операция, но особое,
«категориальное созерцание». Созерцание общего должно иметь чувственную опору,
которая, однако, может быть совершенно произвольной: идеальный предмет не связан
необходимым образом с каким-либо определенным видом восприятия, памяти и т.д.
Таким образом, имеют место два существенно различных уровня интенциональности:
усмотрение идей (чистых сущностей) надстраивается над восприятием индивидуальных
предметов и процессов и радикально изменяет саму направленность сознания
(например, восприятие чертежа — это лишь чувственная опора для усмотрения
геометрических соотношений).
Феноменология объединяет традиционно
противопоставляемые в философии идеальные, вневременные предметы и временной
поток сознания. Поток сознания и идеальный предмет здесь — лишь два рода
непсихологических связей сознания. Гуссерль отождествляет идеальное и общее;
усмотрение общего — не интеллектуальная, рассудочная операция, но особое,
«категориальное созерцание». Созерцание общего должно иметь чувственную опору,
которая, однако, может быть совершенно произвольной: идеальный предмет не связан
необходимым образом с каким-либо определенным видом восприятия, памяти и т.д.
Таким образом, имеют место два существенно различных уровня интенциональности:
усмотрение идей (чистых сущностей) надстраивается над восприятием индивидуальных
предметов и процессов и радикально изменяет саму направленность сознания
(например, восприятие чертежа — это лишь чувственная опора для усмотрения
геометрических соотношений).
Время рассматривается в
феноменологии не как объективное время, но как темпораль-ность (временность)
самого сознания, и прежде всего его первичных форм существования — восприятия,
памяти, фантазии.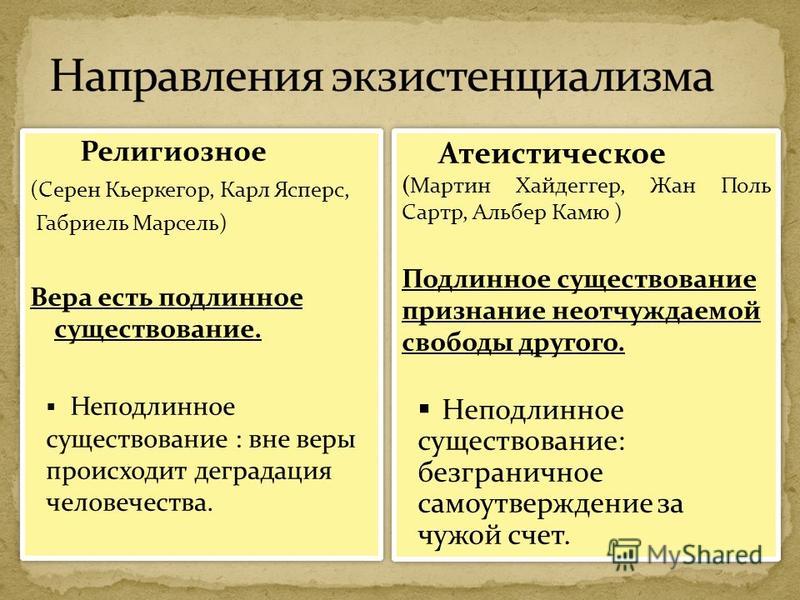 Темпоральность раскрывает сознание как одновременно активное и
пассивное, как сочетание переднего плана восприятия — предметов, их форм, цветов
и т.д. — и заднего плана, или фона, это основа единства сознания. Временной
поток сознания соединяет в себе все его характеристики, как они понимаются в
феноменологии: непредметность, несводимость, отсутствие извне заданного
направления, воспроизводимость и уникальность.
Темпоральность раскрывает сознание как одновременно активное и
пассивное, как сочетание переднего плана восприятия — предметов, их форм, цветов
и т.д. — и заднего плана, или фона, это основа единства сознания. Временной
поток сознания соединяет в себе все его характеристики, как они понимаются в
феноменологии: непредметность, несводимость, отсутствие извне заданного
направления, воспроизводимость и уникальность.
Принципиальным для феноменологии
является разработка онтологического понимания истины. Гуссерль называет истиной,
во-первых, определенность бытия, то есть единство значений, существующее
независимо от того, усматривает ли его кто-то или нет, а также само бытие,
понимаемое как «предмет, свершающий истину». Иначе говоря, истина — это
тождество предмета самому себе, «бытие в смысле истины» (истинный друг, истинное
положение дел и т.д.). Во-вторых, истина — это структура акта сознания, которая
создает возможность усмотрения положения дел именно таким, каково оно есть, то
есть возможность тождества (совпадения) мыслимого и созерцаемого; очевидность
как критерий истины является переживанием этого совпадения.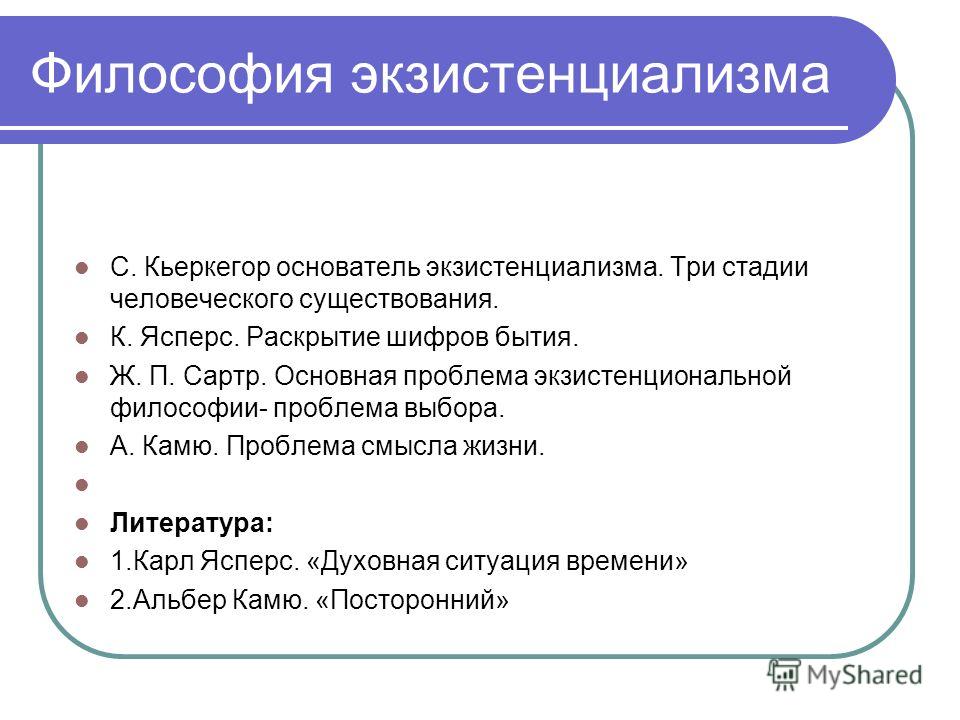
С представлением о субъективности
сознания и характере его объективации связаны такие понятия феноменологии, как
интерсубъективность и историчность. Мир, который мы обнаруживаем в сознании,
есть интерсубъективный мир, то есть пересечение и переплетение объективированных
смыслов. Что касается исторического мира, то он, согласно Гуссерлю, «дан прежде
всего, конечно, как общественно-исторический мир, но он историчен только
благодаря внутренней историчности индивидов». В основе историчности лежит,
во-первых, первичная темпоральность (временность) индивидуальных человеческих
сознаний как условие возможности временного и смыслового поля любого сообщества
и, во-вторых, возникшая в Древней Греции «теоретическая установка», связующая
людей для совместной работы по созданию мира смысловых структур. В таком
понимании европейская культура должна исполнить свое предназначение —
осуществление «сверхнациональности» как цивилизации нового типа не столько на
пути унификации экономических и политических связей, сколько через «дух
свободной критики», который ставит перед человечеством новые, бесконечные задачи
и «творит новые, бесконечные идеалы».
Таким образом, феноменология —
это учение о бытии сознания, которое несводимо (равно как и невыводимо из них) к
«практическим последствиям» (прагматизм), к иррациональному потоку бытия или
образу культуры (философия жизни), к практической деятельности (марксизм), к
индивидуальному или коллективному бессознательному (психоанализ), к знаковым
системам и структурным связям как каркасу культуры (структурализм), к
логическому и лингвистическому анализу (аналитическая философия). В то же время
феноменология имеет определенные точки соприкосновения практически со всеми
течениями мысли, сформировавшимися или получившими распространение в XX веке.
Существенная близость обнаруживается там, где на первый план выступает проблема
значения (смысла), где анализ наталкивается на несводимость значения к тому, что
не является значением или смыслообразующим актом. В феноменологическом учении о
сознании выявляются предельные возможности многообразных способов
смыслообразования: от простейшей фиксации пространственно-временного положения
объекта до усмотрения идеальных предметов, от первичного восприятия предмета до
размышления о смысловых основах культуры.
2. Экзистенциализм
Экзистенциализм (от позднелат. exsistentia — существование), или философия существования, — философское направление XX века, идеи которого получили широкое распространение во многих европейских странах, а также в США. Его основоположниками на Западе считаются немецкие философы Карл Ясперс (1883-1969) и Мартин Хайдеггер (1889-1976), французские философы Жан Поль Сартр (1905-1980), Габриель Марсель (1889-1973), а также Морис Мерло-Понти (1908-1961) и Альбер Камю (1913-1960). К экзистенциализму близко такое религиозно-философское течение, как персонализм. Среди писателей XX века близкие экзистенциализму умонастроения выражают Э. Хемингуэй, А. де Сент-Экзюпери, С. Беккет и др.
Экзистенциализм не является
академической доктриной, его основные темы — человеческое существование, судьба
личности, вера и неверие, утрата и обретение смысла жизни, — близкие любому
художнику, писателю, поэту, с одной стороны, сделали это направление популярным
среди художественной интеллигенции, а с другой — побудили самих
экзистенциалистов обращаться к языку искусства (Ж. П. Сартр, А. Камю, Г.
Марсель). Различают экзистенциализм религиозный (К. Ясперс, Г. Марсель, М.
Бубер) и атеистический (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю, М. Мерло-Понти, С.
де Бовуар). Однако определение «атеистический» по отношению к экзистенциализму
несколько условно, так как признание того, что Бог умер, сопровождается у его
сторонников утверждением невозможности и абсурдности жизни без Бога. Своими
предшественниками экзистенциалисты считают Б. Паскаля, С. Кьеркегора, М.
Унамуно, Ф. М. Достоевского и Ф. Ницше. Преобладающее влияние на экзистенциализм
оказали философия жизни и феноменология Э. Гуссерля.
П. Сартр, А. Камю, Г.
Марсель). Различают экзистенциализм религиозный (К. Ясперс, Г. Марсель, М.
Бубер) и атеистический (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю, М. Мерло-Понти, С.
де Бовуар). Однако определение «атеистический» по отношению к экзистенциализму
несколько условно, так как признание того, что Бог умер, сопровождается у его
сторонников утверждением невозможности и абсурдности жизни без Бога. Своими
предшественниками экзистенциалисты считают Б. Паскаля, С. Кьеркегора, М.
Унамуно, Ф. М. Достоевского и Ф. Ницше. Преобладающее влияние на экзистенциализм
оказали философия жизни и феноменология Э. Гуссерля.
В отличие от методологизма и
гносеологизма, распространенных в философии конца XIX — начала XX века,
экзистенциализм пытается возродить онтологию (учение о бытии). С философией
жизни его сближает стремление понять бытие как нечто непосредственное и
преодолеть интеллектуализм как традиционной рационалистической философии, так и
науки. Бытие, согласно экзистенциализму, не есть ни эмпирическая реальность,
данная нам во внешнем восприятии, ни рациональная конструкция, предлагаемая
научным мышлением, ни мир «умопостигаемых сущностей», познание которого
составляло задачу классического рационализма; во всех этих случаях проводилось
различение и даже противопоставление субъекта объекту. Бытие должно быть
постигнуто только интуитивно, как некая изначальная непосредственная,
нерасчлененная целостность субъекта и объекта. Но в отличие от философии жизни,
выделившей в качестве изначального и подлинного бытия само переживание,
экзистенциализм стремится преодолеть психологизм и найти ядро непосредственного
переживания, которое не может быть названо просто переживанием, то есть чем-то
субъективным. В качестве такого ядра экзистенциализм выдвигает переживание
субъектом своего «бытия-в-мире». Бытие здесь дано непосредственно, в виде
собственного бытия — существования или экзистенции. Для описания ее структуры
многие представители экзистенциализма прибегают к феноменологическому методу
Гуссерля, выделяя в качестве структуры сознания его направленность на другое
(интенциональность). В отличие от того, что в философии жизни называлось
«жизнью», переживанием, которое как бы замкнуто в себе, экзистенция открыта, она
направлена на другое, становящееся ее центром притяжения.
Бытие должно быть
постигнуто только интуитивно, как некая изначальная непосредственная,
нерасчлененная целостность субъекта и объекта. Но в отличие от философии жизни,
выделившей в качестве изначального и подлинного бытия само переживание,
экзистенциализм стремится преодолеть психологизм и найти ядро непосредственного
переживания, которое не может быть названо просто переживанием, то есть чем-то
субъективным. В качестве такого ядра экзистенциализм выдвигает переживание
субъектом своего «бытия-в-мире». Бытие здесь дано непосредственно, в виде
собственного бытия — существования или экзистенции. Для описания ее структуры
многие представители экзистенциализма прибегают к феноменологическому методу
Гуссерля, выделяя в качестве структуры сознания его направленность на другое
(интенциональность). В отличие от того, что в философии жизни называлось
«жизнью», переживанием, которое как бы замкнуто в себе, экзистенция открыта, она
направлена на другое, становящееся ее центром притяжения.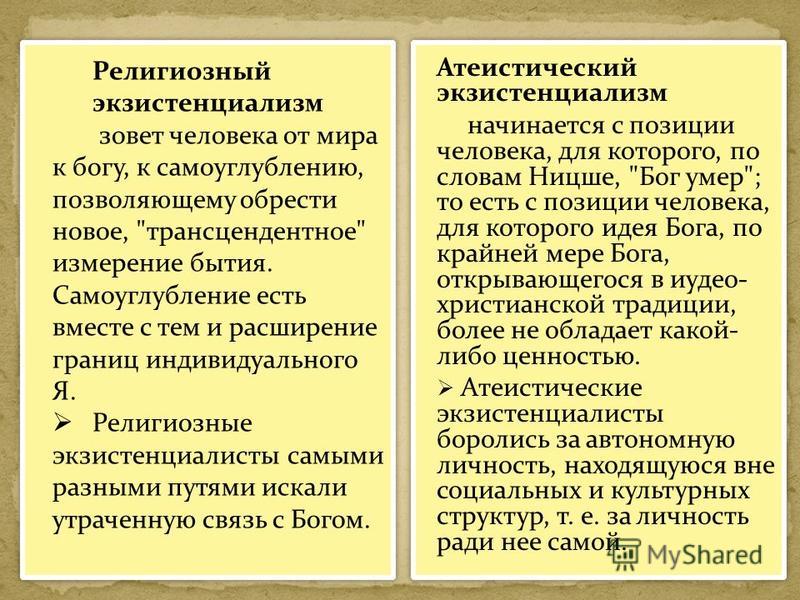 Согласно
атеистическому варианту экзистенциализма, экзистенция есть бытие, направленное к
ничто и сознающее свою конечность. Поэтому описание структуры экзистенции,
предпринятое Хайдеггером, есть описание ряда модусов (свойств) человеческого
существования. Такие модусы экзистенции, как забота, страх, решимость, совесть и
другие, определяются через смерть, они суть различные способы соприкосновения с
ничто, движения к нему, убегания от него и т.д. Как считает Ясперс, именно в
пограничных ситуациях (в моменты глубочайших потрясений, перед лицом смерти)
человек прозревает экзистенцию как глубочайший корень своего существа.
Согласно
атеистическому варианту экзистенциализма, экзистенция есть бытие, направленное к
ничто и сознающее свою конечность. Поэтому описание структуры экзистенции,
предпринятое Хайдеггером, есть описание ряда модусов (свойств) человеческого
существования. Такие модусы экзистенции, как забота, страх, решимость, совесть и
другие, определяются через смерть, они суть различные способы соприкосновения с
ничто, движения к нему, убегания от него и т.д. Как считает Ясперс, именно в
пограничных ситуациях (в моменты глубочайших потрясений, перед лицом смерти)
человек прозревает экзистенцию как глубочайший корень своего существа.
Итак, существенное определение
нашего бытия, именуемого экзистенцией, есть его незамкнутость, открытость,
предпосылкой чего является конечность экзистенции, ее смертность. В силу своей
конечности экзистенция является временной, и ее временность существенно
отличается от объективного времени как чистого количества, безразличного по
отношению к заполняющему его содержанию.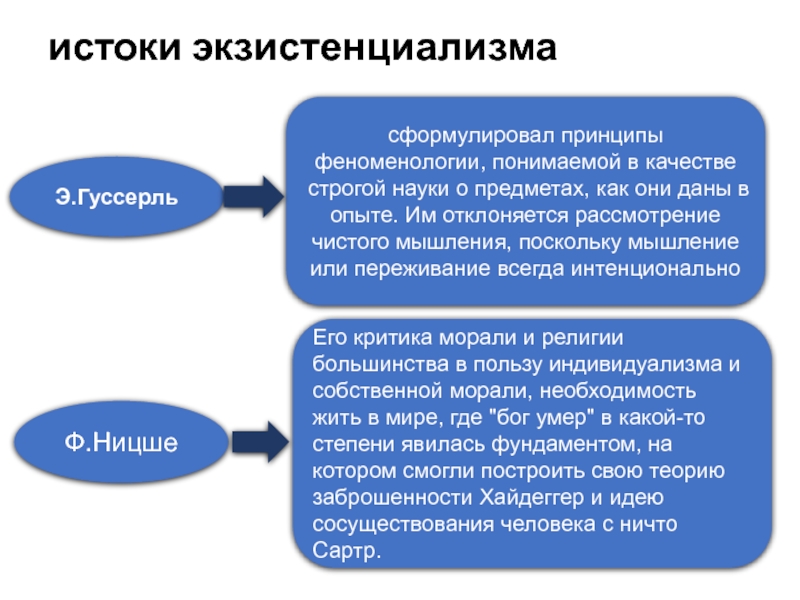 Экзистенциалисты отличают подлинную, то
есть экзистенциальную, временность (она же историчность) от физического времени,
которое производно от нее. Они подчеркивают в феномене времени определяющее
значение будущего и рассматривают его в связи с такими экзистенциалами (модусами
экзистенции), как решимость, проект, надежда, отмечая тем самым
личностно-исторический (а не безлично-космический) характер времени и утверждая
его связь с человеческой деятельностью, исканием, напряжением, ожиданием.
Историчность человеческого существования выражается, согласно экзистенциализму,
в том, что оно всегда находит себя в определенной ситуации, в которую оно
«заброшено» и с которой вынуждено считаться. Принадлежность к определенному
народу, сословию, наличие у индивида тех или иных биологических, психологических
и других качеств, все это — эмпирическое выражение изначально-ситуационного
характера экзистенции, того, что она есть «бытие-в-мире». Временность,
историчность и «ситуационность» экзистенции — модусы ее конечности.
Экзистенциалисты отличают подлинную, то
есть экзистенциальную, временность (она же историчность) от физического времени,
которое производно от нее. Они подчеркивают в феномене времени определяющее
значение будущего и рассматривают его в связи с такими экзистенциалами (модусами
экзистенции), как решимость, проект, надежда, отмечая тем самым
личностно-исторический (а не безлично-космический) характер времени и утверждая
его связь с человеческой деятельностью, исканием, напряжением, ожиданием.
Историчность человеческого существования выражается, согласно экзистенциализму,
в том, что оно всегда находит себя в определенной ситуации, в которую оно
«заброшено» и с которой вынуждено считаться. Принадлежность к определенному
народу, сословию, наличие у индивида тех или иных биологических, психологических
и других качеств, все это — эмпирическое выражение изначально-ситуационного
характера экзистенции, того, что она есть «бытие-в-мире». Временность,
историчность и «ситуационность» экзистенции — модусы ее конечности.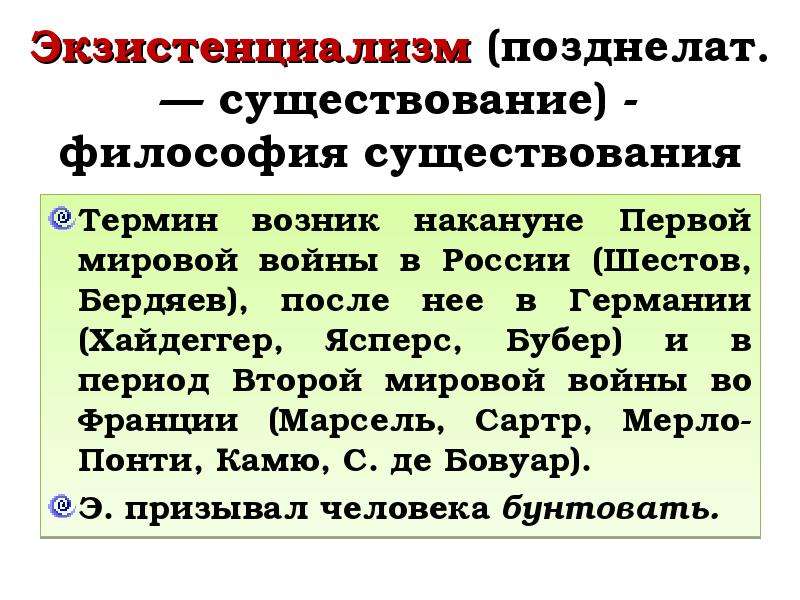
Другим важнейшим определением экзистенции является трансцендирование, то есть выход за свои пределы. Трансцендентное и сам акт трансцендирования понимаются различными представителями экзистенциализма неодинаково. С точки зрения религиозного экзистенциализма трансцендентное — это Бог. Согласно Сартру и Камю, трансценденция есть ничто, выступающее как глубочайшая тайна экзистенции. Если у Ясперса, Марселя, позднего Хайдеггера, признающих реальность трансцендентного, преобладает момент символический и даже мифопоэтический (у Хайдеггера), поскольку трансцендентное невозможно рационально познать, а можно лишь «намекнуть» на него, то учение Сартра и Камю, ставящих своей задачей показать иллюзорность трансценденции, носит в этом отношении критический и даже нигилистический характер.
Социальный смысл учения об
экзистенции и трансценденции раскрывается в экзистенциалистских концепциях
личности и свободы. Личность, согласно экзистенциализму, есть самоцель,
коллектив — средство, обеспечивающее возможность материального существования
составляющих его индивидов.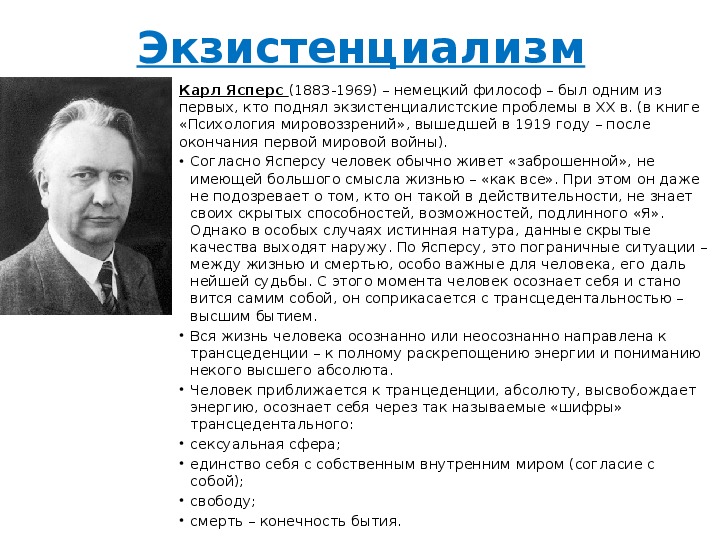 Общество, далее, призвано обеспечивать возможность
свободного духовного развития каждой личности, гарантируя ей правовой порядок,
ограждающий личность от посягательств на ее свободу. Но роль общества остается
при этом, в сущности, отрицательной: свобода, которую оно может предоставить
индивиду, это «свобода от» — свобода экономическая, политическая и т.п.
Подлинная же свобода, «свобода для», начинается по ту сторону социальной сферы,
в мире духовной жизни личности, где индивиды сталкиваются не как производители
материальных благ и не как субъекты правовых отношений, а как экзистенции.
Общество при этом лишь ограничивает личность. Отсюда центр тяжести перемещается
с родового, общественного на единичного человека. Последний, однако, важен не
сам по себе, а лишь как «явленность трансцендентного». В этой связи вводится
различение индивидуальности и личности. Экзистенциализм вычленяет в человеке как
бы несколько слоев: природный (биологически-физиологический и психологический),
изучаемый естественными науками и составляющий его природную, эмпирическую
индивидуальность; социальный, изучаемый социологией; духовный, являющийся
предметом изучения истории, философии, искусствознания и т.
Общество, далее, призвано обеспечивать возможность
свободного духовного развития каждой личности, гарантируя ей правовой порядок,
ограждающий личность от посягательств на ее свободу. Но роль общества остается
при этом, в сущности, отрицательной: свобода, которую оно может предоставить
индивиду, это «свобода от» — свобода экономическая, политическая и т.п.
Подлинная же свобода, «свобода для», начинается по ту сторону социальной сферы,
в мире духовной жизни личности, где индивиды сталкиваются не как производители
материальных благ и не как субъекты правовых отношений, а как экзистенции.
Общество при этом лишь ограничивает личность. Отсюда центр тяжести перемещается
с родового, общественного на единичного человека. Последний, однако, важен не
сам по себе, а лишь как «явленность трансцендентного». В этой связи вводится
различение индивидуальности и личности. Экзистенциализм вычленяет в человеке как
бы несколько слоев: природный (биологически-физиологический и психологический),
изучаемый естественными науками и составляющий его природную, эмпирическую
индивидуальность; социальный, изучаемый социологией; духовный, являющийся
предметом изучения истории, философии, искусствознания и т.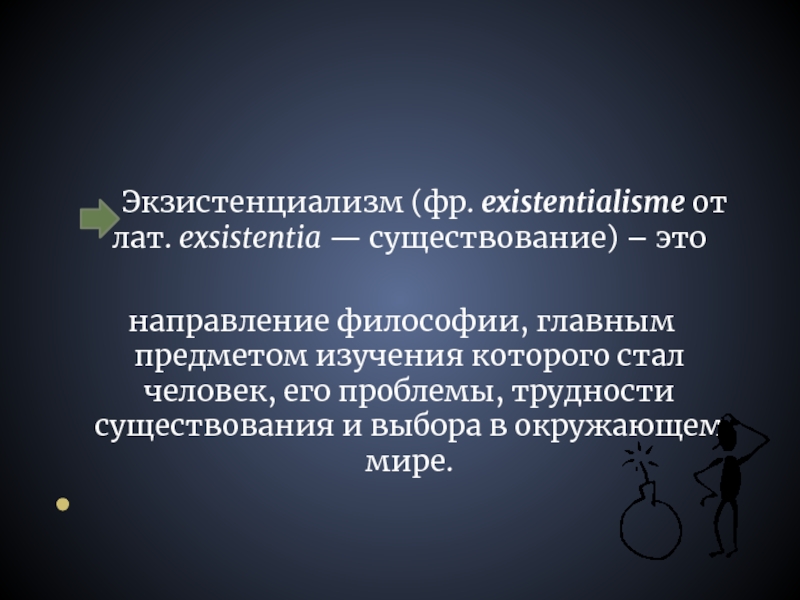 д., и, наконец,
экзистенциальный, который не поддается научному познанию и может быть лишь
освещен или «прояснен» философией (Ясперс).
д., и, наконец,
экзистенциальный, который не поддается научному познанию и может быть лишь
освещен или «прояснен» философией (Ясперс).
Экзистенциализм отвергает как
рационалистическую просветительскую традицию, сводящую свободу к познанию
необходимости, так и гуманистически-натуралистическую, для которой свобода
состоит в раскрытии природных задатков человека, раскрепощении его «сущностных»
сил. Свобода, согласно экзистенциализму, должна быть понята исходя из
экзистенции. Поскольку же структура экзистенции выражается в
«направленности-на», в трансцендировании, то понимание свободы различными
представителями экзистенциализма определяется их трактовкой трансценденции.
Согласно Марселю и Ясперсу, свободу можно обрести лишь в Боге. Согласно Сартру,
у которого трансценденция — это ничто, свобода есть отрицательность по отношению
к бытию, которое он трактует как эмпирически сущее. Человек свободен в том
смысле, что он сам «проектирует», создает себя, выбирает себя, не определяясь
ничем, кроме собственной субъективности, сущность которой — в полной
независимости от чего бы то ни было. Человек одинок и лишен всякого
онтологического «основания». Учение Сартра о свободе служит выражением позиции
крайнего индивидуализма. Свобода предстает в экзистенциализме как тяжелое бремя,
которое должен нести человек, поскольку он личность. Он может отказаться от
своей свободы, перестать быть самим собой, стать «как все», но только ценой
отказа от себя как личности. Мир, в который при этом погружается человек, носит
у Хайдеггера название «man» (немецкое безличное местоимение): это безличный мир,
в котором все анонимно, в котором нет субъектов действия, в котором все —
«другие», и человек даже по отношению к самому себе является «другим»; это мир,
в котором никто ничего не решает, а потому и не несет ни за что
ответственности.
Человек одинок и лишен всякого
онтологического «основания». Учение Сартра о свободе служит выражением позиции
крайнего индивидуализма. Свобода предстает в экзистенциализме как тяжелое бремя,
которое должен нести человек, поскольку он личность. Он может отказаться от
своей свободы, перестать быть самим собой, стать «как все», но только ценой
отказа от себя как личности. Мир, в который при этом погружается человек, носит
у Хайдеггера название «man» (немецкое безличное местоимение): это безличный мир,
в котором все анонимно, в котором нет субъектов действия, в котором все —
«другие», и человек даже по отношению к самому себе является «другим»; это мир,
в котором никто ничего не решает, а потому и не несет ни за что
ответственности.
Общение индивидов, осуществляемое
в таком мире, не является подлинным, оно лишь подчеркивает одиночество каждого.
Согласно Камю, перед лицом ничто, которое делает человеческую жизнь
бессмысленной, прорыв одного индивида к другому, подлинное общение между ними
невозможно. И Сартр, и Камю видят фальшь и ханжество во всех формах общения
индивидов, освященных традиционной религией и нравственностью: в любви, дружбе и
т.п. Характерное для Сартра стремление разобличить искаженные, превращенные
формы сознания («дурной веры» или «самообмана») оборачивается требованием
принять реальность сознания, разобщенного с другими и самим собой. Единственный
способ подлинного общения, который признает Камю, — это единение индивидов в
бунте против «абсурдного» мира, против конечности, смертности, несовершенства,
бессмысленности человеческого бытия. Экстаз может объединить человека с другим,
но это в сущности экстаз разрушения, мятежа, рожденного отчаянием «абсурдного»
человека.
И Сартр, и Камю видят фальшь и ханжество во всех формах общения
индивидов, освященных традиционной религией и нравственностью: в любви, дружбе и
т.п. Характерное для Сартра стремление разобличить искаженные, превращенные
формы сознания («дурной веры» или «самообмана») оборачивается требованием
принять реальность сознания, разобщенного с другими и самим собой. Единственный
способ подлинного общения, который признает Камю, — это единение индивидов в
бунте против «абсурдного» мира, против конечности, смертности, несовершенства,
бессмысленности человеческого бытия. Экстаз может объединить человека с другим,
но это в сущности экстаз разрушения, мятежа, рожденного отчаянием «абсурдного»
человека.
Иное решение проблемы общения
дает Марсель. Согласно ему, разобщенность индивидов порождается тем, что
предметное бытие принимается за единственно возможное. Но подлинное бытие —
трансценденция — является не предметным, а личностным, потому истинное отношение
к бытию — это диалог. Бытие, по Марселю, не Оно, а Ты. Поэтому прообразом
отношения человека к бытию является глубоко личное отношение к другому человеку,
осуществляемое перед лицом Бога. Любовь, согласно Марселю, есть
трансцендирование, прорыв к другому, будь то личность человеческая или
божественная. Поскольку такой прорыв с помощью рассудка понять нельзя, Марсель
относит его к сфере «таинства».
Бытие, по Марселю, не Оно, а Ты. Поэтому прообразом
отношения человека к бытию является глубоко личное отношение к другому человеку,
осуществляемое перед лицом Бога. Любовь, согласно Марселю, есть
трансцендирование, прорыв к другому, будь то личность человеческая или
божественная. Поскольку такой прорыв с помощью рассудка понять нельзя, Марсель
относит его к сфере «таинства».
Прорывом мира «man» является,
согласно экзистенциализму, не только подлинное человеческое общение, но и сфера
художественного, философского, религиозного творчества. Однако истинная
коммуникация (общение), как и творчество, несет в себе трагический надлом: мир
объективности непрестанно грозит разрушить экзистенциальную коммуникацию.
Сознание этого приводит Ясперса к утверждению, что все в мире в конце концов
терпит крушение в силу самой конечности экзистенции, и потому человек должен
научиться жить и любить с постоянным сознанием хрупкости всего, что он любит,
незащищенности самой любви. Глубоко скрытая боль, причиняемая этим сознанием,
придает его привязанности особую чистоту и одухотворенность.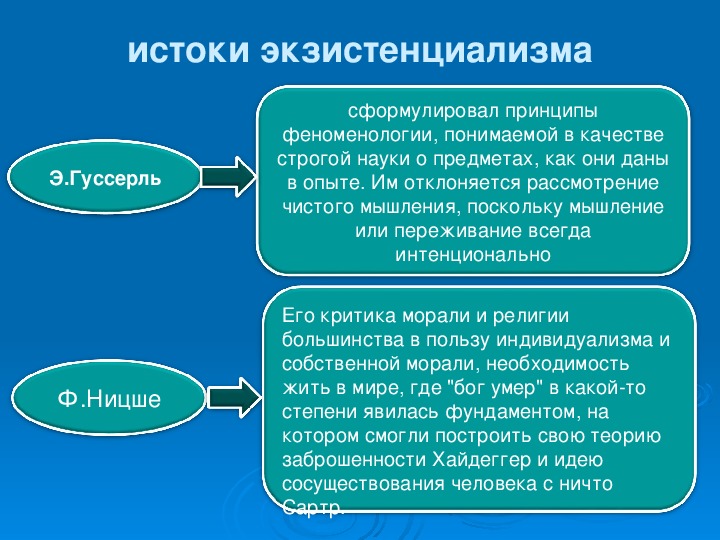
Социально-политические позиции у разных представителей экзистенциализма неодинаковы. Так, Сартр и Камю участвовали в движении Сопротивления; с конца 1960-х годов позиция Сартра отличалась крайним левым радикализмом и экстремизмом. Концепции Сартра и Камю оказали известное влияние на социально-политическую программу движения «новых левых» (культ свободы, перерастающей в произвол). Политическая ориентация Ясперса и Марселя носила либеральный характер, а социально-политическим воззрениям Хайдеггера была присуща консервативная тенденция.
В целом экзистенциализм
представляет собой умонастроение человека XX века, утратившего веру в разум
исторический и научный, недаром он находится в оппозиции как к рационализму и
классическому идеализму, верившим в разумную необходимость исторического
процесса, так и к позитивизму. Не возлагая надежд ни на божественное провидение,
ни на логику истории, ни на всесилие науки и техники и не доверяя природной
мощи, экзистенциализм обращается не к силе, а к слабости — к самому человеку в
его конечности. Сегодняшний человек, согласно экзистенциализму, может черпать
силы только в своей слабости, он может обрести смысл своей жизни не перед лицом
вечного и бесконечного, а перед лицом смерти. Освободить человека от всех надежд
на то, что он может обрести свободу с помощью чего-то вне себя, и от всех
иллюзий, связанных с этими надеждами, поставить его перед собой и заставить
заглянуть в себя — вот та задача, которую поставил перед собой
экзистенциализм.
Сегодняшний человек, согласно экзистенциализму, может черпать
силы только в своей слабости, он может обрести смысл своей жизни не перед лицом
вечного и бесконечного, а перед лицом смерти. Освободить человека от всех надежд
на то, что он может обрести свободу с помощью чего-то вне себя, и от всех
иллюзий, связанных с этими надеждами, поставить его перед собой и заставить
заглянуть в себя — вот та задача, которую поставил перед собой
экзистенциализм.
Пока экзистенциализм выступает
как философия критическая, требующая разоблачения иллюзий о человеке, пока он
производит «феноменологическую редукцию», очищая от внешнего и открывая ядро
человеческой личности — экзистенцию, — он остается верным своим предпосылкам. Но
как только он пытается утвердить положительные ценности, он вступает с этими
предпосылками в противоречие. В самом деле, как совместить культурное творчество
— созидание, утверждение — с устремленностью к ничто, концу, смерти? Как
соединить культуру и экзистенцию? Перед лицом ничто всякое устремление, всякое
творчество с самого начала обречено на крушение, перед лицом ничто незачем
строить.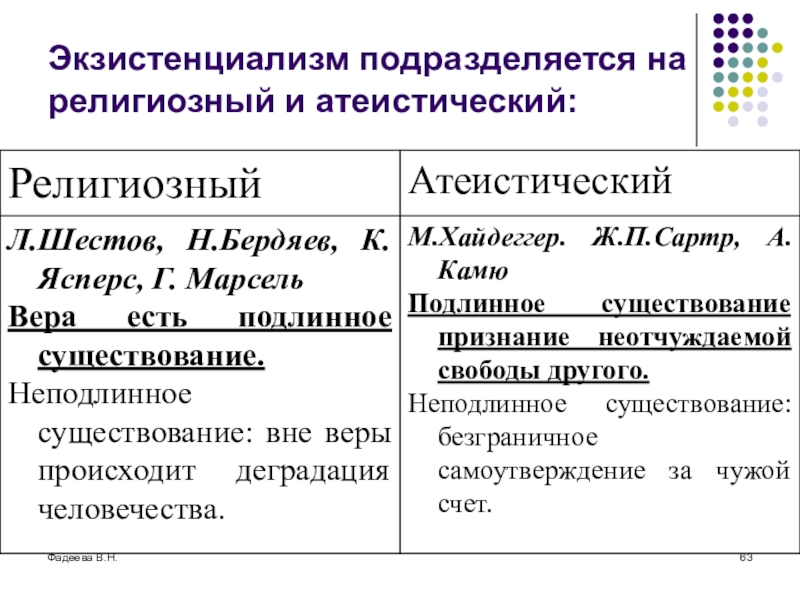 Поэтому экзистенциалисты (прежде всего такие философы, как Сартр, Камю)
склонны скорее к бунту, чем к творчеству, созиданию.
Поэтому экзистенциалисты (прежде всего такие философы, как Сартр, Камю)
склонны скорее к бунту, чем к творчеству, созиданию.
Поздний Хайдеггер в поисках подлинного бытия все чаще обращал свой взор на Восток, в частности к дзен-буддизму, с которым его сближала тоска по «невыразимому» и «неизреченному», а также склонность к метафорическому способу выражения.
3. Герменевтика
Под герменевтикой (от греческого слова hermeneutike — искусство разъяснения, толкования) в широком смысле понимают теорию и практику толкования текстов. Своими корнями она уходит в древнегреческую философию, где практиковалось искусство толкования различного рода иносказаний, высказываний, содержащих многозначные символы. Прибегали к герменевтике и христианские теологи для толкования Библии. Особое значение приобретает герменевтика в теологии протестантизма, где она рассматривается как средство выявления «истинного» смысла Священного Писания.
Как научный метод герменевтика
формируется с развитием филологии и других гуманитарных наук. В ходе долгой
истории этих наук в них складываются особые методы постижения их предмета, к
которым можно отнести исторический, психологический, феноменологический,
логико-семантический, герменевтический, структуралистский и некоторые другие.
Герменевтика как изначально ориентированная на постижение смысла текста, причем
постижение его как бы «изнутри», исходя из него самого, отвлекаясь от
социально-исторических, психологических и иных факторов, занимает особое
положение в гуманитарном познании. Ведь специфическим предметом исследования в
гуманитарных науках, что отличает их от других наук, является именно текст, как
особая система знаков, связанных между собой определенными отношениями. Иначе
говоря, отражение действительности в гуманитарном исследовании опосредовано
текстом.
В ходе долгой
истории этих наук в них складываются особые методы постижения их предмета, к
которым можно отнести исторический, психологический, феноменологический,
логико-семантический, герменевтический, структуралистский и некоторые другие.
Герменевтика как изначально ориентированная на постижение смысла текста, причем
постижение его как бы «изнутри», исходя из него самого, отвлекаясь от
социально-исторических, психологических и иных факторов, занимает особое
положение в гуманитарном познании. Ведь специфическим предметом исследования в
гуманитарных науках, что отличает их от других наук, является именно текст, как
особая система знаков, связанных между собой определенными отношениями. Иначе
говоря, отражение действительности в гуманитарном исследовании опосредовано
текстом.
Герменевтика нужна там, где
существует непонимание. Если смысл как бы «скрыт» от субъекта познания, то его
надо дешифровать, понять, усвоить, истолковать. Понимание и правильное
истолкование понятого — таков в общем плане герменевтический метод получения
гуманитарного знания. Отсюда постижение, усвоение смысла текста являются
процедурами, качественно отличными от метода объяснения природных и общественных
закономерностей. Так как предметной основой гуманитарных наук является текст, то
мощным средством его анализа выступает язык, слово как существенный,
системообразующий элемент культуры. Отсюда герменевтическая методология
гуманитарных наук тесно связана с анализом культуры, ее феноменов.
Отсюда постижение, усвоение смысла текста являются
процедурами, качественно отличными от метода объяснения природных и общественных
закономерностей. Так как предметной основой гуманитарных наук является текст, то
мощным средством его анализа выступает язык, слово как существенный,
системообразующий элемент культуры. Отсюда герменевтическая методология
гуманитарных наук тесно связана с анализом культуры, ее феноменов.
Современная герменевтика, как она
сложилась в XX веке, включает не только конкретно-научный метод исследования,
применяемый в гуманитарном познании. Это и особое направление в философии. Идеи
философской герменевтики были развиты на Западе прежде всего в трудах немецкого
философа, представителя философии жизни Вильгельма Дильтея, итальянского
представителя классической герменевтики Эмилио Бетти (1890-1970), одного из
крупнейших философов XX века Мартина Хайдеггера, немецкого философа Ханса Георга
Гадамера (1900- 2002). В русской философии герменевтика разрабатывалась Густавом
Густавовичем Шпетом (1879-1937).
В. Дильтей заложил основы философской герменевтики, стремясь обосновать специфику наук о духе (то есть гуманитарных наук) в их отличии от естественных наук. Такое отличие он усматривал в методе понимания как непосредственного, интуитивного постижения некоторой духовной целостности (или целостного переживания). Если науки о природе прибегают к методу объяснения, который имеет дело с внешним опытом и связан с деятельностью рассудка, то для постижения письменно фиксированных проявлений жизни, для изучения культуры прошлого, согласно Дильтею, необходимы понимание и истолкование ее явлений как моментов целостной духовной жизни той или иной эпохи, что и определяет специфику наук о духе.
Этот подход к герменевтике как
общей методологии наук о духе позднее продолжил Э. Бетти (одна из его работ так
и называется — «Герменевтика как общая методология наук о духе», 1962).
Понимание для Бетти — это сугубо познавательная, методологическая проблема. Суть
понимания он усматривает в узнавании и реконструкции смысла текста, опирающихся
на его интерпретацию (истолкование).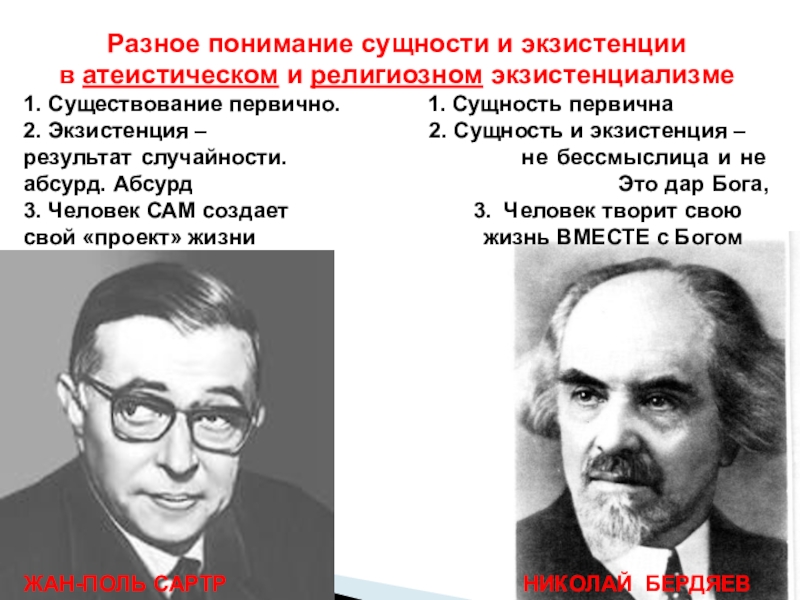 Методика интерпретации требует соблюдения
канонов или правил. Сюда относятся требование соответствия реконструкции точке
зрения автора текста и в связи с этим требование автономности текста как
обладающего собственной логикой. Отсюда следует необходимость ввести в метод
исследования принцип так называемого герменевтического круга, когда единство
целого проясняется через отдельные части, а смысл отдельных частей проясняется
через единство целого. Еще один канон — канон актуальности понимания — говорит о
бессмысленности полного устранения субъективного фактора. Чтобы реконструировать
чужие мысли, произведения прошлого, чтобы вернуть в настоящую действительность
чужие переживания, нужно соотнести их с собственным «духовным горизонтом». Канон
смысловой адекватности понимания, или канон герменевтического смыслового
соответствия, направлен на интерпретатора и требует от него «собственную
жизненную актуальность согласовывать с толчком, который исходит от объекта». В
этих канонах Бетти усматривал критерий «правильности» и «объективности»
герменевтической интерпретации.
Методика интерпретации требует соблюдения
канонов или правил. Сюда относятся требование соответствия реконструкции точке
зрения автора текста и в связи с этим требование автономности текста как
обладающего собственной логикой. Отсюда следует необходимость ввести в метод
исследования принцип так называемого герменевтического круга, когда единство
целого проясняется через отдельные части, а смысл отдельных частей проясняется
через единство целого. Еще один канон — канон актуальности понимания — говорит о
бессмысленности полного устранения субъективного фактора. Чтобы реконструировать
чужие мысли, произведения прошлого, чтобы вернуть в настоящую действительность
чужие переживания, нужно соотнести их с собственным «духовным горизонтом». Канон
смысловой адекватности понимания, или канон герменевтического смыслового
соответствия, направлен на интерпретатора и требует от него «собственную
жизненную актуальность согласовывать с толчком, который исходит от объекта». В
этих канонах Бетти усматривал критерий «правильности» и «объективности»
герменевтической интерпретации.
Существенное влияние на развитие философской герменевтики оказала разработка Э. Гуссерлем идей феноменологии.
Г. Г. Шпет, будучи учеником
Гуссерля, попытался соединить феноменологию с герменевтическим подходом.
Введение герменевтического метода в феноменологию было обусловлено, с точки
зрения Шпета, наличием в содержании направленного на предмет сознания
специфической функции осмысления. Осмысление в качестве своеобразного
самостоятельного акта требовало для своего осуществления определенных средств.
Смысл как сущность сознания, как сложнейшее многоуровневое образование должен не
только непосредственно усматриваться рациональной интуицией как нечто очевидное,
но и пониматься. Понимание же обеспечивается истолкованием (интерпретацией).
Именно так, через понимание и интерпретацию герменевтическая проблематика
вливается в феноменологию. Герменевтика (с ее функцией осмысления и
интерпретации) и феноменология (как обнаружение смысла в различных его
положениях) должны быть, как считает Шпет, сплетены в деятельности в единый
метод.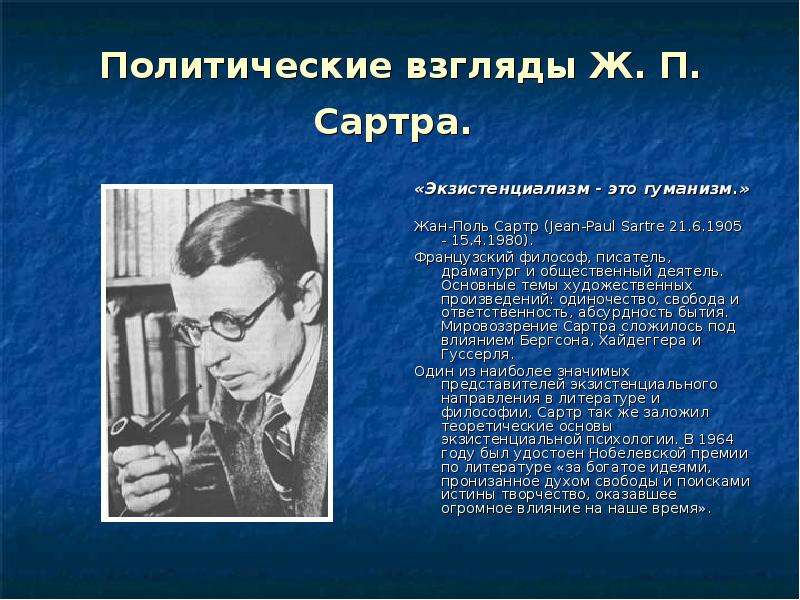 При этом даже в ранних, собственно феноменологических работах проблема
смыс-лообразования рассматривалась им в значительной степени со стороны его
социально-исторического осуществления в явлениях культуры. А культурный опыт
человечества мог быть, по его мнению, осмыслен лишь с привлечением особых
герменевтических средств. В дальнейшем (в работах «Язык и смысл», «Внутренняя
форма слова» и др.) Шпет в связи с пониманием и истолкованием текстов, с
анализом слова все больше обращается к проблемам герменевтики.
При этом даже в ранних, собственно феноменологических работах проблема
смыс-лообразования рассматривалась им в значительной степени со стороны его
социально-исторического осуществления в явлениях культуры. А культурный опыт
человечества мог быть, по его мнению, осмыслен лишь с привлечением особых
герменевтических средств. В дальнейшем (в работах «Язык и смысл», «Внутренняя
форма слова» и др.) Шпет в связи с пониманием и истолкованием текстов, с
анализом слова все больше обращается к проблемам герменевтики.
От феноменологии Гуссерля отталкивался также М.
Хайдеггер. Однако он пошел по пути онтологизации герменевтики, способствуя
превращению ее в учение о бытии и тем самым закрепляя ее философский статус.
Вместо гуссерлевской трансцендентальной (ориентированной на сознание)
феноменологии Хайдеггер предлагает «герменевтическую феноменологию», в которой
вопрос о смысле познанного равносилен вопросу о смысле существования. Понимание
здесь выступает первоначальной формой человеческой жизни, а не только
методологической операцией.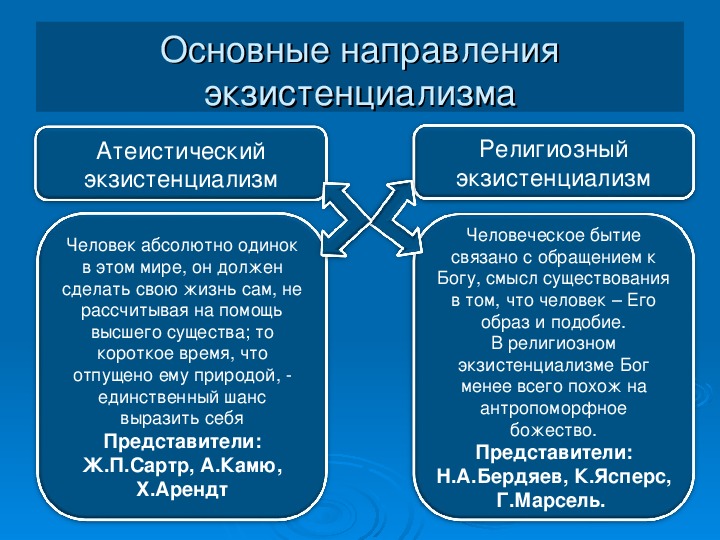 По мнению Хайдеггера, герменевтика —
это не столько правила интерпретации текстов, или методология, применяемая в
науках о духе, сколько выражение специфики самого человеческого существования, ибо понимание и
истолкование по сути — фундаментальные способы человеческого
бытия, каковым является и сам язык.
По мнению Хайдеггера, герменевтика —
это не столько правила интерпретации текстов, или методология, применяемая в
науках о духе, сколько выражение специфики самого человеческого существования, ибо понимание и
истолкование по сути — фундаментальные способы человеческого
бытия, каковым является и сам язык.
Большое влияние на развитие идей современной
герменевтики оказал ученик Хайдеггера X. Г. Гадамер. В главном
своем труде «Истина и метод» (1960) он изложил основы философской герменевтики,
понимая ее, подобно Хайдеггеру, прежде всего как учение о бытии.
«…Если мы делаем понимание предметом наших размышлений, — пишет он, — то
целью, которую мы ставим себе, выступает вовсе не учение об искусстве понимания текстов,
к чему стремилась традиционная филологическая и теологическая герменевтика… Понимание и истолкование текстов
является не только научной задачей, но очевидным
образом относится ко всей совокупности человеческого опыта в целом» [Гадамер Х.
Г. Истина и метод.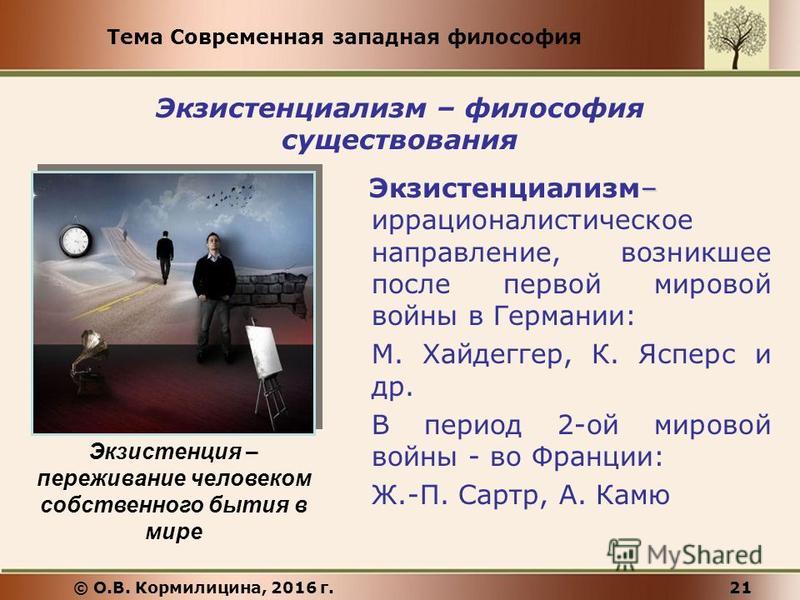 М., 1988. С. 41, 38.].
М., 1988. С. 41, 38.].
Особую роль герменевтики в современной философии Гадамер связывает с тем, что
последняя не является прямым и непосредственным продолжением классической
философской традиции, осознает «свое отстояние от классических образцов».
Развитие герменевтики Гадамер мыслит в рамках «онтологического поворота
герменевтики к путеводной нити языка». На связь герменевтики с языком указывал
еще Хайдеггер. Гадамер во многом следует своему учителю, в том числе и в анализе
категорий, которые он использует в своем учении. Среди них прежде всего следует
выделить предпонимание, традицию, предрассудок, горизонт понимания.
Предпонимание — это определяющаяся традицией предпосылка понимания, поэтому оно
должно выступать одним из условий понимания. Совокупность предрассудков и
предсуждении, обусловленных традицией, составляет то, что Гадамер называет
«горизонтом понимания». Центральным, обусловливающим все остальные, здесь
является понятие предрассудка. Оно характеризуется как предсуждение, то есть
«суждение, вынесенное до окончательной проверки всех фактически определяющих
моментов». «Предрассудок», таким образом, вовсе не означает неверного суждения;
в его понятии заложена возможность как позитивной, так и негативной оценки.
Традицию, связывающую историю и современность, Гадамер считает одной из форм
авторитета. В современности живы элементы традиции, которые и были названы
Гадамером предрассудками. С одной стороны, к ним относят некоторые негативные
явления прошлого, которые тормозят ход исторического развития, и с другой — они
суть необходимые, заложенные в языке и в способах мыслительной деятельности
людей компоненты, которые влияют на их речемыслительную и понимающую
деятельность и которые в связи с этим обязательно должны учитываться в
герменевтических методах. Поскольку любая традиция нерасторжимо связана с
языком, в нем выражается и им в определенной степени обусловлена, первейшим
предметом и источником герменевтического опыта является именно язык как
структурный элемент культурного целого.
«Предрассудок», таким образом, вовсе не означает неверного суждения;
в его понятии заложена возможность как позитивной, так и негативной оценки.
Традицию, связывающую историю и современность, Гадамер считает одной из форм
авторитета. В современности живы элементы традиции, которые и были названы
Гадамером предрассудками. С одной стороны, к ним относят некоторые негативные
явления прошлого, которые тормозят ход исторического развития, и с другой — они
суть необходимые, заложенные в языке и в способах мыслительной деятельности
людей компоненты, которые влияют на их речемыслительную и понимающую
деятельность и которые в связи с этим обязательно должны учитываться в
герменевтических методах. Поскольку любая традиция нерасторжимо связана с
языком, в нем выражается и им в определенной степени обусловлена, первейшим
предметом и источником герменевтического опыта является именно язык как
структурный элемент культурного целого.
Основной проблемой, как считает Гадамер, является здесь
трудность определения характера проявления
в языке предпосылок понимания.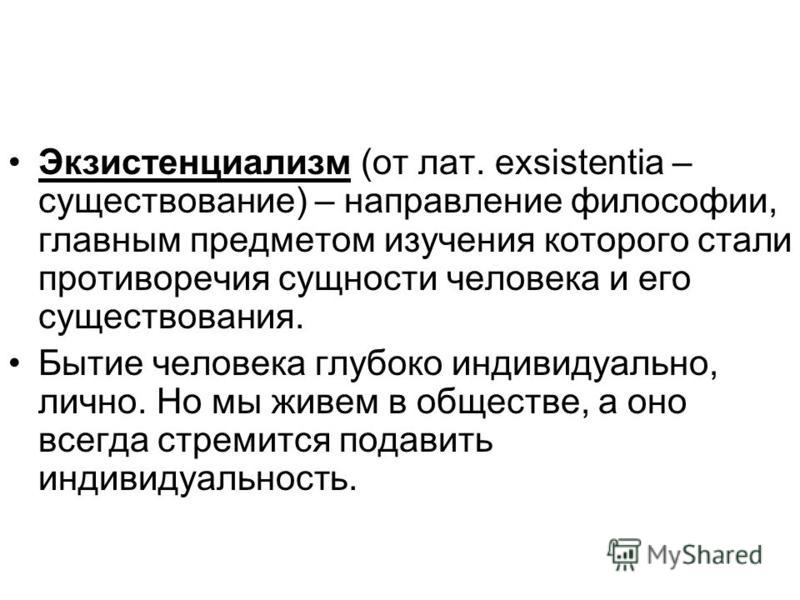 Поскольку «все есть в языке»,
то каким образом язык сохраняет объективные и субъективные предпосылки понимания? Язык
есть мир, который окружает человека, без языка невозможны ни
жизнь, ни сознание, ни история, ни общество. Нас определяет язык, «в
котором мы живем» [Гадамер X. Г. Истина и метод. С. 43.]. Язык есть
не только «дом бытия» (Хайдеггер), но и способ бытия человека, сущностное его
свойство. Отсюда язык становится и условием познавательной деятельности
человека. Понимание считается неотъемлемой функцией языка наряду с говорением.
Вследствие этого понимание из свойства познания превращается в свойство бытия, а
основной задачей герменевтики становится выяснение онтологического статуса
понимания как момента жизни человека. Стремясь постигнуть сущность человеческого
бытия, герменевтика выступает как своеобразная философская антропология.
Поскольку «все есть в языке»,
то каким образом язык сохраняет объективные и субъективные предпосылки понимания? Язык
есть мир, который окружает человека, без языка невозможны ни
жизнь, ни сознание, ни история, ни общество. Нас определяет язык, «в
котором мы живем» [Гадамер X. Г. Истина и метод. С. 43.]. Язык есть
не только «дом бытия» (Хайдеггер), но и способ бытия человека, сущностное его
свойство. Отсюда язык становится и условием познавательной деятельности
человека. Понимание считается неотъемлемой функцией языка наряду с говорением.
Вследствие этого понимание из свойства познания превращается в свойство бытия, а
основной задачей герменевтики становится выяснение онтологического статуса
понимания как момента жизни человека. Стремясь постигнуть сущность человеческого
бытия, герменевтика выступает как своеобразная философская антропология.
4. Структурализм
Структурализм — направление в
философии XX века, как и герменевтика, непосредственно связанное с развитием
гуманитарного познания. Переход в 20-50-е годы ряда гуманитарных наук с
эмпирически-описательного на абстрактно-теоретический уровень потребовал
изменения стиля мышления ученых-гуманитариев, изменения самого предмета
исследования, а следовательно, и философского обоснования таких изменений.
Структурализм выступил под лозунгом объективности и научной строгости в
гуманитарных науках и был воспринят как философский подход, соответствующий
эпохе научно-технической революции.
Переход в 20-50-е годы ряда гуманитарных наук с
эмпирически-описательного на абстрактно-теоретический уровень потребовал
изменения стиля мышления ученых-гуманитариев, изменения самого предмета
исследования, а следовательно, и философского обоснования таких изменений.
Структурализм выступил под лозунгом объективности и научной строгости в
гуманитарных науках и был воспринят как философский подход, соответствующий
эпохе научно-технической революции.
Большое распространение структурализм получил во Франции, где фактически оказался единственной философской альтернативой иррационалистическим и субъективистским тенденциям, отрицающим саму возможность объективного научного знания. Ведущими представителями его были: этнолог Клод Леви-Строс (р. 1908), историк культуры Мишель Фуко (1926-1984), психоаналитик Жак Лакан (1901-1981), литературовед Ролан Барт (1915-1980) и другие.
Следует заметить, что задолго до
появления философского структурализма сложился структурализм как метод научного
исследования, получивший название метода структурного анализа. Сущность его
заключается в выделении и исследовании структуры как совокупности «скрытых
отношений» между элементами целого, выявление которых возможно лишь «силой
абстракции». При этом происходит мысленное отвлечение от субстратной (природной,
«вещественной»; шире — содержательной) специфики элементов, учитываются только
их «реляционные свойства», то есть свойства, зависящие от отношений, которые
связывают одни элементы с другими. Впервые подобная структура была выделена при
исследовании языка швейцарским лингвистом Ф. де Соссюром (1857- 1913). В
дальнейшем это перенесение внимания с элементов и их субстратных свойств на
отношения между элементами и их «реляционные свойства» закрепилось как основной
принцип структурного анализа: «методологический примат отношений над элементами
в системе». Еще одним методологическим принципом стал «примат синхронии над
диахронией». Структурный анализ предполагает отвлечение от развития системы, ее
взаимодействий и изменений в разные моменты времени (диахрония), он
сосредоточивается на изучении внутренних механизмов статичной системы,
внутренних взаимодействиях элементов, сосуществующих в один и тот же момент
времени (синхрония).
Сущность его
заключается в выделении и исследовании структуры как совокупности «скрытых
отношений» между элементами целого, выявление которых возможно лишь «силой
абстракции». При этом происходит мысленное отвлечение от субстратной (природной,
«вещественной»; шире — содержательной) специфики элементов, учитываются только
их «реляционные свойства», то есть свойства, зависящие от отношений, которые
связывают одни элементы с другими. Впервые подобная структура была выделена при
исследовании языка швейцарским лингвистом Ф. де Соссюром (1857- 1913). В
дальнейшем это перенесение внимания с элементов и их субстратных свойств на
отношения между элементами и их «реляционные свойства» закрепилось как основной
принцип структурного анализа: «методологический примат отношений над элементами
в системе». Еще одним методологическим принципом стал «примат синхронии над
диахронией». Структурный анализ предполагает отвлечение от развития системы, ее
взаимодействий и изменений в разные моменты времени (диахрония), он
сосредоточивается на изучении внутренних механизмов статичной системы,
внутренних взаимодействиях элементов, сосуществующих в один и тот же момент
времени (синхрония).
Представители французского философского структурализма перенесли метод структурного анализа языка на более сложные феномены культуры. Основанием для такого переноса является признание того, что язык есть фундамент всей духовной жизни. Поэтому в основе культурного творчества лежат языковые структуры, которые обусловливают мыслительную деятельность человека. Они находят свое выражение не только в духовной деятельности, но и в практических действиях человека, их нормах и результатах. По сути, все продукты социокультурного творчества являются языками особого рода — знаково-символическими системами. Всякая культура, согласно Леви-Стросу, может рассматриваться как «ансамбль символических систем», к которым относится прежде всего язык, искусство, религия, наука.
В своих работах Леви-Строс исследовал социально-духовные явления, характерные для жизни первобытных племен: правила браков, исчисление родства, ритуалы, формы религии и т.д. Наибольшее внимание он уделил анализу мифологического сознания. Он показал, что в мифах разных народов, которые никогда не общались друг с другом, существуют общие структуры. Одни и те же мифологические сюжеты и образы воспроизводились, по его мнению, с буквальной точностью в разных регионах мира. Причина этого в том, что логические структуры мифологического сознания являются своеобразным воспроизведением фундаментальных противоречий в жизни первобытного общества, которое на всех континентах проходит одни и те же стадии развития.
Исследуя структуры мифологического сознания, Леви-Строс стремится вычленить то, что было бы общим для всех культур и потому явилось бы выражением объективных механизмов, определяющих культурное творчество человека, само функционирование человеческого интеллекта, иными словами, раскрыть «анатомию человеческого ума». Таким образом, он пытается преодолеть психологизм и субъективизм в понимании человека и различных явлений культурной жизни, выявляя их объективную и рациональную основу. Свою концепцию Леви-Строс назвал «сверхрационализмом», который стремится интегрировать чувственное в рациональное, причем разумность (рациональность) признается свойством самих вещей.
По мнению Леви-Строса, между мифологическим мышлением далекого прошлого и мышлением современных развитых народов нет качественного различия. Логика мифологического мышления, отмечал он в своей работе «Структура мифов», мало отличается от логики современного позитивного мышления; различие в меньшей степени касается интеллектуальных операций, чем природы вещей, над которыми производятся эти операции. Более того, «дикарскому мышлению», по Леви-Стросу, свойственна гармония чувственного и рационального, которая утрачена современной цивилизацией. Подобную гармонию он усматривал в способности мифологического сознания не просто отражать, а опосредовать и разрешать противоречия жизни человека с помощью «бинарных оппозиций» мышления и языка (сырое — приготовленное, растительное — животное и т.д.).
Леви-Строс утверждает, что за этими противоположностями языка скрываются реальные жизненные противоречия, прежде всего между человеком и природой, и эти противоречия не просто отражаются в мифологическом мышлении в «зашифрованном» виде, но неоднократная перестановка и взаимозамещение «бинарных оппозиций» снимают первоначальную остроту этих противоречий, и мир человека становится более гармоничным.
Р. Барт распространил подход К. Леви-Строса с экзотических явлений на социокультурные феномены современного европейского общества. Поскольку структурный анализ — это анализ духа исходя из его предметных воплощений, то в средствах коммуникации, моде, структуре города и т.д., считает Барт, можно выявить некоторую фундаментальную «социологику». Особое место в исследованиях Барта занимает литература. Язык, считает он, не является простым орудием содержания, он активно это содержание производит. Язык литературных произведений модернизма Барт анализирует как аналог социальной революции, где раскол внутри языка неотделим от социального раскола.
Языковый материал стал объектом анализа и в творчестве Ж. Лакана, который стремился вернуться к «подлинному» 3. Фрейду. Лакан доказывает, что существует глубинная связь и сходство между структурами языка и механизмами бессознательного в психике человека. Опора на язык как проявление структуры бессознательного, по его мнению, создает возможность рационального постижения бессознательного. На этой основе он не только формулирует задачи психоаналитической терапии (исправление языковых нарушений как симптом излечения больных), но и выстраивает культурологическую концепцию личности. Согласно этой концепции существует принципиальная зависимость индивида от окружающих его людей («другого») как носителей символического — совокупности социальных норм, предписаний и т.д. Индивид застает их уже готовыми и усваивает в основном бессознательно. Отсюда субъект у Лакана является не носителем сознания, культуры, а лишь их функцией, точкой пересечения различных символических структур. Сам по себе субъект — ничто, пустота, заполняемая культурным содержанием. Свою структуралистскую концепцию личности (структура вместо личности) Лакан называл трагическим антигуманизмом, развеивающим иллюзии о человеке как свободном и деятельном существе.
Сходную установку развивает М. Фуко, но на материале истории научных идей. В работе «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» (1966) он исследует правила научной речи, система которых предопределяет образование научных дисциплин. Сами того не зная, писал Фуко, натуралисты, экономисты и грамматики применяли одни и те же правила для определения объекта своего исследования, образования понятий и теорий. Эти правила он называет эпистемой. Эпистема — это самые общие правила и предпосылки познания, действующие в разных областях культурной жизни, скрытые в бессознательном, постоянные, инвариантные основания и модели, в соответствии с которыми строятся культурные образования определенной эпохи.
Вообще бессознательное в концепции структурализма — это скрытый механизм знаковых систем, который подчиняет структурным закономерностям различные импульсы, эмоции, представления, воспоминания и другие элементы психики. Человек манипулирует знаками, строит из них сообщения, но он это делает неосознанно, автоматически подчиняясь определенным правилам. Все это позволяет говорить, по мнению структуралистов, о вторичности сознания по отношению к бессознательным структурам в познавательной деятельности и о возможности отказаться от самого понятия субъекта как центра, исходной точки свободной сознательной деятельности и как принципа ее объяснения. В итоге это должно обеспечить, считают они, объективность научного познания, в том числе познания человека, его жизни и культуры.
В отличие от неопозитивизма, который объявляет общие абстрактные структуры лишь удобными умственными конструкциями (конвенциями), помогающими упорядочивать опыт, структуралисты пытаются обосновать объективность и общезначимость результатов гуманитарного познания. В итоге сложился своеобразный вариант кантианства, который Леви-Строс назвал «кантианством без трансцендентального субъекта». Если у И. Канта априорные формы чувственности и рассудка (понятия «время», «пространство» и др.) накладываются на поступающие извне данные чувственного созерцания и таким образом придают всеобщий и необходимый характер научному знанию, то у структуралистов роль априорных форм играют структуры бессознательного.
«Антисубъектную» тенденцию структурализма довел до крайности Фуко. По его мнению, само понятие «человек» — временное явление в истории научного и философского познания, обусловленное специфической эпистемой конца XVIII века. Это понятие обречено на исчезновение при смене этой эпистемы другой. Человек исчезнет, как исчезает изображение, начертанное на морском песке, — так заканчивает Фуко свою книгу «Слова и вещи». Позже Фуко смягчил свою позицию, он во многом пересмотрел свою философскую концепцию, так как очевидной стала противоречивость самой философии структурализма.
Конкретные исследования «первичных» бессознательных интеллектуальных структур и ранее приводили структуралистов к противоречиям, заставляя умерить свои философские претензии и говорить о своей концепции лишь как о некоторой философской гипотезе, которую можно использовать в качестве «строительных лесов». В частности, речь идет о проблеме исторической изменяемости знаковых систем, что признают все структуралисты. Почему происходят такие изменения? В рамках структурализма на этот вопрос ответа нет. Поэтому со временем начинается трансформация философских воззрений исследователей: структурный метод вновь превращается в один из научных методов, который не претендует на глобальные обобщения.
«В романах Достоевского дьявол постоянно борется с Богом» | Статьи
Известный лектор, достоевист Марина Соловьева уверена, что Федор Михайлович Достоевский остается одним из самых актуальных мировых писателей, поскольку его взгляды отражают все самые современные гуманистические тенденции — терпимость к человеку и его природе, недопустимость насилия, право на сочувствие и прощение. О том, как классик предсказал пандемию коронавируса, интернет, #MeToo, а заодно обозначил сюжеты постапокалиптических антиутопий, филолог рассказала «Известиям» накануне 200-летнего юбилея Достоевского, который празднуется 11 ноября.
«Задолго до Фрейда Достоевский открыл бессознательное»
— Достоевского называют предтечей фрейдистского психоанализа и французского экзистенциализма, основоположником русской религиозно-философской школы. Однако не покидает ощущение, что в 200-летний юбилей писателя его идеи приходится объяснять на пальцах, используя для этого, к примеру, пророчества и сны Раскольникова.
— Пророчеств у Достоевского и правда немало. Задолго до Фрейда он открыл бессознательное. Так, в «Преступлении и наказании» мы действительно видим множество описаний сновидений, которые раскрывают пока еще смутные намерения героя. Казалось бы, Федор Михайлович специально не занимался психологией и вообще у него было техническое образование. Однако незадолго до убийства старухи-процентщицы Родион видит себя идущим по кладбищу вместе с покойным отцом, на их глазах добивают лошадку. В ночь накануне убийства ему снится бой часов, в сакральной литературе это знак приближения дьявола, и именно так у Гёте появляется Мефистофель.
На каторге сны закончились и начались видения. Одно из них в свете последних событий звучит особенно остро: «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные». Дальше Раскольникову видится, как люди начинают бессмысленно убивать друг друга, а спастись удается только избранным, которым суждено положить начало новому человеческому роду и очистить Землю. Это же сюжет множества современных антиутопий, книг и фильмов о постапокалипсисе.
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Достоевский, как ни странно, предсказал интернет: он писал, что в дальнейшем люди будут общаться друг с другом без каких-либо задержек — письма будут моментально приходить с одного конца мира на другой. Но все это, конечно, не касается идейной основой писателя и философа, ставшего потрясением для всего цивилизованного мира. Рассказывавший о своих «униженных и оскорбленных», и более полутора столетий спустя он остается необычайно актуальным. Его взгляды отражают все самые современные гуманистические тенденции цивилизации: это благожелательное отношение к человеку и его противоречивой природе, терпимость к ближнему, недопустимость насилия во имя любых, даже самых высоких целей, право на прощение. Не случайно героями его программного романа стали убийца и проститутка — люди, опустившиеся на самое дно, однако оказавшиеся честнее и лучше многих из тех, кто никогда не рисковал своей репутацией.
Восхищает подход Достоевского к педагогике: он призывал воспитывать детей в духе евангельского братства. У него было и совершенно необычное для того времени отношение к женщинам — в «Дневнике писателя» он выступал за предоставление им избирательного права и возможности участия в политической жизни.
«Его очень интересовала природа зла»
— Можно сказать, что отчасти он даже предвосхитил движение #MeToo, проиллюстрировав на примере Лебядкиной и Настасьи Филипповны, что бывает с теми, кто пострадал от домашнего насилия. Но почему-то при этом почти все актрисы мечтают сыграть наложницу из романа «Идиот» — настолько неотразимым вышел этот роковой и одновременно ранимый образ, лежащий, по-моему, в основе одного из главных отечественных киноамплуа: женщина — жертва жестокого мужского мира.
— Настасья Филипповна очень привлекательна, хотя и приносит мужчинам зло, но ведь надо понимать, что за этим стоит глубокая трагедия. Образ, кстати, вдохновлен гражданской женой писателя Аполлинарией Сусловой — блистательной, образованной и красивой дамой, которая попила много крови, и не только у Достоевского: она же испортила жизнь Василию Розанову. Как известно, философ считал Федора Михайловича своим кумиром и, возможно, из-за этого и женился на его экс-подруге. Впрочем, в героине романа «Идиот» писателя интересовала не крутизна, а надломленность и драматизм. Мотив беззащитной, обманутой в своих надеждах женщины присутствует и в других его произведениях: такова Наташа Ихменева в «Униженных и оскорбленных», Софья Андреевна Долгорукая в «Подростке», Грушенька в «Братьях Карамазовых».
В романах Достоевского дьявол постоянно борется с Богом. Писателя очень интересовала природа зла, и он находил в ней несколько аспектов. Если прежде в литературе зло трактовали в шекспировской традиции (что-то ведьмы напели, и герой поверил в ложную идею), то Достоевский увидел в нем психологическую и бессознательную природу.
Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrey Fokin
— В каком из его романов, на ваш взгляд, наиболее остро ставится этот вопрос?
— Это символизируют образы Ставрогина и Верховенского. Петруша — лживый манипулятор, но в глубине его души прячется маленький обиженный мальчик, которого бросили родители. Ставрогин зол в силу своей психопатической природы. Он избалован, неуправляем, считает, что ему дозволено всё, а мир создан для удовлетворения капризов его себялюбия. Он совращает десятилетнюю Матрешу только потому, что ему захотелось пощекотать нервы запретным опытом, а потом, когда девочка повесилась у него на глазах, он даже не пытался ей помешать — лишь смотрел-наблюдал перед этим за красным паучком на листе герани, который потом будет мучить его воспоминаниями.
Кстати, именно из-за «Бесов» Достоевский был под негласным запретом в советской школе. Только в 1980-е годы в программе появилось «Преступление», а в списке рекомендательной литературы для внеклассного чтения «Идиот». «Бесы» были доступны только в полном собрании сочинений. Считалось, что в них Достоевский нехорошо показал революционеров, хотя о революционерах и Лесков писал в довольно слабом романе «На ножах», и Чехов в «Рассказе неизвестного человека».
«Ни один фильм или спектакль не стоит воспринимать как иллюстрацию»
— Интересно, что Ставрогин — это демонизированный Христос, на что указывает фамилия, происходящая от греческого слова «ставрос» — крест. А то, что с ним происходит, предвосхищает популярную сегодня в блогах и психологической литературе тему «психопатической триады», куда входят такие качества, как нарциссизм, инфантилизм и макиавеллизм (вседозволенность). При этом подчеркивается, что персонаж от своих «странностей» сильно страдает. Это было довольно точно показано в последней экранизации «Бесов» у Владимира Хотиненко.
— Экранизации — это отдельное произведение. Ни один фильм или спектакль не стоит воспринимать как иллюстрацию, поскольку режиссер имеет полное право на собственное художественное прочтение. Лично мне очень понравился телефильм Владимира Бортко «Идиот», который, кстати, весьма существенно отходит от первоисточника. А вы заметили, что Ставрогин в сериале «Бесы» коллекционирует бабочек? Я все думала почему, ведь у Достоевского этого нет… А потом поняла: это же отсылка к Набокову и его «Лолите».
Фото: Global Look Press/АГН Москва
— Кто ваш любимый герой Достоевского?
— Он сам, его авторский голос, его видение мира. Читая Достоевского, мы вступаем на территорию познания мира и самих себя.
Справка «Известий»Марина Соловьева — литературовед, филолог, прозаик, автор научных монографий, преподаватель, специалист по творчеству Ф.М. Достоевского. Родилась в 1952 году в Москве. Окончила филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в Государственном литературном музее и Государственном музее В.В. Маяковского. В 1990–2001 годах была сотрудником библиотеки стран Восточной Европы Университета Джорджа Вашингтона (США). С 2006-го по настоящее время — главный библиотекарь библиотеки имени Д.А. Фурманова. Преподает русскую филологию в Стэнфордском университете и Университете Джорджа Вашингтона. Автор лекций о Достоевском на Московской международной книжной ярмарке в 2021 году.
Экзистенциализм (Стэнфордская философская энциклопедия)
Экзистенциализм Сартра черпал свое непосредственное вдохновение в работы немецкого философа Мартина Хайдеггера. Хайдеггера 1927 Бытие и время , исследование «бытия, которое мы мы сами есть» (которое он называл «Dasein», немецкое слово «существование») ввел большинство мотивов, которые характеризовать позднее экзистенциалистское мышление: напряжение между личность и «общественность»; акцент на мирском или «ситуативный» характер человеческого мышления и разума; а увлечение лиминальными переживаниями тревоги, смерти, «ничто» и нигилизм; отказ от науки (и прежде всего причинное объяснение) в качестве адекватной основы для понимание человека; и введение «подлинность» как норма самотождественности, привязанная к проект самоопределения через свободу, выбор и обязательство.Хотя в 1946 году Хайдеггер отказался бы от ретроспективного навешивания ярлыков его ранней работы как экзистенциализма, именно в этой работе релевантная концепция существования находит свое первое систематическое философский формулировка. [3]
Как позже Сартр и Мерло-Понти, Хайдеггер преследовал эти проблемы с несколько маловероятными ресурсами Эдмунда Гуссерля феноменологический метод. И хотя не все экзистенциальные философы находились под влиянием феноменологии (например, Ясперс и Марсель), философское наследие экзистенциализма во многом связано с формой она воспринималась как экзистенциальная версия феноменологии.Гуссерля усилия в первые десятилетия ХХ века были направлена на создание описательной науки о сознании, под которым он понимал не предмет естествознания психологии, но и «трансцендентальное» поле интенциональность, т. е. то, посредством чего наш опыт значимое , переживание чего-то как чего-то. Экзистенциалисты приветствовали учение Гуссерля о интенциональность как опровержение картезианского взгляда на сознание относится непосредственно только к своему собственному представления, идеи, ощущения.Согласно Гуссерлю, сознание есть наша прямая открытость миру, управляется категориально (нормативно), а не причинно; это, интенциональность есть не свойство индивидуального ума, а категориальные рамки, в которых разум и мир становятся понятный. [4]
Таким образом, феноменология сознания не исследует ни метафизического состава, ни причинного генезиса вещей, но «конституция» их значения. Гуссерль использовал это метод прояснения нашего опыта природы, социокультурного мира, логика и математика, но Хайдеггер утверждал, что ему не удалось поднимают самый фундаментальный вопрос, вопрос о «значении бытие» как таковое.Обращая феноменологию к вопросу о что значит быть, Хайдеггер настаивает на том, чтобы вопрос ставился конкретно : сначала это не какое-то академическое упражнение, а жгучий интерес, вытекающий из самой жизни: вопрос о том, что значит для мне быть. Экзистенциальные темы становятся заметными, когда видно, что общий вопрос о смысле бытия включает в себя первое прояснение своего собственного бытия как исследователя. Согласно Хайдеггеру, категории, завещанные философским традиция понимания существа, которое может задавать вопросы своему или ее существа недостаточно: традиционные представления о субстанции, украшенной вне разума или субъекта, благословленного самосознанием, неверно истолковать наш основной характер, «Бытие-в-мире.В своем феноменологическом поиске категорий, управляющих бытием-в-мире, Хайдеггер стал вынужденный отец экзистенциализма, потому что он черпал вдохновение два основополагающих, хотя в академических кругах тогда относительно неизвестных, писатели девятнадцатого века, Сёрен Кьеркегор и Фридрих Ницше. Предвосхищения экзистенциальной мысли можно найти во многих местах (например, по иронии Сократа, Августина, Паскаля или поздний Шеллинг), но корни проблемы существования в ее современное значение заключаются в работах Кьеркегора и Ницше.
1.1 Кьеркегор: «Единственный человек»
Кьеркегор развил эту проблему в контексте своего радикального подход к христианской вере; Ницше сделал это в свете своего тезиса о смерти Бога. Последующая экзистенциальная мысль отражает это разница: в то время как некоторые писатели, такие как Сартр и Бовуар — были решительно атеистичны по мировоззрению, другие — такие как Хайдеггер, Ясперс, Марсель и Бубер — по-разному исследовали значение понятия «аутентичное существование» для религиозное сознание.Хотя ни Ницше, ни Мысль Кьеркегора может быть сведена к одному звену, как заинтересовался тем, что Кьеркегор назвал «единственным физическое лицо.» Оба были убеждены, что эта сингулярность, то есть мое собственное «я» могло осмысленно отразиться на при этом, именно из-за своей необычности, остаются невидимыми для традиционная философия с ее упором либо на то, что следует безошибочные объективные законы природы или же соответствует всеобщему нормы нравственного разума. Таким образом, сосредоточенность на существовании привела в обоих случаях к уникальные текстовые стратегии, совершенно чуждые философии их время.
У Кьеркегора сингулярность существования выявляется в момент конфликта между этикой и религиозной верой. Предположим, это мое чувство исполнения воли Бога, которая делает мою жизнь значимой. Как постигает ли философия этот смысл? Опираясь здесь на Гегеля как символ всей традиции, Кьеркегор в своей книге « страха». и Дрожание , утверждает, что для философии моя жизнь становится значимым, когда я «возвышаю себя до всеобщего» посредством подведение моих непосредственных (естественных) желаний и наклонностей под моральный закон, который представляет мой «телос» или то, что я должно быть .При этом я теряю свою уникальность (поскольку закон верен для всех), но мои действия обретают смысл в чувство понятного, регулируемого нормой. Теперь человек, чей смысл исполнение воли Бога — это то, что придает ее жизни смысл. понятны лишь в той мере, в какой ее действие соответствует универсальные нормы этики. Но что, если, как и в случае жертвоприношение Авраамом своего сына, действие противоречит тому, что требования этики? Кьеркегор [5] считает и , что жизнь Авраама в высшей степени значимым (это не просто вопрос какого-то непосредственного желания или бессмысленный тик, преодолевающий этическое сознание Авраама; наоборот, поступать морально — это само по себе в данном случае соблазнительной склонности) и , что философия не может понять его, тем самым осуждая его во имя этики.Божий повеление здесь нельзя рассматривать как закон, касающийся всех; Это обращается к Аврааму в его единственности. Если жизнь Авраама значимый, он представляет, с философской точки зрения, «парадокс» в том, что через веру «отдельный индивидуум выше всеобщего». Существование как философское проблема возникает в этот момент: есть ли измерение в моем бытии что является одновременно значимым и все же не регулируется рациональным стандартом морали, по какому стандарту это она регулируется? Если только есть какой-то стандарт, говорить о нем бесполезно «значение.
Для решения этой проблемы должна существовать норма, присущая сингулярности. себя, и в своем Заключительном ненаучном постскриптуме , Кьеркегор пытается выразить такую норму в своем утверждении, что «субъективность есть истина», идея, которая предвосхищает экзистенциальная концепция подлинности. У Авраама нет объективной причины думать, что повеление, которое он слышит, исходит от Бога; действительно, исходя из содержание повеления у него есть все основания, как указывал Кант в Религия только в пределах разума , думать, что это не может исходить от Бога.Его единственное оправдание в том, что Кьеркегор называет страсти верой. Такая вера, рационально говоря, абсурдный, «скачок», так что если есть говорить здесь правду, это стандарт, который измеряет не содержание поступка Авраама, но то, как он выполняет это. Чтобы совершить движение веры «субъективно» означает принять парадокс как нормативный для меня, несмотря на его абсурдность, вместо того, чтобы искать спасения от него путем средства объективной текстовой экзегезы, исторической критики или некоторых другую стратегию для перевода необычности моей ситуации в универсальный.Поскольку мой разум здесь не может помочь, нормативный присвоение есть функция моего «внутреннего» или страсти. Таким образом, я «действительно» становлюсь тем, кем я номинально уже являюсь. Сказать, что субъективность есть истина, значит выделить способ бытия, тогда и не способ познания; правда измеряет отношение («страсть»), с помощью которой я присваиваю или создаю свою собственную «объективная неопределенность» (голос Бога) в «процесс высочайшего внутреннего».
В отличие от своеобразия этого движения, для Кьеркегора, стоит толпа: «толпа неправда.Толпа есть, грубо говоря, общественное мнение в самом широком смысле — идеи, которые данный возраст принимает как должное; обычный и общепринятый способ вещи; самодовольное отношение, которое исходит из соответствия необходимой для общественной жизни, и что обрекает ее на «неправда» в глазах Кьеркегора есть то, как она проникает в собственное ощущение индивидуума того, кто он есть, освобождая ее от бремени быть собой: если каждый Кристиан, мне не нужно «становиться» им. С это мера не знания, а бытия, можно видеть, как Кьеркегор отвечает тем, кто возражает, что его концепция субъективности поскольку истина основана на двусмысленности: объективные истины науки и история, как бы хорошо она ни была установлена, сами по себе являются предметом равнодушие ; они принадлежат толпе.Это не постольку, поскольку истина может быть установлена объективно, что она обретает смысл, но скорее в той мере, в какой оно «страстно» присваивается в очень неуверенно. «Существовать» всегда означает сталкиваться с с этим вопросом смысла. Истины, которые важны для того, кто есть не может, как декартовское моральное определение , быть чем-то быть достигнуты только тогда, когда объективная наука выполнила свою задачу.
1.2 Ницше и нигилизм
Для Кьеркегора существование выступает как философская проблема в изо всех сил пытаются думать о парадоксальном присутствии Бога; для Ницше это можно найти в отголосках фразы «Бог умер», в вызове нигилизма.
Частично реагируя на культурную ситуацию в девятнадцатом веке Европа — историческая наука продолжает разрушать фундаменталистские чтения Библии, растущий культурный капитал природного наук, и дарвинизма в частности — и отчасти движимый его собственные исследования в области психологии и истории моральных понятий, Ницше стремился нарисовать последствия смерти Бога, крах любой теистической поддержки морали. Как и его современник, Федор Достоевский, чей персонаж, Иван, в Братьях Карамазов, классно утверждает, что если Бога нет, то все дозволено, главная забота Ницше — найти способ измерить человеческую жизнь в современном мире.Однако, в отличие от Достоевского, Ницше видит соучастие между нравственность и христианский Бог, увековечивающий жизнеотречение, и т. в конечном счете нигилистическая позиция. Ницше не был первым отделить мораль от ее божественной санкции; психологические теории моральные чувства, развившиеся с восемнадцатого века, обеспечили чисто человеческое объяснение моральной нормативности. Но пока эти ранее теории были предложены в качестве обоснований нормативных сила нравственности, мысль Ницше о том, что за моральной рецептов не что иное, как подорванная «воля к власти». этот авторитет.На счет, приведенный в «О генеалогии Мораль , иудео-христианский моральный порядок возник как выражение ressentiment слабых против власти, осуществляемой над их сильными. Инструмент, используемый, чтобы помешать этой силе, со временем интериоризироваться в форме совести, создавая «больное» животное, чья воля находится в состоянии войны с собственным жизненным инстинкты. Таким образом, Ницше пришел к идее Кьеркегора о том, что «толпа есть неправда»: так называемые автономные, самозаконодательный индивид есть не что иное, как стадное животное, приучил себя к покорности и несвободе, подчиняясь «универсальные» нормы морали.Норма ничего, кроме нормального.
Тем не менее, это не конец истории Ницше. было за Кьеркегора. Если автономный индивид до сих пор означал ничего, кроме стадного мышления, если моральные нормы возникли именно для плодить таких конформистов, — индивид тем не менее имеет возможность стать кем-то другим; больное животное «беременно с будущим». Ницше видел, что в XIX в. «высшие ценности» начали «девальвировать самих себя.» Например, христианская ценность правды, институционализированная в форме науки, подорвала веру в Бог, расколдовывая мир и исключая из него всякую предданную нравственную значение.В такой ситуации человек вынужден вернуться к сам. С одной стороны, если он слабо устроен, он может упасть жертвой отчаяния перед лицом нигилизма, признанием того, что жизнь не имеет внутреннего значения. С другой стороны, для «сильный» или творческий индивидуальный нигилизм представляет собой освобождающая возможность взять на себя ответственность за смысл, осуществлять творчества, «переоценивая» свои ценности, устанавливая новый «порядок звания». Через своего пророка Заратустру, Ницше представлял себе такого человека как «сверхчеловека». ( Übermensch ), тот, кто учит «значению земли» и не нуждается в потусторонних опорах для ценности, которые он воплощает.Сверхчеловек представляет собой форму жизни, модус существование, то есть расцвести из обобществленного, морализированного «последний человек» девятнадцатого века. Он понял что нигилизм есть высший смысл нравственной точки зрения, ее жизнеотрицающей сущности, и он переконфигурирует нравственную идею автономии чтобы высвободить в нем жизнеутверждающий потенциал.
Таким образом, для Ницше существование выступает как философская проблема в его различие между моральной автономией (как подчинение моральному закону) и автономия «по ту сторону добра и зла».«Но если кому-то говорить об автономии, значении и ценности вообще, способе бытия за пределами добро и зло не могут быть просто беззаконным состоянием произвольного и импульсивное поведение. Если такое существование мыслимо, должно существовать стандарт, по которому можно измерить успех или неудачу. Ницше по-разному указывает на такой стандарт в своих ссылках на «здоровье», «сила» и «смысл земли.» Однако, возможно, его наиболее поучительное указание, исходит из эстетики, так как его концепция стиль , как разработанный в The Gay Science , обеспечивает норму, соответствующую уникальность существования.Сказать, что произведение искусства имеет стиль, значит ссылаться на стандарт для оценки этого, но тот, который не может быть указан в виде общего закона, действие которого было бы простым пример. Скорее, любопытным образом, норма является внутренней по отношению к работе. Для Ницше существование подпадает под такой императив стиля: создавать смысл и ценность в мире, из которого все трансцендентное опоры отпали, значит придать уникальную форму своему непосредственные склонности, побуждения и страсти; интерпретировать, обрезать и усиливаются в соответствии с объединяющей чувствительностью, господствующим инстинктом, который приводит все в целое, удовлетворяющее неконцептуальное, эстетическая норма того, что подходит, что принадлежит, что уместно.
Как и Кьеркегор, Ницше раскрывает один из аспектов моего существа. которые не могут быть поняты ни с точки зрения непосредственных влечений, ни склонностей, ни с точки зрения универсального закона поведения, аспекта которая измеряется не с точки зрения объективной инвентаризации что я есть, но с точки зрения моего способа быть им. Однако ни Кьеркегор, ни Ницше не развили это понимание в вполне систематически. Это будет оставлено их двадцатому веку наследники.
Лозунг Сартра — «существование предшествует сущность» — может служить для представления того, что наиболее характерно экзистенциализма, а именно идея о том, что никакое общее, неформальное можно дать объяснение тому, что значит быть человеком, поскольку это значение определяется в самом существующем и через него.Существование «создание себя в ситуации» (Fackenheim 1961: 37). Уэббер (2018: 14) формулирует это следующим образом: «Классический экзистенциализм … теория о том, что существование предшествует сущности», то есть «Нет такой вещи, как человеческая природа» в Аристотелевский смысл. «У человека нет встроенного набора ценности, на которые они изначально нацелены. Скорее, ценности, формирующие поведение человека, являются результатом выбора они сделали» (2018: 4). В отличие от других организаций, чьи существенные свойства фиксируются видом сущностей, которые они то, что существенно для человека, что делает ее кто она — определяется не ее типом, а тем, что она делает из себя, кто она становится. [6] Фундаментальный вклад экзистенциальной мысли заключается в идее что личность человека не конституируется ни природой, ни культуры, так как «существовать» как раз и означает конституировать такое личность. Именно в свете этой идеи ключевые экзистенциальные понятия такие как фактичность, трансцендентность (проект), отчуждение и подлинность должна быть понята.
Поначалу кажется трудным понять, как можно много говорить о существование как таковое. Традиционно философы связывали понятие существования с понятием сущности таким образом, что первое означает просто воплощение второго.Если «сущность» обозначает то, что есть вещь и «существование» , что это есть, отсюда следует, что есть понятно о какой-либо данной вещи, то, что можно о ней подумать, будет принадлежат его сущности. Это от сущности в этом смысле — скажем, человек как разумное животное или imago Dei — это античная философия давала свои рецепты индивидуальному образ жизни, его оценка смысла и ценности существования. Наличие сущности означало, что человеческие существа могли быть помещены в большее целое, космос , который обеспечил стандарт для человека расцвет.Современная философия сохранила эту структуру даже тогда, когда отказался от идеи «естественного места» человека в лицо научной картины бесконечной, запутанной Вселенной. В том, что выглядит как протоэкзистенциальный ход, Декарт отверг традиционные сущностные определения человека в пользу радикального, отражение от первого лица собственного существования, «Я есть». Тем не менее, он быстро восстановил старую модель, охарактеризовав его существование как субстанции, определяемое существенным свойство, «мышление.Напротив, Хайдеггер предполагает, что «Я» есть «сущность, чье что [сущность] точно быть и ничего, кроме как быть» (Хайдеггер 1925 [1985, 110]; 1927 [1962, 67]). Следовательно, существование такой сущности не может рассматриваться как воплощение сущности и, следовательно, что значит быть таковым сущность не может быть определена обращением к заранее заданным рамкам или системы — будь то научная, историческая или философская.
2.1 Фактичность и трансцендентность
Конечно, есть смысл, в котором люди создают экземпляры. сущности, как уже говорил Хайдеггер. признает. [7] Но что важно для экзистенциальной мысли, так это способ такое воплощение, способ существования. Что это значит может можно увидеть, противопоставляя человеческое существование модусам бытия Хайдеггер называет «доступным» (или «под рукой», zuhanden ) и «происходящее» (или «имеющееся в наличии», передний ). Сущности первого рода на примере инструментов в том виде, в каком они предстают в употреблении, определяются социальными практиками в которых они используются, и их свойства установлены в отношение к нормам этой практики.Пила острая, ибо Например, по отношению к тому, что считается успешной резкой. Сущности второго рода, представленного объектами перцептивного созерцания или научных исследований, определяются нормами, регулирующими перцептивная данность или научная теория-конструкция. Доступный или возникающая сущность создает экземпляр некоторого свойства, если это свойство действительно основано на нем. Таким образом, человека можно рассматривать как Что ж. Однако, в отличие от предыдущих случаев, тот факт, что природные и социальные свойства действительно могут быть приписаны людям недостаточно, чтобы определить, что значит и быть человек.Экзистенциалисты утверждают, что это происходит потому, что такие свойства никогда не бывают просто грубыми определениями того, кто я есть, но всегда под вопросом. Кто я есть, зависит от того, что я делаю из своего «характеристики»; они важны для меня таким образом, что невозможно для просто доступных и возникающих сущностей. Как Хайдеггер , существование есть «забота» ( Зорге ): существовать есть не просто быть, а быть выпуском для себя. В Сартра, в то время как другие сущности существуют «в себя» ( en soi ) и «являются тем, чем они есть», человеческая реальность тоже «для себя» ( лить soi ) и, таким образом, не исчерпывается ни одним из его определений.Это есть то, чем оно не является, и не является тем, чем оно является (Sartre 1943 [1992, 112]).
Таким образом, человеческое существование нельзя мыслить категориями. соответствующие вещам: субстанции, событию, процессу. Есть что-то внутреннего различия в существовании, которое подрывает такие попытки, различие, которое экзистенциальные философы пытаются уловить в категории «фактичность» и «трансцендентность». Быть — значит каким-то образом координировать эти противоположные моменты, и кто я я, моя сущность, есть не что иное, как мой способ координации их.В этом смысле люди делают себя в ситуации: то, что я меня нельзя отделить от того, чем я себя считаю. В Фраза Чарльза Тейлора, люди «самоинтерпретирующие животные» (Taylor 1985: 45), где интерпретация конститутивна для интерпретатора. Если такой взгляд чтобы не впасть в противоречие, понятия фактичности и трансцендентность должна быть объяснена. Рискуя некоторым упрощением, к ним можно подходить как к коррелятам двух установок, которые я могу взять на себя: отношение теоретического наблюдателя от третьего лица и отношение практического агента от первого лица.
Фактичность включает в себя все те свойства, которые исследование может установить обо мне: природные свойства, такие как вес, рост и цвет кожи; социальные факты, такие как раса, класс и Национальность; психологические свойства, такие как моя паутина убеждений, желания и черты характера; исторические факты, такие как мое прошлое действия, мое семейное прошлое и мое более широкое историческое окружение; и так на. [8] Я изначально не осознаю своей фактичности в этом третьем лице; скорее, оно проявляется в моем настроении как своего рода бремя, тяжесть «должен быть.«Однако я могу принять третье лицо или объективирующая позиция по отношению к моему собственному бытию, а затем эти аспекты моей фактичности могут показаться именно теми, которые определяет или определяет, кто я есть. С экзистенциальной точки зрения, однако это было бы ошибкой — , а не , потому что эти аспекты моего бытия не являются реальными или фактическими, а потому, что вид что I am не может быть определено фактически, или третье лицо, условия. [9] Нельзя сказать, что эти элементы фактичности принадлежат мне в том смысле, что цвет яблока принадлежит яблоку, ибо как принадлежащие мне как «определяющие» меня, они имеют всегда уже интерпретировался мной.Хоть и от третьего лица наблюдение может определить цвет кожи, класс или этническую принадлежность, в ту же минуту он пытается идентифицировать их как мой он должен бороться с отличительный характер существования, которым я обладаю. Нет смысла в какая фактичность и у меня и у просто на самом деле, поскольку мое существование — вид существа, которым я являюсь, — также определено позицией, которую я занимаю по отношению к своей фактичности. Возможность принять такое позиция — это то, что экзистенциальные философы называют «трансцендентность».
Трансцендентность относится к тому отношению к себе, которое характерно для мое практическое участие в мире, точка зрения агента.Агент ориентируется на поставленную задачу как на то, что нужно принести о своей собственной воле или волеизъявлении. Такая ориентация не принимает сама по себе как тема, но теряется в том, что должно быть сделано. Тем самым, вещи предстают не как безразличные данные, факты, а как смысловые: существенные, целесообразные, препятствующие и так далее. говорить о «трансцендентность» здесь означает, что агент «выходит за пределы» того, что просто есть, к тому, что может быть: фактические — включая собственные свойства агента — всегда возникает в свете возможного, где возможное не является функцией анонимных сил (третье лицо или логическая возможность), но функция выбора агента и решение . [10] Точно так же, как это внезапно опустевшее перо становится раздражающей помехой для мое завершение этой статьи, или долгожданный повод что-то сделать иначе, в зависимости от того, как я определяю свое поведение по отношению к нему, поэтому мои собственные фактические свойства, такие как раздражительность, лень или буржуазный трудоголизм — обретают смысл, становятся мотивирующими или нормативные причины , исходя из того, как я одобряю или отрекаюсь их в настоящем действии.
Экзистенциалисты склонны описывать перспективу заинтересованной деятельности в понятия «выбор», и их иногда критикуют за это.Может быть, — гласит аргумент, — что обо мне можно сказать выбирать курс действий по завершении процесса обдумывание, но кажется, что выбора нет, когда в сгоряча, я в отчаянии отбрасываю бесполезную ручку. Может его бесполезно сводить к моему «выбору» быть расстроенный? Но смысл использования такого языка в том, чтобы просто настаивать на том, что с точки зрения агентства от первого лица я не могу воспринимать себя как определяемого всем, что доступно для меня только в терминах третьего лица.За экзистенциалистом настаивание на том, что фактичность и трансцендентность остаются нередуцируемыми аспектами одного и того же существа есть понимание того, что для существа, которое может сказать «Я», точка зрения третьего лица на то, кто вы есть, не имеет больше полномочий, чем у первого лица (агента) перспектива. [11]
Поскольку существование совместно конституируется фактичностью и трансцендентностью, самость не может быть понята как картезианское эго, но воплощена бытие-в-мире, самосоздание в ситуации.Это через трансцендентность — или то, что экзистенциалисты также называют моим «проекты» — что мир раскрывается, обретает значение; но такие проекты сами по себе фактичны или «расположенный» — не продукт какого-то предшествующего составляют «лицо» или умопостигаемый персонаж, но встроенный в мир, который явно не является моим представлением. Так как мои проекты кто я am в режиме ангажированного агентства (в отличие от планов, которые я просто представляю себе в обдумывание), мир в известном смысле открывает мне, кто я есть.По причинам, которые будут рассмотрены в следующем разделе, значение моего выбор не всегда очевиден для меня. Тем не менее, поскольку это обязательно раскрывает мир определенным образом, этот смысл, мой собственный «идентичность» может быть обнаружена с помощью того, что Сартр называет «экзистенциальный психоанализ». Понимая модели поведения человека, т. реконструкция осмысленного мира, в котором такое поведение раскрывает — можно раскрыть «фундаментальный проект» или основной выбор самого себя, который придает отличительную форму личности жизнь.Экзистенциальный психоанализ представляет собой своего рода компромисс между видом от первого и третьего лица: как и в последнем, объективирует личность и трактует ее безграничные практические горизонты как в определенном смысле закрытый; однако, как и первый, он стремится понять выбор изнутри, понять личность индивидуума в том смысле, который преследует его от первого лица, а не как функция инертных психических механизмов, с помощью которых у человека нет знакомство. [12]
2.2 Отчуждение
Антикартезианский взгляд на я-в-ситуации приводит к знакомому экзистенциальная тема «отчужденного» Я, отчуждение себя как от мира, так и от самого себя. в первое место, в то время как именно благодаря моим проектам мир берет то есть сам мир не создан моим проекты; оно сохраняет свою инаковость и, таким образом, может проявиться как совершенно пришелец, как unheimlich . Иногда переводится как «сверхъестественный», основа этого хайдеггеровского слова ( Heim , «дом») указывает на странность мир, в котором я именно , а не чувствую себя «дома».” (см. раздел о Идеальность ценностей ниже). Этот опыт, лежащий в основе экзистенциальной мысли, контрастирует с большинством резко с древним представлением о космосе , в котором человек существ имеет упорядоченное место, и это связывает экзистенциальную мысль тесно связаны с современным опытом бессмысленной вселенной.
Во-вторых, мир включает в себя других людей, и как как следствие, я не просто открыватель мира, но нечто раскрывается в проектах тех других.Таким образом, я не просто функция моих собственных проектов, но также и вопрос моего «быть-для-других». Сартр (1992: 340-358) подчеркивает это. форма отчуждения в его знаменитом анализе «Взгляда». Пока я бездумно занимаюсь определенной практикой, я не что иное, как перспектива от первого лица, которая конституирует вещи как иметь отличительную значимость в свете того, что я делаю. я поглощен миром и не ощущаю себя «за пределами»; то есть я не понимаю своего действия через какое-то описание от третьего лица, как пример некоторого общего поведение.Однако когда я осознаю, что на меня смотрят (т. когда в мою субъективность вторгается субъективность другого ради для которой я всего лишь часть мира, элемент ее проектов), я осознавать наличие «природы», «характер», быть или делать что-то . я не просто смотреть в замочную скважину; Я вуайерист . Я не могу первоначально ощущаю себя чем-то вроде — вуайериста, для пример. Только другой может породить этот способ моего бытия, режим, который я называю моим (а не просто чужое мнение обо мне) в позор в котором я регистрируюсь Это.Именно потому, что в мире есть другие, я могу взгляд на себя от третьего лица, но это показывает степень которым я являюсь отчужденным от измерения моего существа: кто я есть в объективном смысле может быть первоначально раскрыто только Другим. Это имеет последствия для экзистенциальной социальной теории (см. на Сартр: экзистенциализм и марксизм. ниже).
Наконец, самопонимание, или проект, благодаря которому мир существует ли для меня осмысленно, уже принадлежит тому миру, вытекает из него, из традиции или общества, в котором я нахожусь.Хотя это «я», это не я «как мой собственный». Сама моя вовлеченность в мир отдаляет меня от моего подлинного возможность. Наиболее ясно эта тема раскрыта Хайдеггером: антикартезианская идея о том, что самость определяется прежде всего своим практическое участие влечет за собой то, что это «я» не является собственно индивидуальным а скорее неотличим от кого-либо другого ( das Man ), кто занимается такими практиками. Такие «они-я» делают то, что «один» делает. Идея примерно такая: практика может позволять вещам казаться значимыми — например, молоткам, долларовым банкнотам, или произведений искусства, потому что практика включает в себя цели, которые несут с собой нормы, условия удовлетворения того, что в них проявляется.Но норм а правила, как показал Витгенштейн, по существу публичны, и что означает, что когда я занимаюсь практикой, я должен быть по существу взаимозаменяемы с любым другим, кто это делает: я ем, как едят, я вожу когда едешь, я даже протестую, как протестуют. В той мере, в какой мой деятельность должна быть примером такой практики, я должен делать это в нормальный способ. Отклонения можно признать (возможно, благотворными) отклонения только от этой нормы, но если они отклоняются слишком сильно, они не может быть опознан в все. [13] Таким образом, если кто я есть определяется через существующее, то это «кто» обычно предопределяется тем, что является средним, ролями, доступными для меня в моей культуре. Таким образом, определяемое «я» «анонимный» или «любой»; самосоздание в значительной степени функция , а не , отличающая меня от другие.
Если, тем не менее, есть смысл говорить об исключительности мое существование, оно будет не как нечто, с чего начинают, а как то, что получает , достигло в восстановлении себя от отчуждение или потерянность в «толпе».«Если норматив прежде всего нормальное, однако может показаться, что речь о норме для сингулярности существования, эталона мышления о том, что мой самый родной так же, как и я сам, был бы бессвязный. Именно здесь проявляется идея «аутентичности». попадает в фокус.
2.3 Подлинность
По какому стандарту мы должны думать, что наши усилия «быть», нашими способ быть самим собой? Если такие стандарты традиционно вытекают из сущность, которую воплощает конкретная вещь — этот молот хороший, если он реализует то, что должен делать молоток быть — и если нет ничего, что есть человек, по его сущность, предполагается быть, может смысл существования вообще думать? Экзистенциализм возникает с крушением идеи о том, что философия может дать содержательные нормы существующего, которые указать определенные образы жизни.Тем не менее, остается различие между тем, что я делаю «как» я сам и как «кто угодно», так что в этом смысле существующее есть то, в чем Я могу добиться успеха или потерпеть неудачу. Подлинность — по-немецки, Eigentlichkeit — это отношение, в котором я участвую. мои проекты как мои собственные ( собственные ).
Что это означает, возможно, можно понять, рассмотрев моральные оценки. Сдерживая свое обещание, я поступаю согласно долгу; и если я держи потому что это мой долг, я тоже поступаю морально (согласно Канту), потому что я действую ради долга.Но экзистенциально предстоит еще дальнейшая оценка. Моя мораль действие недостоверно если, выполняя свое обещание ради долг, я делаю это, потому что это то, что делает «один» (что «нравственные люди»). Но я могу сделать то же самое подлинно если, выполняя свое обещание ради долга, действуя таким образом, я выбираю как свой собственный , что-то которое, помимо его социальной санкции, я совершаю сам. Так же, делать правильные вещи с фиксированным и стабильным характером, который этика добродетели считает условием добра — не выходит за досягаемость экзистенциальной оценки: такой персонаж может быть просто продукт моей склонности «делать то, что делаешь», в том числе чувствовать себя «правильно» в отношении вещей и принимать себя надлежащим образом, как ожидается.Но такой характер может также быть отражением моего выбора самого себя, обязательство Я делаю, чтобы быть человеком такого рода. В обоих случаях Я преуспел в том, чтобы быть хорошим; однако только в последнем случае мне удалось быть сам . [14]
Таким образом, норма подлинности относится к «прозрачность» в отношении моей ситуации, признание что я существо, которое может быть ответственным за то, кто я есть. В делая выбор в свете этой нормы, можно сказать, что я избавляюсь от отчуждение, от моего погружения в анонимное «я» это характеризует меня в моем повседневном взаимодействии с миром.Таким образом, аутентичность указывает на определенную целостность, а не на предданного целого, идентичности, ожидающей своего открытия, но проекта, которому я могу либо посвятить себя (и, таким образом, «стать» тем, что оно влечет за собой), или же просто занимать какое-то время. время, неискренне дрейфуя в различных ролях и из них. Немного авторы пошли еще дальше, утверждая, что мерой подлинной жизни является целостность нарратив , что быть самим собой значит составлять историю в в котором преобладает своего рода целостность, быть автором самого себя как уникальная личность (Nehamas 1998; Ricoeur 1992).Напротив, неподлинная жизнь была бы жизнью без такой цельности, жизнью, в которой я пусть моя история жизни будет продиктована миром. Как бы то ни было, это ясно, что можно посвятить себя жизни хамелеона разнообразия, как и Дон Жуан в кьеркегоровской версии легенда. Таким образом, даже в нарративной интерпретации норма подлинности остается формальным. Как и в случае с «Рыцарем веры» Кьеркегора, один не может сказать, кто является подлинным, глядя на содержание их жизни. [15]
Аутентичность определяет условие самосовершенствования: удается ли мне превращая себя в , или я буду просто функцией роли, в которых я нахожусь? Таким образом, быть аутентичным можно также рассматривать как способ быть автономным.При выборе «решительно», т. е. посвятив себя определенный образ действий, определенный образ жизни в мире — я Я дал себе правило, которое относится к той роли, которую я собираюсь принять. Неподлинный же человек, напротив, всего лишь занимает такой площади. роль, и может делать это «нерешительно», без обязательств. Быть настоящим отцом не обязательно делает меня лучше отец, но что значит быть отцом стало явно касается моего . Именно здесь экзистенциализм находит сингулярность существования и определяет то, что нередуцируемо в позиция от первого лица.При этом аутентичности не выдерживает какой-то определенный образ жизни как норма; то есть не различает между проектами, которые я мог бы выбрать. Вместо этого он регулирует манере, в которой я участвую в таких проектах — либо «мой собственный» или как «то, что человек делает», прозрачно или непрозрачно.
Таким образом, акцент экзистенциализма на аутентичности приводит к отличительная позиция по отношению к этике и теории ценностей в целом. То возможность подлинности является признаком моей свободы , и это через свободу экзистенциализм подходит к вопросам ценности, что привело ко многим из его наиболее узнаваемых доктрин.
Экзистенциализм не сильно развился в сторону нормативной этики; однако определенный подход к теории стоимости и к моральным психология, вытекающая из идеи существования как самосозидания в ситуации, является отличительной чертой экзистенциалистского традиция. [16] В теории ценности экзистенциалисты склонны подчеркивать условность или безосновательность ценностей, их «идеальность», тот факт, что они возникают исключительно благодаря проекты людей на фоне иначе бессмысленный и безразличный мир.Экзистенциальная моральная психология подчеркивает свободу человека и фокусируется на источниках лжи, самообман и лицемерие в нравственном сознании. знакомый экзистенциальные темы тревоги, небытия и абсурда должны быть понимается в этом контексте. В то же время существует глубокая озабоченность по поводу воспитывать подлинное отношение к человеческим, необоснованным ценностям без которого невозможен ни один проект, озабоченность, которая выражается в понятия «помолвка» и «обязательство.» [17]
3.1 Тревога, Ничто, Абсурд
Как предикат существования понятие свободы изначально не установлен на основе аргументов против детерминизма; и это не воспринимается, по-кантиански, просто как данность практического самосознание. Вернее он находится в разбивке из непосредственная практическая деятельность. «Доказательством» свободы является дело не в теоретическом и не в практическом сознании, а возникает из самопонимания, которое сопровождает определенное настроение в которое я могу впасть, а именно тревога ( Angst , ангуасский ).И Хайдеггер, и Сартр считают, что феноменологический анализ вида интенциональности, принадлежащего к настроению не просто регистрирует преходящую модификацию психики но раскрывает фундаментальные аспекты личности. Страх, например, показывает какой-то регион мира как угрожающий, какой-то элемент в нем как угроза, а я уязвим. В тревоге, как в страхе, я схватываю я как находящийся под угрозой или как уязвимый; но в отличие от страха тревога не имеет прямой объект, в мире нет ничего угрожающего.Этот потому что тревога вообще вырывает меня из круга тех проекты, благодаря которым для меня все становится значимым; я больше не может «приспособиться» к миру. И с этим крах моего практического погружения в роли и проекты, я тоже теряю основное ощущение того, кто я есть, обеспечивается этими ролями. Таким образом лишая меня возможности практической самоидентификации, тревога учит меня, что я не совпадаю ни с чем, что я фактически я. Далее, поскольку тождество связано с такими ролями и практика всегда типична и публична, крах этого идентичность раскрывает в конечном счете перволичностный аспект меня, который несводим к das Man .По Хайдеггеру, тревога свидетельствует о своего рода «экзистенциальном солипсизме». Это это неохотно, ибо дезориентируя и раскулачивая, ухожу в себя в тревоге, которая дает экзистенциальную фигуру аутсайдера, изолированный тот, кто «видит насквозь» фальшь тех, которые, не подозревая, что предвещает срыв тревоги, живут своей живет, самодовольно отождествляя себя со своими ролями, как будто эти роли тщательно определил их. Хотя эта «посторонняя» позиция может легко высмеять как подростковое эгоцентризм, это также солидно поддерживается феноменологией (или моральной психологией) первого лица опыт.
Переживание тревоги также дает экзистенциальную тему absurd , версия того, что ранее было представлено как отчуждение от мира (см. раздел о Отчуждение выше). Пока я вхожу в мир практически, в бесшовным и поглощенным образом, вещи представляются осмысленно координируется с проектами, которыми я занимаюсь; они показывают мне лицо, имеющее отношение к тому, что я делаю. Но связь между эти смыслы и мои проекты сами по себе не являются чем-то, что я опыт.Скорее полезность молотка, его ценность как молоток, кажется, просто принадлежит ему так же, как его вес или цвет делает. Короче говоря, пока я практически занят, все вещи, по-видимому, имеют причины для существования, и я, соответственно, чувствовать себя как дома в этом мире. В мире есть порядка, который для меня в значительной степени прозрачен (даже его тайны воспринимается просто как нечто, для чего есть причины, которые существуют «для других», для «экспертов», просто за пределами моего ограниченный кругозор).Однако в настроении беспокойства именно это персонаж, который исчезает из мира. Потому что Меня больше нет практически занят, смысл, который ранее населял вещь, поскольку плотность ее бытия теперь смотрит на меня как на простую имя , как то, что я «знаю», но чего уже нет утверждает меня. Как если повторять слово до тех пор, пока оно не потеряет смысла, тревога подрывает само собой разумеющееся чувство вещей. Они становятся абсурд . Вещи не исчезают, но все, что от них остается является пустым признанием того, что они есть — опытом это сообщает центральную сцену в романе Сартра Тошнота .Когда Рокантен сидит в парке, корень дерева теряет свой характер до тех пор, пока его не одолеет тошнота от совершенно чуждой ему персонаж, это en soi . Пока такого опыта нет больше подлинности, чем мой практический опыт взаимодействия с миром смысл, это не менее подлинный либо. Экзистенциальный учет значения и ценности должен признать оба возможности (и их посредники). Сделать это — значит признать нелепость существования: хотя разум и ценность имеют точки опоры в мире (они ведь не мои произвольные изобретение), тем не менее они лишены какой-либо окончательной основы.Значения не присущие бытию, и в какой-то момент причины дают вне. [18]
Другой термин для обозначения беспочвенности мира смысла: «ничто». Хайдеггер ввел этот термин для обозначения тип понимания себя и мира, возникающий при тревоге: потому что моя практическая идентичность состоит из практик, которыми я занимаюсь в, когда они рушатся, я «есть» не что иное. Таким образом говоря, таким образом, я оказываюсь лицом к лицу со своей собственной конечностью, «смерть», как возможность, при которой я больше не могу будет чем угодно.Этот опыт моей собственной смерти или «ничто», в тревоге может служить толчком к подлинность: я прихожу к выводу, что я «есть» не что иное, как должен «заставлять себя быть» посредством моего выбора. В совершая себя перед лицом смерти, то есть осознавая ничтожность моей идентичности, если она не поддерживается мной вплоть до конец — роли, которые я до сих пор бездумно играл как теперь становится чем-то, чем я сам признаюсь, становится ответственный за. Хайдеггер назвал этот способ самосознание — осознание предельного ничтожества моего практическое тождество — «свобода», и Сартр разработал это экзистенциальное понятие свободы в мельчайших подробностях.Это не значит что взгляды Хайдеггера и Сартра на свободу идентичный. Хайдеггер, например, будет подчеркивать, что свобода всегда «выбрасывается» в историческую ситуацию, из которой черпает свои возможности, тогда как Сартр (который в равной степени осознает «фактичность» нашего выбора) будет подчеркивать, что такие «возможности», тем не менее, недостаточно определяют выбор. Но теория радикальной свободы, которую развивает Сартр, тем не менее прямо коренится в хайдеггеровской трактовке ничтожества моего практическая идентичность.
Сартр (1943 [1992, 70]) утверждает, что тревога обеспечивает осознанное переживание та свобода, которая, хотя часто и скрывается, характеризует человека существование как таковое. Для него свобода — это дислокация сознание от своего объекта, основного «нигиляция» или отрицание, посредством которого сознание может схватить свой объект, не теряясь в нем: осознавать что-то должно осознавать, что , а не , «не», возникающее в самой структуре сознания как для-себя.Потому что «ничто» (или ничтожение) это как раз то, что есть сознание, не может быть объектов в сознание, а только объекты на сознание. [19] Это означает, что сознание радикально свободно, так как его структура исключает, что либо содержит , либо действует на со стороны вещи. Например, поскольку оно не похоже на вещи, сознание свободен по отношению к своим предшествующим состояниям. Мотивы, инстинкты, психика силы и тому подобное нельзя понимать как жителей сознание, способное заражать свободу изнутри, побуждая действовать способами, за которые никто не несет ответственности; скорее они могут существовать только на сознания как вопросы выбора.я должен либо отвергнуть их требования или признать их. Для Сартра онтологическая свобода существования влечет за собой то, что детерминизм является предлогом перед ним. является теорией: хотя через свою структуру ничтожного сознания избегает того, что определяло бы его, включая собственное прошлое выбор и поведение — бывают моменты, когда я, возможно, захочу отказаться от своего Свобода. Таким образом, я могу попытаться конституировать эти аспекты моего существа как объективные «силы», которые господствуют надо мной таким образом, отношений между вещами.Это принять позицию от третьего лица в котором то, что изначально структурировано с точки зрения свободы выступает как причинное свойство меня самого. Я могу попытаться взглянуть на себя как делает Другой, но в качестве предлога показано это бегство от свободы потерпеть неудачу, согласно Сартру, в опыте тоска .
Например, Сартр пишет об игроке, который, проиграв все и опасаясь за себя и свою семью, уходит в рефлексивное поведение решения никогда больше не играть в азартные игры.Таким образом, этот мотив входит в его фактичность как выбор, который он сделал; и пока он сохраняет его страх, его живое ощущение себя как находящегося под угрозой, это может ему кажется, что эта решимость действительно имеет причинную силу для сохранения его от азартных игр. Однако однажды вечером он сталкивается с игровым столом. и охвачен тоской при осознании того, что его решимость, все еще «там», не сохраняет своей силы: это объект для сознания, но не является (и никогда не мог иметь было) что-то в сознании, что определяло его действия.Чтобы это повлияло на его поведение, он должен заявить об этом. заново, но это как раз то, что он не может сделать; собственно, именно это он надеялся, что первоначальная решимость избавит его от необходимости действовать. Он придется «переделывать» того себя, который был в оригинале Ситуация страха и угрозы. В этот момент, возможно, он попытается избавиться от тоски свободы, поддавшись желанию играть и списывая это на «более глубокие» мотивы, которые преодолели первоначальная решимость, возможно, проблемы из его детства.Но тоска может повторяться и в отношении этой стратегии — например, если он нуждается в кредите, чтобы продолжать играть в азартные игры, и должен убедить кого-то, что он «Согласен с его словом». Возможности для самообман в таких случаях бесконечный. [20]
Как очень подробно указывает Сартр, тоска, как сознание свобода — это не то, что приветствуется людьми; скорее, мы ищем стабильности, идентичности и использовать язык свободы только тогда, когда это нас устраивает: те действия я считаю своими свободными действиями, которые в точности соответствовать тому, каким я хочу, чтобы другие считали меня.Мы «осуждены быть свободными», а это значит, что мы никогда не сможем просто быть теми, кто мы есть, но отделены от самих себя ничтожество необходимости постоянно переизбирать или переделывать, себя к тому, что мы делаем. Характеристика экзистенциалистского мировоззрения заключается в том, что мы проводим большую часть жизни, разрабатывая стратегии для отрицание или уклонение от страданий свободы. Одной из таких стратегий является «недобросовестность.» Другое дело — апелляция к ценностям.
3.2 Идеальность ценностей
Идея о том, что свобода является источником ценности, где свобода определяется не в терминах рационального действия (Кант), а скорее в экзистенциальные термины, такие как выбор и трансцендентность, — это идея возможно, наиболее тесно связан с экзистенциализмом.Такой влиятельный был ли этот общий взгляд на ценность, который пришел Карл-Отто Апель (1973: 235) говорить о своего рода «официальной взаимодополняемости экзистенциализм и сциентизм» в западной философии, согласно к которому то, что может быть рационально оправдано, подпадает под «бесценностный объективизм науки», тогда как все другие притязания на достоверность становятся предметом «экзистенциального субъективизма». религиозной веры и этических решений». Попытка позитивизма разработать теорию «когнитивного значения», основанную на том, что она стала внутренней логикой научной мысли и отодвинула вопросы ценности к познавательной бессмысленности, сводя их к вопросы эмоциональной реакции и субъективных предпочтений.В то время как это делает не объяснять оценочный язык исключительно как функцию аффективного установки, экзистенциальная мысль, как и позитивизм, отрицает, что ценности могут быть основаны на бытии, то есть могут стать темой научного исследования, способного различать истинные (или действительный) от ложного ценности. [21] В связи с этим Сартр говорит об «идеальности» ценностей. под которым он подразумевает , а не , что у них есть какой-то вневременной действительность, но что они не имеют реальной силы и не могут быть использованы для подтвердить или оправдать мое поведение.Для Сартра «ценности вытекают из их значение из оригинальной проекции меня самого, которая выступает как моя выбор себя в мире». Но если это так, то я не может без циркулярности апеллировать к ценностям, чтобы оправдать это самого выбора: «Я принимаю решение относительно них — без по оправданию и без оправдания» (Sartre 1943 [1992, 78]). Этот так называемый «решенничество» был горячо оспариваемым наследием экзистенциализма и заслуживает здесь более пристального внимания.
Как получается, что ценности должны основываться на свободе? От «Ценность» Сартр имеет в виду те аспекты моего опыта, которые не просто причинно воздействовать на что-то, а скорее сделать иск на меня: Я не просто вижу бомжа, но встречайте его как «нужно помочь»; Я не просто слышу чужой голос, но зарегистрировать «вопрос, на который нужно ответить честно говоря»; Я не просто случайно сижу тихо в церкви, но «присутствовать благоговейно»; Я не просто слышу будильник но меня «призывают вставать.Ценности, значит, как Сартр пишет, появляется с символом требует и как таковые они «претендовать на основание» или оправдание (Sartre 1943 [1992, 76]). Почему должен я помогаю бездомным, отвечай честно, сиди благоговейно, или встать? Сартр не утверждает, что ответа нет. на эти вопросы, а только то, что ответ зависит, наконец, от моего выбор «себя», который, в свою очередь, не может быть оправдан обращение к ценности. Как он выразился, «стоимость вытекает из его необходимость, а не необходимость его существования.Острота ценность не может основываться на самом бытии, так как тем самым она потерять свой характер как долженствование; оно «перестанет даже быть значение», поскольку оно имело бы некую остроту (в отличие от свобода), которым обладает всего лишь причина . Таким образом, против тогдашнего ценностно-теоретического интуиционизма, Сартр отрицает эту ценность может «предаться созерцательной интуиции, которая воспринимать его как , являющееся значением , и тем самым вывести из него его право на мою свободу». Вместо этого «можно раскрыть только к активной свободе, благодаря которой она существует как ценность единственный факт признания его как такового» (Sartre 1943 [1992.76]).
Например, я не понимаю необходимости будильника (его характер как требование) в своего рода бескорыстном восприятии, а только в самом акте ответа на него, вставая. Если я не получу тревога в этой самой степени потеряла свою актуальность. Почему должен встать? Здесь я могу попытаться оправдать его требовать путем апелляции к другим элементам ситуации, с которыми сигнализация завязана: я должен встать, потому что я должен идти на работу. Из этого точки зрения появляется требование тревоги — и — это — оправдано, и такого обоснования часто бывает достаточно. чтобы заставить меня идти снова.Но вопрос об основании стоимости просто вытеснены: теперь моя работа заключается в том, чтобы, при активном участии, принимает бесспорную остроту спроса или ценности. Но это тоже получает свое бытие как ценность из своей необходимости, т. е. из моего нерефлексивная вовлеченность в общую практику работы. Должен ли я идти на работу? Почему бы не быть «безответственным»? Если человеку нужно есть, почему бы ему не заняться преступной жизнью? Если на эти вопросы есть ответы, которые сами по себе неотложны, это может только потому, что на еще более глубоком уровне я занят тем, что имею выбрал себя человеком определенного сорта: порядочным, ответственным.Из в пределах этого выбора есть ответ о том, что я должен делать, но вне этого выбора нет — почему я должен быть респектабельным, законопослушным? — ибо только потому, что какие-то был сделан выбор, что что угодно может показаться столь же убедительным, как предъявление мне претензии . Только если я на каком-то уровне занимаются делают значения (и так обоснование с их точки зрения) появиться вообще. Чем больше я отвлекаюсь от участия в размышлениях о, и подвергая сомнению мою ситуацию, тем больше мне угрожают этические тоска — «что есть признание идеальности ценностей» (Сартр 1943 [1992, 76]).И, как со всякой тоской, я не избежать этой ситуации, открыв истинный порядок значений, но снова погружаясь в действие. Если идея о том, что ценности лишены основу бытия можно понимать как форму нигилизма, Экзистенциальный ответ на это состояние современного мира состоит в том, чтобы указать из того, что смысл, ценность не есть прежде всего предмет созерцательного теория, а следствие участия и приверженности.
Таким образом, ценностные суждения могут быть оправданы, но только относительно некоторых конкретный и конкретный проект.«Модель поведения» типичного буржуа определяет смысл «респектабельность» (Sartre 1943 [1992, 77]), и поэтому какой-то конкретный элемент поведения, который является либо респектабельным, либо нет. По этой причине я могу ошибаться в том, что мне следует делать. Это может быть что-то, что кажется неотложным в течение моего нерефлексивная вовлеченность в мир — это то, чего я не должен дать в. Если благодаря моей приверженности Сопротивлению чиновник кажется мне расстрелянным, тем не менее я могу ошибаться, застрелить его, если, например, чиновник не тот, за кого я он был, или если его убийство на самом деле окажется контрпродуктивным, учитывая мои долгосрочные цели.Художественные произведения Сартра полны исследования моральной психологии такого рода. Но я не могу продлить эти «гипотетические» оправдания до такой степени, что некоторые чисто теоретическое рассмотрение моих обязательств — будь то проистекает из воли Бога, из Разума или из ситуации себя — мог гарантировать мою свободу таким образом, чтобы облегчить это ответственности. Ибо для того, чтобы такие соображения count Я должен был бы стать таким человеком, для которого Божья воля, абстрактный Разум или текущая ситуация решающее .Таким образом, для экзистенциалистов вроде Сартра я «тот, кто, наконец, создает ценности, чтобы определить [мои] действия их требования». [22]
Обязательство — или «помолвка» — таким образом, в конечном счете основой для подлинно осмысленной жизни, т. ответы на экзистенциальное состояние человека и не бежит это условие путем обращения к абстрактной системе разума или божественному будет. И хотя я один могу посвятить себя определенному образу жизни, некоторые проекта, я никогда не остаюсь один, когда делаю это; и я не делаю этого в соцсетях, исторический или политический вакуум.Если трансцендентность представляет мою радикальная свобода самоопределения, фактичность — вот еще один аспект мое существо — представляет расположенный характер этого самоделка. Потому что свобода как трансцендентность подрывает идею устойчивая, вневременная система моральных норм, неудивительно, что экзистенциальные философы (за исключением Симоны де Бовуар) посвящал скудную энергию вопросам нормативной моральной теории. Тем не мение, потому что эта свобода всегда социально (и тем самым исторически) расположение, неудивительно, что их сочинения сильно обеспокоены тем, как наши выборы и обязательства конкретно контекстуализированы с точки зрения политической борьбы и исторических реальность.
Для экзистенциалистов вовлеченность является источником смысла и ценность; выбирая себя, я в известном смысле создаю свой мир. На с другой стороны, я всегда выбираю себя в контексте, где есть другие делать то же самое, и в мире, который всегда уже был там. Короче говоря, моя игра находится как в социальном, так и в исторически. Таким образом, выбирая себя в первом лице единственного числа, я я также выбираю таким образом, чтобы первое лицо множественного числа, «мы» образовано одновременно.Такой выбор составляет область социальной реальности; они вписываются в заранее определенный контекст ролей и практик, которые в значительной степени не подвергаются сомнению и могут рассматриваться как как своего рода коллективная идентичность. В социальном действии моя личность формируется на фоне (коллективной идентичности общественная формация), которая остается неизменной. С другой стороны, может случиться что мой выбор ставит эту социальную формацию или коллективную идентичность ставится под вопрос, и поэтому то, кем я должен быть, неотделимо от вопрос о том, кем нам быть.Здесь множественное число от первого лица сама проблема, и действия, которые являются результатом такого выбора составляет поле политического.
Если подлинность — это категория, по которой я могу думать о том, что значит «существовать», тогда счет подлинности нельзя пренебрегать социальными, историческими и политическими аспектами этого существование. Таким образом, дело не только в том, что XX в. экзистенциализм процветал в то время, когда европейская история, казалось, коллапс и политические дела вырисовывались особенно большими, что экзистенциальные философы уделяли этим вопросам большое внимание; скорее, потребность в отчете о «ситуации» проистекает из из самого характера существования, которое, в отличие от классический «рациональный субъект» есть то, чем он является только в отношение к своему «времени».Однако это не означает, что экзистенциальные философы единодушны в своих взглядах на значение исторических факторов или в их оценке политическим по отношению к другим аспектам существования. Эммануэль Левинас, например, чья ранняя феноменологическая работа принадлежала орбите экзистенциальной философии, противостоящей «горизонтальная» темпоральность политической истории «вертикальная» или эсхатологическая темпоральность, радикально бросал вызов всему историческому смыслу, в то время как Сартр, напротив, производил вариант марксистского исторического материализма, в котором экзистенциализм сама стала простой идеологией.Но мы не можем остановиться на рассмотрении всех таких различия здесь. Вместо этого мы рассмотрим позиции Хайдеггера. и Сартр, которые приводят противоположные примеры того, как аутентичные отношения к истории и политике можно понять.
4.1 Хайдеггер: история как утверждение
Для Хайдеггера существовать — значит быть историческим. Это не значит, что человек просто оказывается в определенный момент истории, задуманный как линейный ряд событий. Скорее, это означает, что самость имеет своеобразная временная структура, которая является источником этого «история», которая впоследствии начинает излагаться в терминах из ряда событий.Экзистенциальная темпоральность — это не последовательность мгновения, а единая структура, в которой «будущее» (то есть возможность, на которую нацелен мой проект) вспоминает «прошлое» (то есть то, что уже не нужно сделанное, завершенное), чтобы придать смысл «настоящее» (то есть вещи, которые приобретают значение в свете того, что в настоящее время необходимо сделать). Действовать, следовательно, значит Хайдеггера, «историзировать». ( geschehen ), чтобы составить нечто вроде повествовательного единства, с началом, серединой и концом этого не так много в времени, как обеспечить условие для линейного времени.К существовать «между рождением и смертью», значит, не просто быть присутствует в каждом из дискретных рядов временных моментов, но составляют себя в единстве истории и подлинного существование — это то, в котором проекты, придающие форму существования те, которым я посвящаю себя в свете этой истории. Хотя он принадлежит «моменту» и определяет его, выбор не может быть просто «на данный момент»; чтобы быть подлинным, я должен понять мой выбор в свете потенциальной целостности мой существование.
То, что этот выбор имеет политическое измерение, связано с тем, что существование всегда есть бытие-с-другими. Хотя подлинность возникает на основание моего отчуждения, в тревоге, от требований, сделанных нормы, относящиеся к повседневной жизни das Man , любые конкретные обязательство, которое я беру на себя в движении за свое выздоровление, заручится эти нормы двумя способами. Во-первых, что я беру на себя обязательство всегда быть производным от (хотя и несводимым к) некоторого «возможность Dasein, которая была там» (Хайдеггер, 1927). [1962, 438]): я не могу создать свою личность из цельного куска ткани; я буду всегда понимать себя с точки зрения некоторого способа существования, который был передал в моем традиция. [23] Я «выбираю своего героя» (Хайдеггер 1927 [1962, 437]) посредством Например, посвятив себя философской жизни, которую я понимать по образцу Сократа или к религиозной жизни, которую я понять по образцу святого Франциска. Дело в том, что я должен понимаю себя в терминах что-то , а эти возможности для понимания исходят из исторического наследия и нормы, которые к нему относятся. Хайдеггер рассматривает эту историческую измерение как своего рода «судьба» ( Schicksal ): нет что-то неизбежное, что контролирует мой выбор, но что-то, что, унаследованное от моего исторического положения, претендует на меня, держит своего рода авторитет для меня.
Второй способ, которым повседневные нормы das Man подлинный выбор проистекает из того факта, что, когда я совершаю от себя к своей «судьбе» я делаю это «в моем и с моим «поколение»» (Хайдеггер 1927 [1962, 436]). Идея здесь выглядит примерно так: выбрать образ действий — значит утвердить нормы, которые к нему относятся; и из-за природы нормативности, невозможно утвердить нормы, которые держали бы только для мне . В нормативных таким образом, когда я выбираю, я являюсь образцом стандарта и для других.Точно так же Хайдеггер считает, что социальность моей историзации ограничивает то, что может быть для меня подлинной «судьбой» или выбором. Игра всегда с другими, точнее, с «сообщество» или «народ» ( Volk ) — а вместе это «соисторизация» отвечает на «судьбу» ( Geschick ), которая направляли наши судьбы наперед (Heidegger 1927 [1962, 436]). Не все действительно возможно для нас, и подлинный выбор должен стремиться ответить к притязаниям, которые история предъявляет к людям, которым ты принадлежишь, завладеть своей «судьбой».«Вдоль этой коммунитарной оси, тогда экзистенциальная историчность может выйти на вопрос о политика: кем быть «мы»?
Хайдеггер предполагает, что именно эта концепция историчности подкреплял свою политическую деятельность в период Национального Социализм в Германии. Отвращение к политической ситуации в Веймаре Германию и характеризуя ее как особенно нерешительную или недостоверную, Хайдеггер рассматривал движение Гитлера как способ напомнить немецкий народ вернулся к своему «самому родному» возможность — т.э., способ для Германии учредить себя подлинно как альтернатива политическим моделям советского Союза и США. Хайдеггер решил вмешаться в Таким образом, университетская политика в то время была как выбором самого себя, в котором он выбрал своего героя: платоновскую «король-философ» (см. Arendt 1978) — и выбор для своего «поколения». Многое вызывает споров приверженность Хайдеггера национал-социализму (не в последнюю очередь он сделал соответствующие выводы из своего собственного представления о подлинность), [24] но это дает ясный пример своего рода экзистенциальной политики это зависит от способности «определять время», т. е. ощущать императивы своей фактической исторической ситуации.Позже Хайдеггер стал очень подозрительно относиться к такого рода экзистенциальным политика. Действительно, идея аутентичности как непоколебимой приверженности он заменил идею «освобождения» ( Gelassenheit ) и для взаимодействия позиция «ожидающий.» Он пришел к выводу, что проблемы, с которыми сталкиваются мы (в частности, доминирование технологических способов мышления) корни, которые лежат глубже, чем можно решить с помощью политики напрямую. Таким образом, он лихо отрицал, что демократии достаточно, чтобы справиться с политический кризис, вызванный технологиями, утверждая, что «только бог может спасти нас» (Хайдеггер 1966 [1981, 55, 57]).Но и здесь, соблюдая с экзистенциальным понятием историчности, Хайдеггер рекомендации включают чтение истории, смысла наших время.
4.2 Сартр: экзистенциализм и марксизм
Может быть совсем другое прочтение и совсем другая рекомендация. встречается в творчестве Сартра. Основа сартровского прочтения история и его политика лежали в разделе Бытия и Ничто , описывающее рождение социального в «Посмотрите» ( ле относительно ) другого.Делая меня объектом своих проектов, другой отдаляет меня от себя, вытесняет меня с позиции субъекта (позиции, с которой мир определена в своем значении и значении) и составляет меня как что-то. Конкретно то, что я состою «как», есть функция чужого проекта, а не то, что я могу заставить себя быть. Я устроен как «француз» в и через враждебность, исходящую от этого немца; я устроен как «мужчина» в обиде этой женщины; я составлен как «еврей» на основании чужого антисемитизм; и так далее.Это устанавливает измерение моего существа, которое я не могу ни контролировать, ни отрицать, и мой единственный выход — вырвать отдалиться от другого в попытке восстановить себя в субъект-позиция. По этой причине, по сартровской модели, социальная реальность находится в вечном конфликте — гегелевская диалектика, в которой по онтологическим причинам никакое состояние взаимного признания никогда не может быть достигнуто. «Мы» — политический субъект — это всегда оспариваемый, конфликтный, нестабильный.
Но эта неустойчивость имеет определенную структуру, которую Сартр, пропитанный марксизмом межвоенной французской мысли (Александр Кожев, Жан Ипполит), исследованный с точки зрения определенного исторический материализм.Ведь общественные отношения имеют место не только между людьми, но и внутри институтов, которые развили исторически и которые закрепляют отношения власти и господства. Таким образом борьба за то, кто займет подчиненное положение, не ведется выходит на равных. Как Симона де Бовуар подробно показала в ее книга, Второй пол , историческая и институциональная место женщин определяется таким образом, что они обречены на своего рода постоянный статус «объекта» — они «второй» пол, поскольку социальные нормы определяются в мужских терминах.При этом борьба женщины за развитие проектов сдерживается постоянным институциональным «Взгляд», который уже определяет ее как «женщину», в то время как мужчине не обязательно действовать в условиях гендерных ограничений; он чувствует себя просто «человеком», чистой субъективностью. Использование аналогичные идеи в размышлениях о ситуациях расовых и экономического гнета, Сартр искал способ вывести политическое императивы перед лицом беспочвенности нравственных ценностей повлекли за собой своим взглядом на идеальность ценностей.
Сначала Сартр утверждал, что есть одна ценность — свобода. само по себе — что имело что-то вроде всеобщего авторитета. К посвятить себя чему-либо — это также всегда посвятить себя ценность свободы. В «Экзистенциализме есть гуманизм» Сартр пытался установить это с помощью своего рода трансцендентального аргумента, но вскоре он отказался от этой стратегии и избрал более скромную утверждая, что писатель должен всегда заниматься «на сторона свободы». Согласно теории «помолвленного литературы», изложенной в Что такое литература? , в Создавая литературный мир, автор всегда действует либо представить себе пути преодоления конкретных несвобод, таких как расизм и капиталистической эксплуатации, или же закрытие их.В последнем случае, он сам себе противоречит, так как сама идея писать предполагает свободу читателя, а это означает, в принципе, всей читающей публики. Каковы бы ни были достоинства этого аргумента, это действительно указывает на политическую ценность, которой Сартр оставался приверженным. на протяжении всей своей жизни: ценность свободы как самодеятельности.
Это обязательство в конце концов привело Сартра к тому, что сам экзистенциализм был лишь «идеологическим» моментом в марксизме, который он назвали «единственной философией нашего времени, которую мы не можем дальше» (Sartre 1960 [1968, xxxiv]).Как следует из этого утверждения, Принятие Сартром марксизма было следствием его чувства история как фактическая ситуация, в которой проект самосоздания происходит. Поскольку существование есть самосоздание (действие), философия, включая экзистенциальную философию, не может быть понимается как бескорыстное теоретизирование о вневременных сущностях, но всегда является формой взаимодействия, диагнозом прошлого и проекция норм, соответствующих иному будущему в свете что настоящее приобретает значение.Поэтому всегда возникает от историко-политической ситуации и является способом вмешательства в Это. Марксизм, как и экзистенциализм, делает это обязательно практическим. ориентация философии явная.
С самого начала экзистенциализм видел себя таким активным, послужившая основой для самых серьезных разногласий между французскими экзистенциалистов, таких как Сартр, Мерло-Понти и Камю, многие из которые боролись на страницах журнала, основанного Сартром и Мерло-Понти, Les Temps Модерн ). [25] Но поздний Сартр пришел к что философия создания себя не может довольствоваться выделение ситуации индивидуального выбора; подлинный политическая идентичность могла возникнуть только из теории, сделал такой выбор в практически ориентированном анализе своего конкретная ситуация. Таким образом, ему казалось, что «идеология существования» сам был просто отчужденной формой более глубокого анализ социальной и исторической действительности, обеспечиваемый Марксом. диалектический подход.Сосредоточившись на наиболее важных аспектах материальное состояние, в котором экзистенциальный проект самосоздания имеет место, а именно экономических отношений в условиях дефицита — Марксова критика капитала предлагала набор соображений, что никакая «философия свободы» не может игнорировать, соображения, которые могли бы послужить ориентиром для политического участия до тех пор, пока «для не будет существовать каждый а маржа реальная свобода за пределами производства жизни» (Сартр 1968: 34).Поэтому марксизм непревзойден, потому что он самая ясная теория нашей отчужденной ситуации конкретного несвободы, ориентированной на практико-политическое преодоление несвобода.
Отношение Сартра к ортодоксальному марксизму отличалось напряженностью. однако, поскольку он считал, что существующий марксизм отказался от обещания своего диалектического подхода к социальной действительности в пользу догматического «априоризм», подчинивший историческую реальность одеяло безжизненных абстракций. Таким образом, он предпринял свою Критику. диалектического разума , чтобы восстановить обещания марксизма путем переосмысление своей концепции практики с точки зрения экзистенциальное понятие проекта .Что стало жестким экономический детерминизм будет восстановлен до диалектической текучести путем напоминая об экзистенциальной доктрине самосоздания: правда, что человек «делается» историей, но в то же время он делает та самая история. Эта попытка «отвоевать человека внутри марксизм» (Сартр, 1960 [1968, 83]), т. е. разработать метод, который сохранил бы конкретные детали человеческой реальности, когда жил человек. опыт — не был хорошо воспринят ортодоксальными марксистами. Увлечение Сартра подробностями жизни Флобера, или жизнь Бодлера, слишком отдающая «буржуазной идеализм.Но мы видим здесь, как политика Сартра, как Хайдеггера, вытекающее из его концепции истории: железные законы, делающие свержение капитализма неизбежным результат экономических сил; есть только мужчины в ситуации, которые делают история, как они сделаны ею. Диалектический материализм – это непревзойденная философия тех, кто выбирает, кто посвящает себя к, ценность свободы. Политическая претензия, которую марксизм предъявляет к нам, затем покоится на идеологическом анклаве внутри него: подлинный существование как выбор.
Таким образом, подлинное существование имеет историческое, политическое измерение; все выбор будет внимательным к истории в смысле контекстуализации себя в некотором временном нарративном понимании своего места. Но даже здесь следует признать, что то, что делает существование подлинным, а не правильность нарративного понимания, которое оно принимает. Аутентичность не зависит от какого-то конкретного основного взгляд на историю, какую-то конкретную теорию или эмпирическую историю. Из этого точки зрения, содержательные истории, принятые экзистенциальной таких разных мыслителей, как Хайдеггер и Сартр, возможно, следует читать меньше как научные отчеты, защищенные в терминах третьего лица, чем как артикуляции исторической ситуации с точки зрения того, что эта ситуация воспринимается как требование, учитывая активную приверженность их авторов.Другими словами, они стоят меньше, чем обоснования экзистенциальных и политические обязательства, чем сами по себе форма политики: приглашения других видеть вещи так, как их видит автор, так что решимость автора идти определенным путем придет быть разделены.
Как культурное движение экзистенциализм принадлежит прошлому. Как философское исследование, которое ввело новую норму, подлинность, для понимание того, что значит быть человеком — норма, привязанная к своеобразное, посткартезианское представление о себе как о практическом, воплощенное, бытие-в-мире — экзистенциализм продолжал играют важную роль в современной мысли как на континенте, и аналитические традиции.Общество феноменологии и экзистенциального Философия и общества, посвященные Хайдеггеру, Сартру, Мерло-Понти, Ясперс, Бовуар и другие экзистенциальные философы обеспечивают форум за текущую работу — как исторического, научного характера, так и более систематической направленности — это продолжает то, что Хаваджа называл «традицию» экзистенциализма, часто доводя ее до конфронтация с более поздними движениями, такими как структурализм, деконструкция, герменевтика и феминизм.
В области гендерных исследований Джудит Батлер (1990) уделяет большое внимание на экзистенциальных источниках, как это делает Льюис Гордон (1995) в области расовая теория (см. также Bernasconi 2003).Мэтью Рэтклифф (2008) и Кевин Ахо (2019) разрабатывает экзистенциальные подходы к психопатологии. Интерес к нарративной концепции самоидентичности — для Например, в работах Чарльза Тейлора (1999), Поля Рикера, Дэвида Карр (1986), или Шарль Гиньон, уходит своими корнями в экзистенциальную пересмотр гегелевских представлений о темпоральности и его критика рационализм. Хьюберт Дрейфус (1979) разработал влиятельную критику программы искусственного интеллекта, опирающейся в основном на экзистенциалистская идея, обнаруженная особенно у Хайдеггера и Мерло-Понти, что человеческий мир, мир смысла, должен быть понят в первую очередь всего как функция наших воплощенных практик и не может быть представлена как логически структурированная система представлений.Призывая к «новому экзистенциализму», Джон Хогеланд (1998) исследовал роль экзистенциальной приверженности в научной практики как практики отслеживания истины. В метафизике Маркус Габриэль (2018) принял термин «неоэкзистенциализм» для описать ненатуралистический взгляд на разум во «вселенной» который устраняет идеалистическую «онтологическую асимметрии» в пользу точки зрения, согласно которой разум определяется как пытаются понять тот факт, что это не просто часть вселенной, и что знакомые «миры», в которых она обитает, эта борьба не составляет целого.В серии книг Майкл Гельвен (например, 1990, 1997) размышлял о различиях между экзистенциальные, моральные и эпистемологические или логические измерения опыт, показывающий, как стандарты, подходящие для каждого, переплетаются, не сводя ни к одному. Возрождение интереса к нравственности. Психология находит много писателей, которые поднимают вопрос о самоидентификацию и ответственность способами, которые напоминают экзистенциальное темы самоделки и выбора — например, Кристин Корсгаард (1996) критически обращается к понятиям «самоконституция» и «практическая идентичность»; Ричард Моран (2001) подчеркивает связь между самопровозглашением и перспектива от первого лица, которая частично вытекает из Сартр; и Томас Нагель, и Бернард Уильямс преследовали экзистенциалистская линия, связывающая смысл с конечностью нашего существование.Даже если такие писатели часто продолжают с большей уверенностью в пробным камнем рациональности, чем классические экзистенциалисты, их работа возделывает землю, впервые замеченную последним. И сегодня, как мы уже отмечали, мы можем найти всесторонние аргументы в пользу экзистенциалистской этики у таких писателей, как Уэббер и Макмаллин.
Кроме того, после многих лет выхода из моды во Франции, экзистенциальные мотивы вновь стали заметными в творчестве ведущие мыслители. Принятие Фуко определенной концепции свобода и его исследование «заботы о себе», вспомнить дебаты внутри экзистенциализма, как и работы Деррида по религия без Бога и его размышления о понятиях смерти, выбор и ответственность.По-разному трактуются книги Купер (1999) и Алан Шрифт (1995) предполагают, что переоценка Наследие экзистенциализма является важным пунктом повестки дня современная философия. На самом деле есть основания полагать, что такая переоценка в настоящее время проводится. Рейнольдс (2006), для например, завершает свое введение в экзистенциализм рассмотрение того, как постструктуралисты, такие как Деррида, Делёз и Фуко расширяет некоторые размышления Сартра, Камю и Хайдеггер, в то время как Рейнольдс (2004) делает то же самое, но более подробно, для Деррида и Мерло-Понти.Еще несколько публикаций посвящены задача привести экзистенциальную мысль в диалог с предметами на современная философская повестка дня. Эдвард Бэринг (2011) эксгумирует историческую связь между Деррида и экзистенциализмом и находит своего рода «христианский экзистенциализм» в Работа Деррида до 1952 г., следы которой просматриваются в его более поздние размышления. Сборник под редакцией Джудакена и Бернаскони. (2012) исследует исторический контекст экзистенциалистских произведений. опирается на современную критику канонизации.Феминистская мысль привело к взрыву работы, которая переоценивает Бовуара/Сартра отношения и их значение для истоков экзистенциализма себя, например, Крукс (1990, 1912), Бергофен (1997), Арп (2001), Heinämaa (2003 г.), Deutscher (2008 г.) и Simons (2013 г.). В 2011 году Появился Continuum Companion to Existentialism (Джозеф, Рейнольдс, и Woodward 2011), а затем The Cambridge Companion для Экзистенциализм (Кроуэлл 2012а). Статьи в обоих томах стремится показать систематическую актуальность экзистенциальных концепций и подходы к современной работе в философии и других областях.Как отмечает Кевин Ахо, в таких разных областях, как когнитивная наука, психиатрия, здравоохранение и экологическая философия, наследие экзистенциализма живо и здравствует» (2014: 140). Если Сама дурная слава экзистенциализма как культурного движения, возможно, препятствовало его серьезному философскому восприятию, может быть, это то, что мы нам еще предстоит многое почерпнуть из экзистенциализма.
Экзистенциализм — по ветвям / доктринам
Введение | Основные убеждения | История экзистенциализма | Критика экзистенциализмаЭкзистенциализм — это философия , которая подчеркивает индивидуальное существование , свободу и выбор .Это точка зрения, согласно которой люди определяют свой собственный смысл жизни и пытаются принимать рациональные решения несмотря на существование в иррациональной вселенной . Он фокусируется на вопросе человеческого существования и ощущении, что в основе существования нет цели или объяснения . Он утверждает, что, поскольку не существует Бога или какой-либо другой трансцендентной силы , единственный способ противостоять этому ничто (и, следовательно, найти значение в жизни) состоит в том, чтобы охватить существование.
Таким образом, экзистенциализм считает, что люди полностью свободны и должны взять на себя личную ответственность за себя (хотя с этой ответственностью приходит тревога , глубокая боль или страх). Поэтому она подчеркивает действие , свободу и решение как фундаментальные и считает, что единственный способ подняться над по существу абсурдным состоянием человечества (которое характеризуется страданием и неизбежной смертью ) — это осуществление нашей личной свободы и выбора (полный отказ от детерминизма).
Часто экзистенциализм как движение используется для описания тех, кто отказывается принадлежать к какой-либо школе мысли, отвергает адекватность какой-либо совокупности верований или систем, утверждая, что они поверхностны, академичны и далеки от жизни . Хотя экзистенциализм имеет много общего с нигилизмом, экзистенциализм является скорее реакцией на традиционные философии, такие как рационализм, эмпиризм и позитивизм, которые стремятся открыть окончательный порядок и универсальный смысл в метафизических принципах или в структура наблюдаемого мира.Он утверждает, что люди на самом деле принимают решения, основываясь на том, что имеет для них значение, а не на том, что является рациональным .
Экзистенциализм возник у философов XIX века Срена Кьеркегора и Фридриха Ницше, хотя ни один из них не использовал термин в своей работе. В 1940-х и 1950-х годах французские экзистенциалисты, такие как Жан-Поль Сартр, Альбер Камю (1913–1960) и Симона де Бовуар (1908–1986), написали научные и художественные работы, популяризировавшие экзистенциальные темы , такие как страх, скука, отчуждение, абсурд, свобода, приверженность и ничто.
В отличие от Рена Декарта, верившего в первенство сознания , экзистенциалисты утверждают, что человек «заброшен» в конкретную, застарелую вселенную, которую нельзя «мыслить», а потому существование («бытие в мире») предшествует сознанию и является конечной реальностью . Существование, таким образом, есть 90 546 до сущности 90 547 (сущность есть 90 546, означающая 90 547, которая может быть приписана жизни), вопреки 90 546 традиционным 90 547 философским воззрениям, восходящим к древним грекам.Как выразился Сартр: «Сначала [Человек] ничто. Только потом он будет чем-то, и он сам сделает то, чем он будет».
Кьеркегор рассматривал рациональность как механизм, который люди используют для противодействия своей экзистенциальной тревоге , своему страху быть в мире. Сартр рассматривал рациональность как форму «недобросовестности», попытку «я» наложить структуру на фундаментально иррациональный и случайный мир явлений ( «другой» ).Эта недобросовестность мешает нам найти смысл свободы, и ограничивает нас повседневным опытом.
Кьеркегор также подчеркивал, что люди должны выбирать свой собственный путь без помощи всеобщих, объективных стандартов . Далее Фридрих Ницше утверждал, что индивидуум должен 90 546 решить, 90 547 какие ситуации следует считать 90 546 моральными ситуациями 90 547. Таким образом, большинство экзистенциалистов считают, что личный опыт и действия на основе собственных убеждений необходимы для достижения истины , и что понимание ситуации кем-то вовлеченным в эту ситуацию превосходит это отстраненный, объективный наблюдатель (аналогично концепции субъективизма).
Согласно Камю, когда стремление человека к порядку сталкивается с отсутствием порядка в реальном мире, результатом становится абсурд . Таким образом, люди являются субъектами безразличной, двусмысленной и абсурдной вселенной , в которой смысл не обеспечивается естественным порядком , а может быть создан (пусть даже временным и нестабильным) человеческими действиями и интерпретациями .
Экзистенциализм может быть атеистическим, теологическим (или теистическим) или агностическим.Некоторые экзистенциалисты, такие как Ницше, провозгласили, что «Бог умер» и что концепция Бога устарела . Другие, как Кьеркегор, были глубоко религиозны, даже если не чувствовали себя способными оправдать это. Важным фактором для экзистенциалистов является свобода выбора верить или не верить.
Темы экзистенциалистского типа появляются в ранних буддийских и христианских сочинениях (включая работы св. Августина и св.Фома Аквинский). В 17 веке Блез Паскаль предположил, что без Бога жизнь была бы бессмысленной, скучной и несчастной, как считали более поздние экзистенциалисты, хотя, в отличие от них, Паскаль видел в этом причину существования Бога. Его почти современник, Джон Локк, защищал индивидуальную автономию и самоопределение , но в позитивном стремлении к либерализму и индивидуализму, а не в ответ на экзистенциалистский опыт.
Экзистенциализм в его ныне узнаваемой форме был вдохновлен датским философом XIX века Среном Кьеркегором, немецкими философами Фридрихом Ницше, Мартином Хайдеггером, Карлом Ясперсом (1883 — 1969) и Эдмундом Гуссерлем, а также такими писателями, как русский Федор Достоевский (1821 — 1881) и чешский Франц Кафка (1883 — 1924). Можно утверждать, что Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Артур Шопенгауэр также оказали важное влияние на развитие экзистенциализма, потому что философии Кьеркегора и Ницше были написаны в ответ или в оппозицию к ним.
Кьеркегор и Ницше, как и Паскаль до них, интересовались сокрытием бессмысленности жизни людей и использованием ими отвлечения от скуки . Однако, в отличие от Паскаля, они считали, что свободный выбор фундаментальных ценностей и убеждений играет важную роль в попытке изменить природу и идентичность выбирающего. В случае Кьеркегора получается «рыцарь веры» , возлагающий полную веру в себя и в Бога, как описано в его работе 1843 года «Страх и трепет» .В случае Ницше оклеветанный «берменш» (или «Сверхчеловек» ) достигает превосходства и трансцендентности , не прибегая к «потусторонности» христианства, в его книгах 6 «Thus Говорит Заратустра» (1885) и «По ту сторону добра и зла» (1887).
Мартин Хайдеггер был важным ранним философом движения, особенно его влиятельная работа 1927 года «Бытие и время» , хотя сам он яростно отрицал экзистенциализм в сартровском смысле.Его обсуждение онтологии уходит своими корнями в анализ способа существования отдельных человеческих существ, а его анализ подлинности и беспокойства в современной культуре делает его во многом экзистенциалистом в обычном современном понимании.
Экзистенциализм достиг зрелости в середине 20 века , в основном благодаря научным и вымышленным произведениям французских экзистенциалистов Жана-Поля Сартра, Альбера Камю (1913 — 1960) и Симоны де Бовуар (1908 — 1986). Морис Мерло-Понти (1908–1961) — еще один влиятельный и часто упускаемый из виду французский экзистенциалист того периода.
Сартр, пожалуй, самый известный , а также один из немногих, кто действительно принял прозвище «экзистенциалист». «Бытие и ничто» (1943) является его самым важным произведением, а его романы и пьесы, в том числе «Тошнота» (1938) и «Выхода нет» (1944),46 помогали популяризировать движение.
В «Мифе о Сизифе» (1942) Альбер Камю использует аналогию греческого мифа о Сизифе (который обречен на вечность катить камень в гору только для того, чтобы он катился к земле). каждый раз внизу), чтобы проиллюстрировать бессмысленность существования, но показывает, что Сизиф в конце концов находит смысл и цель в своей задаче, просто постоянно прилагая к ней себя.
Симона де Бовуар, видный экзистенциалист, проведшая большую часть жизни рядом с Сартром, писала о феминистской и экзистенциальной этике в своих работах, в том числе «Второй пол», (1949) и «Этика двусмысленности». (1947).
Хотя большинство считает Сартра выдающимся экзистенциалистом, важным и самостоятельным философом-новатором, другие менее впечатлены его вкладом. Сам Хайдеггер думал, что Сартр просто взял его собственную работу и регрессировал ее обратно к субъектно-объектной философии Декарта и Гуссерля, от которой Хайдеггер пытался освободить философию.Некоторые считают Мориса Мерло-Понти (1908–1961) лучшим экзистенциалистским философом, особенно за то, что он включил тело как наш способ существования в мире, а также за его более полный анализ восприятия (две области). в котором работа Хайдеггера часто рассматривается как несовершенная ).
Герберт Маркузе (1898 — 1979) подверг критике экзистенциализм, особенно сартровское «Бытие и ничто», за то, что проецирует некоторые черты жизни в современном угнетающем обществе (такие черты, как тревога и бессмысленность) на природу само существование .
Роджер Скратон (1944 — ) утверждал, что как концепция недобросовестности Хайдеггера, так и концепция недобросовестности Сартра являются самопротиворечивыми , в том смысле, что они отрицают какое-либо универсальное моральное кредо, хотя и говорят об универсальной моральной вере. понятия, как будто все обязаны их соблюдать .
Логические позитивисты, такие как А. Дж. Айер и Рудольф Карнап (1891 — 1970), утверждают, что экзистенциалисты часто путаются из-за глагола «быть» (который бессмысленен, если используется без сказуемого) и из-за слова «ничто» (что является отрицанием существования и, следовательно, не может считаться относящимся к чему-то ).
Марксисты, особенно в послевоенной Франции, обнаружили, что экзистенциализм идет вразрез с их акцентом на солидарности человеческих существ и их теорией экономического детерминизма . Далее они утверждали, что акцент экзистенциализма на индивидуальном выборе ведет к созерцанию , а не к действию, и что только буржуазия имеет роскошь сделать себя тем, чем она является посредством своего выбора, поэтому они считали экзистенциализм буржуазным философия .
Христианские критики жалуются , что экзистенциализм изображает человечество в наихудшем свете , упуская из виду достоинство и благодать , происходящие от того, что они созданы по образу Бога . Кроме того, согласно христианским критикам, экзистенциалисты не могут объяснить моральное измерение человеческой жизни и не имеют основы этической теории, если они отрицают, что люди связаны заповедями Бога .С другой стороны, некоторые комментаторы возражали против продолжающейся поддержки Кьеркегором христианства, несмотря на его неспособность эффективно оправдать его.
В более общих чертах, обычное использование псевдонимов в экзистенциалистских произведениях может создать впечатление, что авторы не желают владеть своими идеями и путают философию с литературой .
мифов о продуктах; оценочная карта основателя; Экзистенциальный вопрос о стартапе
Привет, я Сара, и это 171-й выпуск Femstreet, еженедельного информационного бюллетеня, в котором публикуются обязательные к прочтению материалы женщинами-руководителями, операторами и инвесторами.Я стараюсь сделать это письмо одним из лучших, которые вы получаете каждое воскресное утро. Мы чествуем женщин каждую неделю, но поскольку эта неделя особенная, потому что завтра состоится IWD, вы можете получить скидку 21% за наше годовое членство.
Предложение Femstreet IWD
InsightsОстановите сбор средств, начните растиМэри Микер расширяет свою империю и закрывает второй фонд Bond Capital в размере $2 млрд. Сестры-близнецы Анна и Мизуки Накадзима набрали баллов на самом популярном в Японии IPO , создав игры для женщин. Мария Саламанка становится партнером Unshackled Ventures. Взрывной (и инклюзивный) потенциал NFT в творческом мире. И как создать и продать свой первый NFT. Несколько суровых истин о том, как стать венчурным капиталистом . First Boulevard привлекает 5 миллионов долларов для своего цифрового банка , предназначенного для черной Америки. Бренд «Постпандемический». Что на самом деле имеют в виду венчурные капиталисты, когда отказываются от стартапа из-за очень переполненного рынка. Тасунда Браун Дакетт () станет второй чернокожей женщиной-генеральным директором в списке Fortune 500.Кристен Сондей объявляет о выпуске LongJump VC для поддержки недостаточно представленных идей и основателей. Да, наступила эра аудиосоздателей . Хорошая история о девушке и компьютере .
DRVE инвестирует в амбициозные бренды, чтобы увеличить онлайн-доходы, сочетая умный капитал, системы и опыт.
Поскольку их инвестиционная программа снижает риски расходов на платный маркетинг для масштабирования онлайн-продаж, вы также получаете доступ к последующим инвестициям, опыту, каналам и сетям от одного партнера по развитию, чтобы поднять свой бренд на новые высоты на разных рынках.Портфолио DRVE включает в себя глобальные компании из секторов потребительских товаров, стиля жизни, предметов роскоши, электроники, Интернета вещей и красоты.
Узнайте больше об их инвестиционной программе быстрого роста здесь.
От инвестораСбор средств без YC
Ключом к любому успешному сбору средств является создание импульса среди инвесторов. Вы не хотите назначать много встреч, но не определились, сколько вы хотите собрать или по какому пределу оценки. В пошаговом руководстве Холли Лю расскажет, как лучше всего подготовиться… Подробнее.
«Китайский Shopify»
Назовите его? Youzan с текущей рыночной капитализацией в 6,4 миллиарда долларов сейчас находится на пересечении нескольких китайских технологических тенденций; рост частного трафика в электронной коммерции, принуждение китайских предприятий платить за программное обеспечение и то, как владеть воронкой. Лилиан Ли рассказывает о своих продуктах и о том, почему Youzan поразительно похож на Salesforce..… Подробнее.
Нишевые сообщества и пространства никуда не денутся
Наша социальная жизнь переходит от IRL к URL, и каждая виртуальная платформа становится социальным сообществом. Создатели отказываются от доходов от рекламы и вместо этого сосредотачиваются на своей самой активной аудитории с помощью VIP-членства. Сесилия Мандука из Talis Capital исследует различные места, где люди общаются в Интернете, и почему мы наблюдаем легитимацию нишевых сообществ и пространств… Подробнее.
Основатель, оценочная карта генерального директора
На какие сигналы обращают внимание инвесторы при оценке начинающего основателя в начале своей карьеры? Магнетизм, Git & давка, Владение фактами и многое другое. Энн Бордетски из NEA о том, что она ищет в основателе или генеральном директоре, не оценивая логотипы компании на их Linkedin… Подробнее.
Femstreet IWD Speical
Мы чествуем женщин каждую неделю, но, поскольку эта неделя особенная, потому что завтра состоится IWD, вы можете получить скидку 21% за наше годовое членство.
Хотя этот информационный бюллетень всегда будет бесплатным, членство за 79 долларов США в год поможет вам максимизировать операции и сбор средств с помощью:
Доступ к нашей частной сети сообщества в Slack Ваш почтовый ящик каждые пятница
ежемесячные сетевые сетевые секции
, только для участников, таких как наш оператор Ocean
Эксклюзивные сбережения на программных инструментах
Получить 21% скидка на 1 год
0
«Многое из этого мышления также применимо к другим взаимодействиям с вашими пользователями, переходя в мир «опыта разработчиков» (т.е. насколько легко разработчику добиться успеха с вашим продуктом) — поставив пользователя на первое место, вы все равно создадите множество благотворных циклов.
Независимо от того, какова ваша миссия, я призываю вас спрашивать не о том, что ваше сообщество может сделать для вас, а о том, что вы можете сделать для своего сообщества».
Клэр Кэррол рассказывает о том, как она построила очень успешное сообщество Dbt, и о главной причине успеха — быть на миссии!… Подробнее.
Мифы о продуктах, которые сдерживают вас
«Рынок > продукт», «Конкуренция может быть положительной суммой», «Удержание недооценивается» Линда З., бывший руководитель группы на выставке Faire, надеюсь, изменит ваше мнение хотя бы в одном отношении. строительные изделия.… Подробнее.
Диагностика с данными. Относитесь к дизайну.
Как правило, мы, люди, руководствуемся интуицией, рудиментарным способом сопоставления с образцом. Во многих случаях этого недостаточно. Данные могут сказать вам, что происходит, но не то, что с этим делать. Подход к этому с точки зрения дизайна означает, что как только вы поймете, что происходит в деталях, вы сможете разработать решение. Джули Чжо из Inspirit о том, почему строители — это дизайнеры… Подробнее.
7 причин не присоединяться к стартапу и 1 причина
Вы заканчиваете учебу и думаете о том, чтобы присоединиться к стартапу или оставить корпоративный мир позади? Чип Хьюен, ранее работавший в NVIDIA и Netflix, дает несколько советов тем, кто пытается решить, стоит ли идти на этот шаг… Подробнее.
«Нет плохих идей. Есть только ранние идеи… Все они сбудутся. Я убедился … Каждый умный человек, который приходит сюда с сумасшедшей идеей, в какой-то момент все это произойдет.Все они произойдут. Вопрос только в том, когда».
— Марк Андриссен
Почему сейчас? Экзистенциальный вопрос стартапа, примененный к жизни
Как основателю, важно ответить на вопрос «Почему сейчас?». Мика Рейес объясняет, как вы можете снизить риск своей компании «почему сейчас» и что следует учитывать, когда вы «почему сейчас» определяете свою жизнь… Подробнее.
Diem, новая платформа для женских сообществ и живых бесед, предлагает целый ряд мероприятий в течение дня.Присоединяйтесь к экспертам в предметной области, меняющим статус-кво (, включая доктора Кэти Кук, Кирсти Годсо и Дженни Филдинг ).
Мероприятия варьируются от медитации в прямом эфире до откровенных разговоров о повышении вашего первого раунда.
Загрузить Diem здесь
Возможности Менеджер по продукту @Grapy (Remote)
Graphy стремится переосмыслить то, как команды работают с данными. Если у вас есть более чем 3-летний опыт работы менеджером по продукту и подтвержденный опыт доставки эффективных продуктов, Apple здесь.
Talent and Portfolio Development @Northzone (Нью-Йорк и Лондон)
Компания Northzone, основанная в 1996 году, на сегодняшний день привлекла девять средств и инвестировала в более чем 150 компаний, включая такие определяющие категории компании, как Spotify, Hopin, Klarna и Kahoot! Мы ищем двух суперзвезд, которые помогут нам расширить нашу сеть талантов и операторов. Подайте заявку здесь на роль в NYC или London.
Наши читатели — это глобальные и все более разнообразные читатели, амбициозные профессионалы, предприниматели и лица, принимающие решения.
Я создал спонсорскую колоду для тех, кто хочет сотрудничать с нами в 2021 году.
Обратитесь к нашему сообществу молодых бизнес-профессионалов и лиц, принимающих решения, и расскажите свою историю через источник, которому доверяют наши читатели, через рекламные объявления, вакансии публикации и присоединяйтесь к нашему списку эксклюзивных предложений сообщества.
Работа с Femstreet
Если вы пропустили Увидимся на следующей неделе 👋Комментарии, вопросы, советы или сбор стартового капитала? Отправьте мне сообщение
Автор: Сара Некель, посевной инвестор в Northzone.Родился в Германии. Базируется в Лондоне. Вы можете найти меня в другом месте в Twitter и Instagram.
Книги 2017: уроки на сегодня от основоположников экзистенциализма
Александра ХолландКнига: В экзистенциалистском кафе: свобода, бытие и абрикосовые коктейли
Автор: Сара Бейкуэлл
Обзор: Александра Холланд , иммиграционный адвокат в Ogletree Deakins
Возможно, я возвращаюсь к этой книге много раз в жизни.На самом деле, я прочитал его дважды в этом году, потому что он настолько полон философского понимания и биографической интриги, что невозможно охватить все его богатство за один раз.
В экзистенциалистском кафе ведет хронику развития современного экзистенциализма от его корней в немецкой феноменологии начала 1930-х годов до его продолжающегося влияния на современную поп-культуру сегодня. Вместо сухого, академического подхода к философской дискуссии Бейкуэлл рассказывает действительно увлекательную, переворачивающую страницы историю повседневной жизни основных экзистенциалистских мыслителей той эпохи.В то время как основное внимание уделяется жизни и идеям Мартина Хайдеггера и Жана-Поля Сартра, эти профили служат лишь основой для яркого портрета Бейкуэлла целой компании философов и их индивидуального опыта в бурной Европе середины 20-х годов. столетие сформировало их уникальные философские идеологии.
Очевидна глубина исследования Бейкуэллом дневников, мемуаров и личной переписки Хайдеггера, Сартра и Симоны де Бовуар, среди прочих.Она мастерски использует эти первоисточники, дополненные рассказами из вторых рук, чтобы описать в захватывающих деталях то, как каждый из великих экзистенциалистов пытался, преуспел и довольно часто не смог использовать свои собственные развивающиеся идеи свободы, бытия и подлинности в своих взаимодействиях. друг с другом и их связь с миром.
Читатели переносятся в парижские кафе и университетские лекционные залы, где формулировались и обсуждались экзистенциалистские идеи.Мы видим, как Хайдеггер изо всех сил пытается отречься от своих симпатий к нацистам и в конечном итоге удаляется на свою уединенную «полянку в лесу». Мы наблюдаем, как Сартр безуспешно пытается защитить коммунизм с помощью экзистенциализма. Мы наблюдаем, как ранний роман Бовуара с Сартром перерастает в пожизненное партнерство, основанное на личной свободе, взаимной страсти и горячей политической активности. Мы видим взлеты и падения большой дружбы Сартра и Бовуара с Альбером Камю, Морисом Мерло-Понти и Раймоном Ароном, поскольку они расходятся во мнениях по ценностям, политике и редакционным позициям.Мы видим, как французские философы переживают немецкую оккупацию, а немецкие философы терпят поражение.
Экзистенциалистские идеи свободы и гуманизма подпитывали основные социальные движения века за феминизм, права геев, антирасизм, антиклассизм и антиколониализм, поскольку они распространялись через оккупированную Германией Францию, послевоенную Европу, алжирские и чешские войны за независимость, эра американских гражданских прав и холодная война. Изучая жизнь, выбор и развитие философии экзистенциалистов в эти периоды, мы задаем важные вопросы о нашей собственной жизни в 21 веке: как технологический прогресс повлияет на нашу личную свободу и неприкосновенность частной жизни? Как социальные и исторические конструкции пола продолжают влиять на наше взаимодействие с другими? Каким образом наши личные ценности призывают нас к политическим и социальным действиям и как мы разрешаем конфликты, которые неизбежно порождаются нашими ценностями? Можем ли мы оставаться друзьями с теми, чья система верований заметно отличается от нашей? Сколько нашей индивидуальной аутентичности теряется в мире смартфонов и социальных сетей, потребительства и корпоративной жадности, политической апатии и религиозного экстремизма?
Ни Бейкуэлл, ни философы, о которых она пишет, не могут успокоить тревогу, вызванную этими вопросами и многими случайностями жизни.Если у нас остается одно утешение от изучения жизни и идей экзистенциалистов, так это то, что, хотя человеческое существование исключительно ошибочно, мы, как личности, обладаем огромным потенциалом. Наша жизнь — это то, что мы решили сделать из нее, и такая ответственность несет в себе огромный вес и бесконечные возможности.
Сократовский перекрестный допрос экзистенциализма и человеческих эмоций Питера Крифта
Встреча Сократа с Сартром представляет собой краткое ясное исследование атеистического экзистенциализма Сартра; однако его следует читать критически, чтобы недостатки письма не мешали пониманию философии.Крифт — католический богослов и философ, поэтому он пишет о философии, которая расходится с его собственной. К сожалению, он часто вкладывает критику ad hominem в уста Сократа в своем воображаемом диалоге между двумя философами. На первой странице Крефт говорит, что «Sar
Socrates Meets Sartre » представляет собой краткое, ясное исследование атеистического экзистенциализма Сартра; однако его следует читать критически, чтобы недостатки письма не мешали пониманию философии.Крифт — католический богослов и философ, поэтому он пишет о философии, которая расходится с его собственной. К сожалению, он часто вкладывает критику ad hominem в уста Сократа в своем воображаемом диалоге между двумя философами. На первой странице Крифт говорит, что Сартр «скулит, как больной щенок. Он дуется и прихорашивается, как непослушный подросток». Крифт называет его снобом, называет его слепоту «уродливыми глазами» и говорит, что он «почти так же лишен чувства юмора, как феминист».
Лично меня как феминистку, отвергающую платонические идеалы мужчины и женщины, бесили многочисленные сексистские заявления Крифта.Основываясь на сомнительной интерпретации сочинений Сартра, Крифт обвиняет Сартра в том, что он «величайший шовинист-мужчина в истории философии». Тем не менее именно Крифт характеризует мужчин как метафизически активных, а женщин как восприимчивых на основании их физических репродуктивных органов. К его чести, однако, Крефт заставил Сартра возразить этой точке зрения, объяснив, что в философии Сартра мужские и женские архетипы не существуют метафизически. Этот обмен диалогами заканчивается тупиком.
Хотя эта книга помогла лучше понять философию Сартра, из-за ее недостатков я могу рекомендовать ее только вдумчивым и внимательным читателям.
Факты об экзистенциализме для детей
Экзистенциализм — это философский образ мышления. Он видит людей с волей и сознанием как находящихся в мире объектов, не обладающих этими качествами. Экзистенциализм заключается в том, что люди осознают свою смертность и должны принимать решения относительно своей жизни.
Основан датским философом Сёреном Кьеркегором (1813–1855). В своем развитии в 20 веке это была атеистическая философия, хотя основатель экзистенциализма Сёрен Кьеркегор был глубоко религиозным человеком.Большинство его главных мыслителей и писателей жили в Европе. Сартр, например, провел большую часть Второй мировой войны в немецком лагере для военнопленных, читая философию Хайдеггера. Когда он вышел, он прочитал лекцию под названием Экзистенциализм и гуманизм . Эта ранняя лекция может быть легче читать, чем его более поздние работы.
Многие религии и философии (способы мышления о мире) говорят, что человеческая жизнь имеет смысл (или цель). Но люди, верящие в экзистенциализм, думают, что мир и человеческая жизнь не имеют смысла, если люди не придают им смысла : «существование предшествует [предшествует] сущности».Это означает, что мы обнаруживаем, что существуем в мире, а затем придаем себе значение или «сущность». Как говорил Сартр, «мы обречены быть свободными». Это означает, что у нас нет другого выбора, кроме как выбирать, и что мы несем полную ответственность за свой выбор.
Экзистенциалисты верят, что наша человеческая «сущность» или «природа» (способ существования в мире) — это просто наше «существование» (бытие в мире). Проще говоря, «сущность» человека или то, что делает человека «человеком», определяется не природой или неконтролируемыми обстоятельствами; скорее, человеческая сущность — это именно то, что мы решили сделать.Это означает, что единственная природа, которую мы, люди, имеем, — это природа, которую мы создаем для себя. В результате этого экзистенциалисты считают, что действия или выбор, который делает человек, очень важны. Они считают, что каждый человек должен сам решать, что правильно и что неправильно, что хорошо, а что плохо.
Люди, верящие в экзистенциализм, задаются вопросами типа «каково быть человеком (человеком) в мире?» и «как мы можем понять человеческую свободу (что значит для человека быть свободным)?» Экзистенциализм часто связан с негативными эмоциями, такими как тревога (беспокойство), страх (очень сильный страх) и смертность (осознание собственной смерти).
Экзистенциализм иногда путают с нигилизмом. Он отличается от нигилизма, но есть сходство. Нигилисты считают, что человеческая жизнь вообще не имеет смысла (или цели); Экзистенциализм говорит, что люди должны сами выбирать себе цель.
Изображения для детей
Кто является основоположником теории экзистенциализма? – dengenchronicles.com
Кто является основоположником теории экзистенциализма?
Европейский философ Сёрен Кьеркегор считается одним из первых философов экзистенциальной теории.Фридрих Ницше и Жан-Поль Сартр последовали за ним и развили идеи.
Что значит экзистенциальный в философии?
философское движение, подчеркивающее уникальное положение человека как самоопределяющегося агента, ответственного за осмысленный, подлинный выбор во вселенной, рассматриваемой как бесцельная или иррациональная: экзистенциализм особенно ассоциируется с Хайдеггером, Ясперсом, Марселем и Сартром и противостоит философский …
Сорен Кьеркегор был женат?
Но ему потребовалось десять лет, чтобы получить степень, и он так и не стал пастором или имел какую-либо другую работу.Он никогда не женился и не имел детей. За исключением нескольких посещений Берлина, тогдашней столицы философии, и одной поездки в Швецию, Кьеркегор никогда не покидал Данию.
Как гуманистическая экзистенциальная теория способствует личностному росту?
Он способствует личностному росту, уделяя больше внимания тому, что текущая реальность предлагает каждому человеку. Затем, выискивая определенные шаблоны и находя способы их изменения, становится возможным достичь большего, чем если бы эти шаблоны не анализировались.Это помогает каждому найти свой смысл жизни.
Как экзистенциальная теория используется в терапии?
Итак, экзистенциальная теория есть, по сути, дальновидная философия. Экзистенциальная теория признает сложность принятия важных жизненных решений. Терапевты, применяющие эту теорию, признают, что противоречивые идеи будут существовать почти в каждой ситуации. Они также помогают вам найти способ принять основные жизненные парадоксы и конфликты.
Кто был первым философом экзистенциальной теории?
Экзистенциальная теория – это многовековая философия.Он включает в себя личную свободу и выбор. Он утверждает, что люди сами выбирают свое существование и смысл. Европейский философ Сёрен Кьеркегор считается одним из первых философов экзистенциальной теории.
Почему личность важна в экзистенциальной теории?
Личная идентичность — важный вопрос экзистенциальной теории.

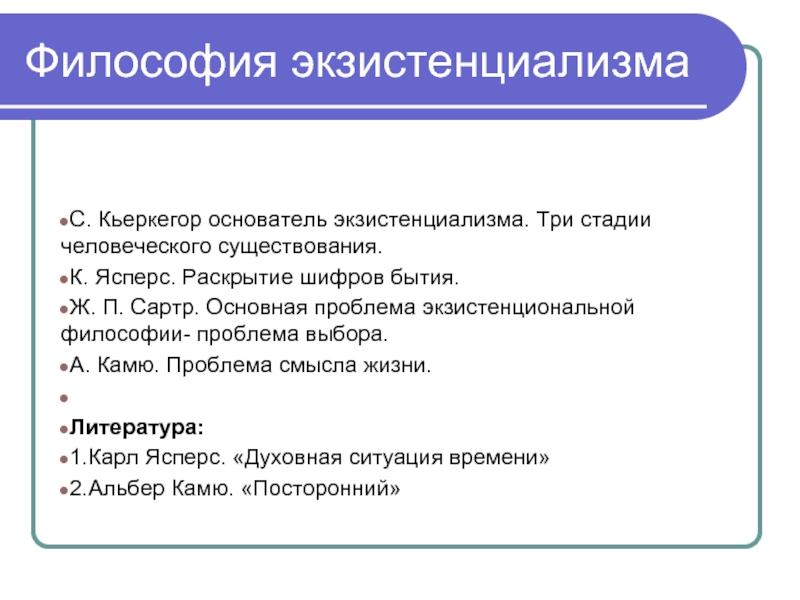 Чтобы расти, человек должен взять на себя ответственность, т.е. стать автором собственного выбора, действий и жизни. Тем не менее многие люди стремятся к свободе, пытаясь избежать ответственности.
Чтобы расти, человек должен взять на себя ответственность, т.е. стать автором собственного выбора, действий и жизни. Тем не менее многие люди стремятся к свободе, пытаясь избежать ответственности.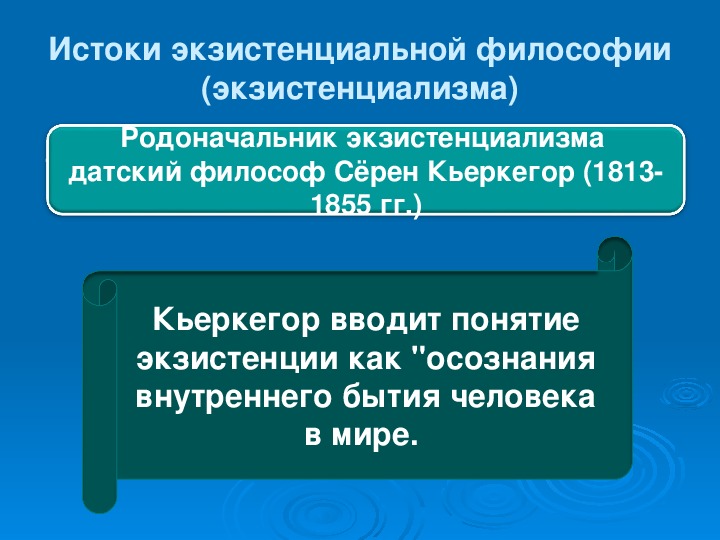
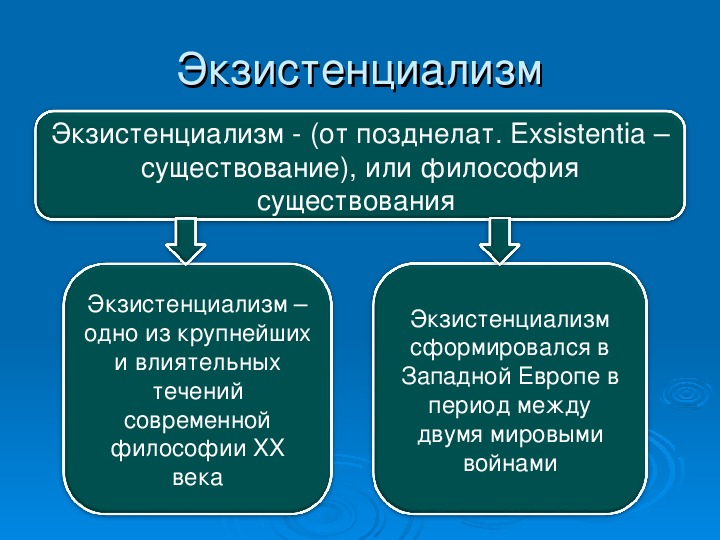 Existentialism: basic writings / Charles B. Guignon, Derk Pereboom. — Hackett Publishing, 2001. — P. xiii. — ISBN 9780872205956.
Existentialism: basic writings / Charles B. Guignon, Derk Pereboom. — Hackett Publishing, 2001. — P. xiii. — ISBN 9780872205956.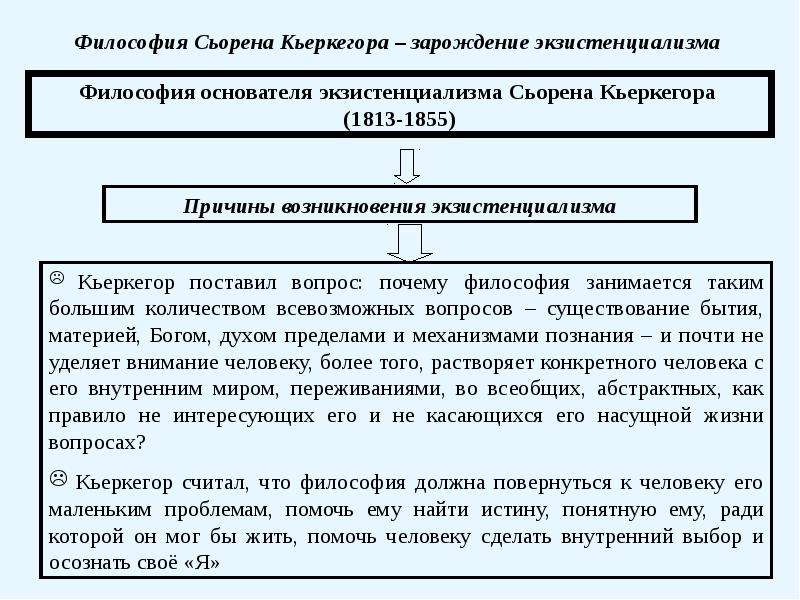 — М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 64-65.
— М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 64-65.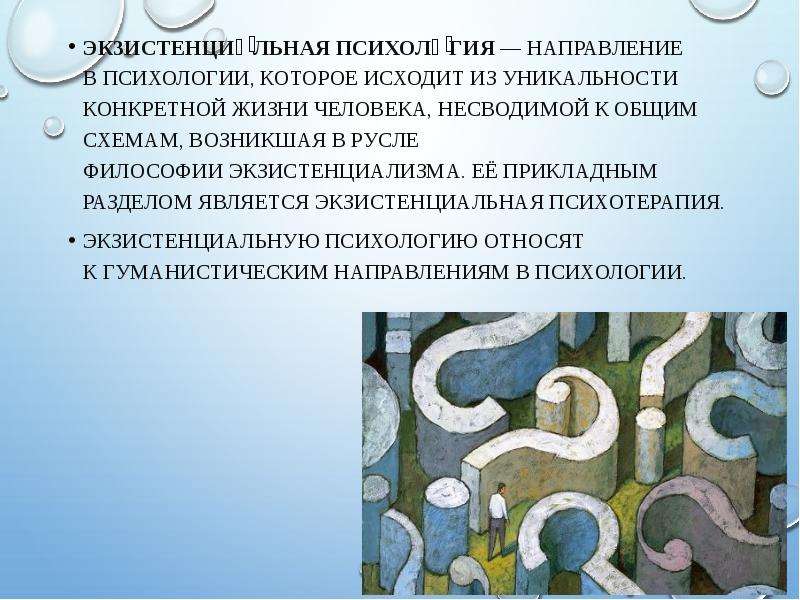 История и философия науки : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев. — М. : Проспект, 2014. — 432 с. — ISBN 978-5-392-13218-8
История и философия науки : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев. — М. : Проспект, 2014. — 432 с. — ISBN 978-5-392-13218-8