Бессознательное в психике человека: Бессознательное — Гуманитарный портал
Бессознательное психическое и творческий процесс
Творчество — высшая и наиболее сложная форма психической деятельности, отсюда — важность разработки вопроса о роли бессознательного в структуре художественного творчества и восприятия не только для психологии искусства, но и для исследования других видов психической деятельности. Как указывается во вступительной статье к шестому разделу второго тома «Бессознательное», соучастие неосознаваемой психической деятельности в процессе художественного творчества — факт реальный и настолько важный, что без учета его невозможно раскрытие ни психологических процессов творчества, ни психологической структуры художественного образа. Художественное творчество — особая форма обобщенного отражения действительности, говорящая на специфическом языке, и раскрыть своеобразие языка искусства невозможно без обращения к проблеме бессознательного, без учета закономерностей его деятельности. В акте творчества существует опора на бессознательное, которая обеспечивает художнику специфическую остроту видения, но бессознательное — лишь соучастник творческого процесса и может функционировать только в системе сознание-бессознательное, поэтому то, что утверждает произведение искусства, определяется не бессознательным и не сознанием, а личностью художника, включающей и ею сознание и его бессознательное.
Н. Я. Джинджихашвили ТА. Флоренская ставят вопрос о природе катарсиса, имеющий непосредственное отношение к обсуждаемой проблеме.
В статье Н. Я. Джинджихашвили «К вопросу о психологической необходимости искусства» заново осмысливается идея социологизации Потребности катарсиса, предложенная Фрейдом. В отличие от своих Предшественников, Фрейд социологизировал потребность катарсиса, но определял ее лишь как средство компенсации нереализованных потребностей, а в искусстве видел способ иллюзорного примирения принципа реальности и принципа удовольствия, сузив тем самым познавательно-преобразовательную роль искусства.
Н. Я. Джинджихашвили предлагает заменить понятие «компенсации» понятием «выравнивания» сознания с бытием, которое обозначает более широкое и диалектическое взаимодействие сознания и реальности и которое он называет «балансорной установкой сознания». Он различает пассивный и активный виды балансорной установки: пассивный подразумевает сугубо галлюцинаторное удовлетворение психики и выражается в замещении реальности грезой, галлюцинацией; она обусловлена состоянием эмоционального дефицита; активный дополнительно включает в себя эффект «отрезвления» от галлюцинаций и направлен на преобразование реальности. Удовлетворение балансорной установки сознания, ее активной формы, обеспечивается в искусстве, которое, в отличие от чисто игровой деятельности, не ограничивается устранением эмоционального дефицита, галлюцинаторной «отработкой чувств», но в конечном счете всегда направлено на преобразование самой реальности.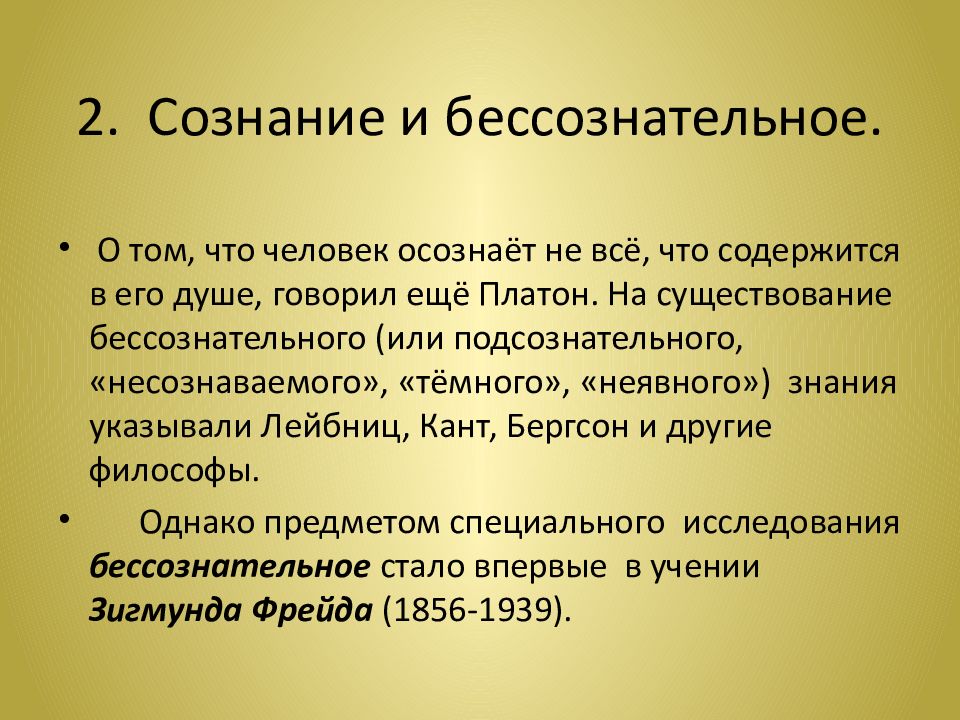
В статье Т. А. Флоренской «Катарсис как осознание (Эдип Софокла и Эдип Фрейда)» предпринята попытка на материале трагедии Софокла противопоставить катарсис как «расширение границ индивидуального сознания» психоаналитическому толкованию катарсиса. Вызывает возражение основной тезис этой статьи: «Катарсис — это осознание, но не в смысле фрейдовского погружения в низины подсознательного. Это — расширение границ индивидуального сознания до всеобщего».
Но «расширение границ индивидуального сознания до всеобщего» не может осуществиться без погружения в «низины» нашей психики, нашего бессознательного, ибо именно благодаря этому погружению совершаются познавательные процессы в акте художественного творчества и происходит синтез, являющийся результатом обобщения сугубо личного опыта с объективным общечеловеческим опытом.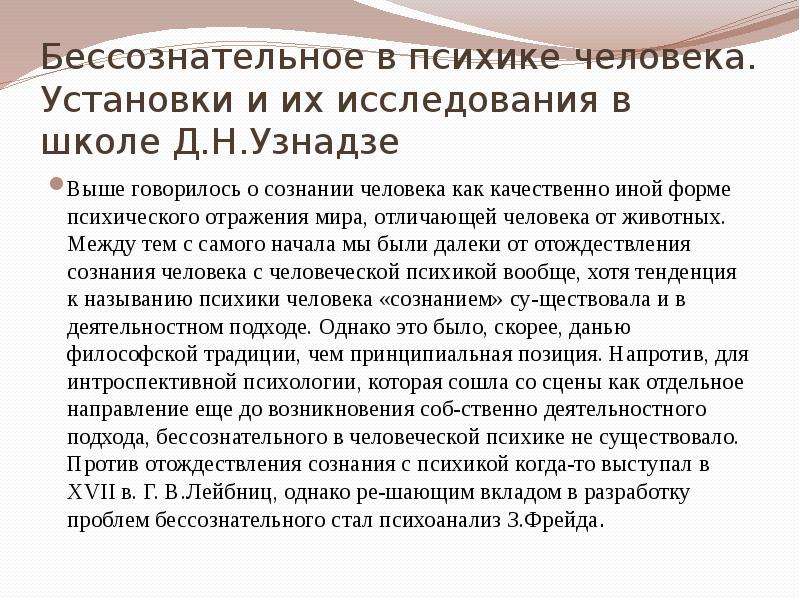 Это и создает познавательно преобразовательную значимость искусства. Без учета специфики психических процессов совершающихся на уровне бессознательного, проблема катарсиса не может быть решена.
Это и создает познавательно преобразовательную значимость искусства. Без учета специфики психических процессов совершающихся на уровне бессознательного, проблема катарсиса не может быть решена.
В статье Т. А. Флоренской содержится замечание о том, что метод Фрейда сосредоточен на осознании бессознательного и мало касается последующей работы с осознанными влечениями и что Фрейд не указывает, каковы методы сублимации.
Следует сказать, что при психоанализе психосинтез происходит спонтанно, без специальных методов и приемов, как завершение познавательных процессов. Осознание бессознательного ведет к перестройке психологических установок личности. Не существует также специальных методов сублимации, ибо сублимация является естественным результатом синтеза, без синтеза сублимация
В статье ставится вопрос: всегда ли возможно направить энергию инстинктов на другие цели, и почему это возможно? Принципиально не исключено, по мнению автора, что «Джинн, вырвавшийся из бутылки, может не захотеть нового пленения» и освобожденные инстинкты овладевают личностью: либо приведут ее к полной дезорганизации, либо перестроят сознание «сообразно своему характеру».
В качестве Джинна, вырвавшегося из бутылки, неосознаваемые влечения проявляют себя в психозах и неврозах, создавая дезорганизацию психики и импульсивное поведение. При психоанализе эти инстинктивные влечения постепенно опосредуются сознанием и осознание их продолжается до тех пор, пока они полностью не включатся в нормальную работу психики. Соответственно переключается и их психическая энергия, поэтому они не могут в процессе опосредования овладеть сознанием и «перестроить» его «сообразно своему характеру». Инстинктивные влечения направляются на сознательные цели, т. е. сублимируются, при правильной методике и технике анализа бессознательного, недостаточное овладение ею, кустарщина в лечении неврозов может давать нервные срывы, т. н. ятрогении.
Статья Э. А. Вачнадзе ставит на обсуждение очень интересный вопрос о сходстве и различии между сюрреализмом и патологическим художеством. Вопрос сам по себе не нов: им занимались и психиатры и искусствоведы, нова попытка подойти к нему с точки зрения психологии установки Д.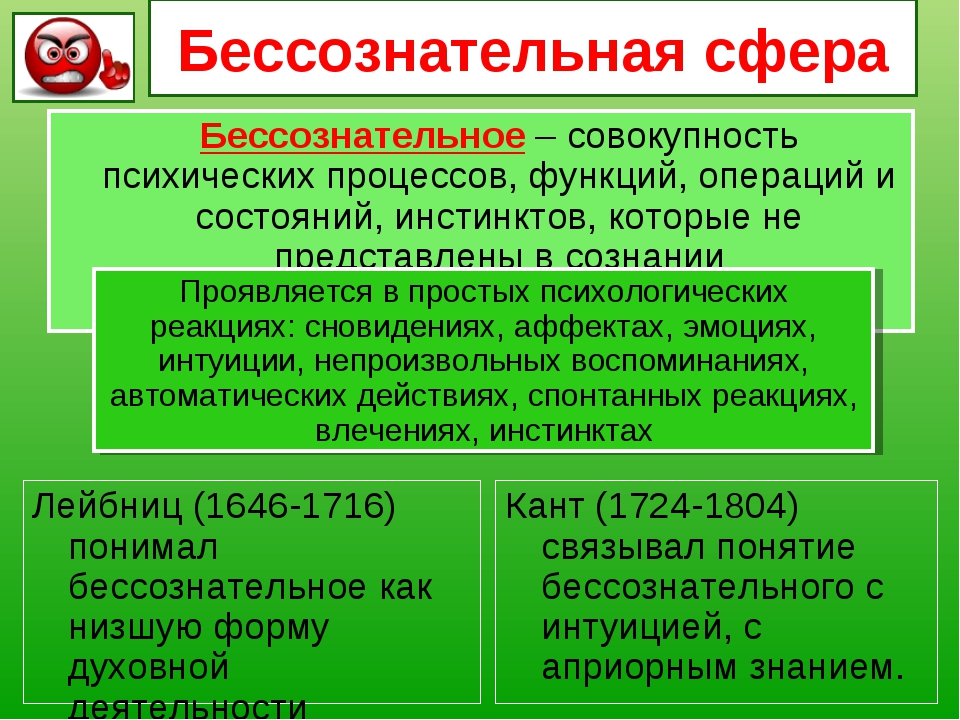 Н. Узнадзе.
Н. Узнадзе.
Сюрреализм и художество психотиков объединяет символическое выражение, которое создается сгущением (агглютинация), алогичностью и другими процессами, характерными для закономерностей функционирования бессознательного. Творческая продукция обоих видов художества отличается интенсивностью непосредственного выражения бессознательного, говорит на его «языке», подчиняется его «особой логике». Различие между ними заключается в самой сущности продукции: художник-сюрреалист творит произведение искусства, психотик же создает нагромождение символических образов, выражающих его бредовое состояние и не имеющих художественной ценности.
В своем сопоставительном анализе Э. А. Вачнадзе исходит из учения Д. Н. Узнадзе о наличии в психике человека двух планов психической деятельности, плана импульсивного поведения и плана объективации; иерархическая связь между ними обусловливает адекватную структуру поведения, нарушение этой связи приводит к патологии. По мнению Э, А.
К статье Э.А. Вачнадзе мы хотели бы прибавить следующее. Чтобы ответить на вопрос о том, благодаря чему психика сюрреалистов при чрезмерной активности бессознательного сохраняет, в отличие от психотиков, способность к познавательным процессам, ее недостаточно сравнивать с психозами, но следует также сравнивать с т. н. неврозами перенесения — истерией и неврозом навязчивости. Патология неврозов перенесения заключается в том, что находящиеся в вытеснении, иногда давно забытые, переживания активизируются, но не объективируются и потому проявляют себя в сознании символически — в форме симптомов, симптомокомплексов, фобий, и конверсии, запретов и навязчивых действий, но при этом у субъекта сохраняется к ним критическое отношение и осознание реальности. Когда и при психоанализе эти бессознательные содержания осознаются, психическая норма восстанавливается.
В ряде статей предпринята попытка дать анализ бессознательного психического в структуре художественного произведения, т. е. ввести его в практику литературоведческого исследования.
В статье Р. Г. Каралашвили дан тонкий анализ произведений Г. Гессе. Автор совершенно правомерно увязывает творчество Г. Гессе с его жизненным опытом и духовным формированием его личности, ссылаясь при этом на высказывания самого писателя, имеющие важное значение для понимания не только его собственного творчества, но и творческого процесса как такового. Г. Гессе сравнивал функцию искусства с функцией исповеди, а само искусство считал длинным, многообразным, извилистым путем самовыражения личности художника. Психоанализ вошел в жизненный опыт Г. Гессе, и Р. Г. Каралашвили рассматривает его художественные произведения как документацию самопознания и самовыражения, а его творчество как непрерывный процесс осознания таинственных бездн собственного бессознательного.
Психоанализ вошел в жизненный опыт Г. Гессе, и Р. Г. Каралашвили рассматривает его художественные произведения как документацию самопознания и самовыражения, а его творчество как непрерывный процесс осознания таинственных бездн собственного бессознательного.
Очень интересно понимание самим Г. Гессе природы и функции художественного персонажа. В романе «Степной волк» он пишет, что никакое «я» не являет собой единства, но всякое «я» представляет собой множество: эта многоликость души выражается писателем в персонажах произведения, на которые следует смотреть не как на независимые существа, а как на части, стороны, разные аспекты души писателя. Соответственно интерпретирует творчество Г. Гессе и автор разбираемой статьи: «… персонажи в романах и повестях позднего Гессе являются не отдельными и независимыми личностями, не суверенными литературными образами, а знаками-символами, репрезентирующими те или иные стороны души автора».
Представленный в статье анализ творчества Г.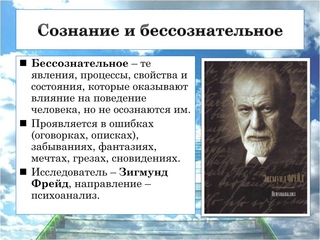 Гессе свидетельствует о том, что некоторые положения аналитической психологии Юнга — при подходе к ней с позиций диалектического материализма — могут быть использованы при комплексном изучении художественного творчества.
Гессе свидетельствует о том, что некоторые положения аналитической психологии Юнга — при подходе к ней с позиций диалектического материализма — могут быть использованы при комплексном изучении художественного творчества.
В статье Д. И. Ковды рассматривается весьма важный и мало разработанный в научной литературе вопрос о роли эмоций в творческом процессе. Автор совершенно правомерно увязывает эмоции со сферой бессознательного, где они объединяют ряды представлений и регулируют их течение; скрытые мотивы и личностные интересы оказывают влияние на осознанные переживания и обусловливают целостную психическую реакцию субъекта, которая определяет и направляет воображение и фантазию. Автор объясняет природу творческой фантазии, опираясь на учение Д. Н. Узнадзе: неосознаваемые психологические установки создают избирательную направленность внимания на соответствующие ситуации и свойства объектов, определяя тем самым идею и сюжет произведения; потребность в реализации этих установок обусловливает самовыражение; творческая индивидуальность писателя вытекает из всей системы его личностных установок.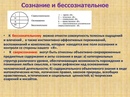
Подход к проблеме с позиций учения Д. Н. Узнадзе о психологической установке, несомненно, следует считать позитивным, т. к. он помогает дать объяснение целому ряду вопросов, связанных с проблемой творчества. Однако для понимания всей сложности творческих процессов требуется проникновение в глубинные слои психики, где функционируют особые «механизмы» бессознательного. Одно понятие установки не обеспечивает этой возможности, т. к. оно не исчерпывает всей сложной сферы бессознательного. Конкретный анализ художественных произведений, если он предпринимается только с позиций психологической установки, также оказывается малоэффективным и далеко не полным. Подойти к решению столь сложной проблемы дают возможность предложенная А, Е. Шерозия теория сознания и бессознательного психического и концепция «значимых переживаний» Ф. В. Бассина.
Мы в нашей работе «Бессознательное и художественная фантазия» попытались, основываясь на теории А. Е. Шерозия и концепции Ф. В. Бассина, а также введя в творческий процесс понятие о некоторых «механизмах» первичных психических процессов, разработанных Фрейдом, дать психологический анализ некоторых узловых моментов сюжета «Войны и мира» Л. Н. Толстого и показать участие бессознательного психического в замысле и становлении художественных образов романа.
Н. Толстого и показать участие бессознательного психического в замысле и становлении художественных образов романа.
В настоящей статье мы остановимся на вопросе о некоторых скрытых «механизмах» неосознаваемой психической деятельности, принимающих участие в творческом процессе.
Бессознательное психическое подчиняется своим собственным законам, не имеющим ничего общего с законами нашего сознательного Мышления. Эта закономерность распространяется на все виды психического поведения: и на сновидения, и на неврозы, и на бодрственное Поведение психически здорового человека, и на творческий процесс. Различие этих видов психической деятельности определяется не различными психологическими «механизмами», а тем, сохраняется ли между Процессами бессознательного и сознания соотношение, необходимое для осуществления актов объективации, т. е. познавательных процессов. В бодрственном поведения нормального человека сохраняется равновесие между деятельностью обеих сфер психики, что дает возможность осуществляться актам объективации и целенаправленному поведению.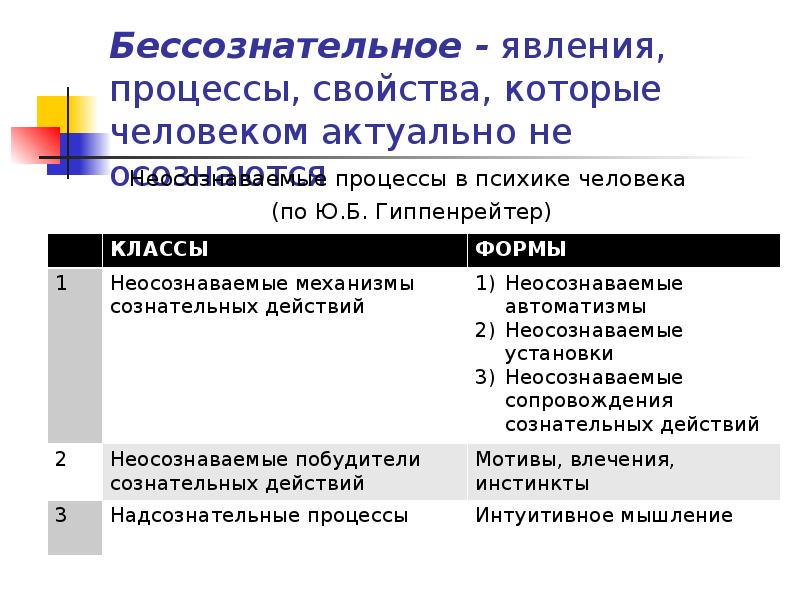 То же происходит и в акте творчества, но специфика творческого процесса заключается в интенсификации нормальной психической деятельности, что способствует активизации познавательных процессов. В акте художественного творчества опора на бессознательное, эмоциональную сферу, приводит к эмотивному, чувственному, «нерасчленяющему» познанию, характерному именно для художественной деятельности. В патологии нарушение равновесия между сознанием и бессознательным вызывается чрезмерной активизацией бессознательного, не опосредуемого сознанием, благодаря чему часть энергии тратится на «психологическую защиту» сознания от натиска импульсивных сил. Это происходит — в разной степени — при неврозах и психозах, но при неврозах объективации не поддается лишь определенная часть вытеснения и способность к познавательным процессам сохраняется, а при психозах она в основном парализована. В сновидениях активность сознания минимальна, поэтому объективация не совершается. Таким образом, психологические «механизмы» бессознательного одинаковы для всех видов психической деятельности, а тот или иной вид ее зависит, как нам представляется, от соотношения активности бессознательного и сознания в едином психическом процессе и от сохранности способности к познавательным процессам.
То же происходит и в акте творчества, но специфика творческого процесса заключается в интенсификации нормальной психической деятельности, что способствует активизации познавательных процессов. В акте художественного творчества опора на бессознательное, эмоциональную сферу, приводит к эмотивному, чувственному, «нерасчленяющему» познанию, характерному именно для художественной деятельности. В патологии нарушение равновесия между сознанием и бессознательным вызывается чрезмерной активизацией бессознательного, не опосредуемого сознанием, благодаря чему часть энергии тратится на «психологическую защиту» сознания от натиска импульсивных сил. Это происходит — в разной степени — при неврозах и психозах, но при неврозах объективации не поддается лишь определенная часть вытеснения и способность к познавательным процессам сохраняется, а при психозах она в основном парализована. В сновидениях активность сознания минимальна, поэтому объективация не совершается. Таким образом, психологические «механизмы» бессознательного одинаковы для всех видов психической деятельности, а тот или иной вид ее зависит, как нам представляется, от соотношения активности бессознательного и сознания в едином психическом процессе и от сохранности способности к познавательным процессам. Фрейд изучал бессознательное на сновидениях и т.н. неврозах перенесения (истерия, невроз навязчивости) и сумел раскрыть тайные механизмы его работы. Это дает нам возможность судить о первичных психических процессах и в акте творчества и ввести понятие о психологических «механизмах» бессознательного в творческий процесс и в структуру художественного образа.
Фрейд изучал бессознательное на сновидениях и т.н. неврозах перенесения (истерия, невроз навязчивости) и сумел раскрыть тайные механизмы его работы. Это дает нам возможность судить о первичных психических процессах и в акте творчества и ввести понятие о психологических «механизмах» бессознательного в творческий процесс и в структуру художественного образа.
В художественном творчестве реализуется сущностная потребность человека в самовыражении. Фрейд указывал, что в психологическом романе писатель раздробляет свое «я» на части и вследствие этого персонифицирует в нескольких героях свои душевные конфликты. В каждом художественном образе выражаются те или иные аспекты личности писателя, тенденции его сознания и его бессознательного и в то же время находит отражение объективная реальность. Одни персонажи могут выражать по преимуществу тенденции сознания писателя, другие — преимущественно тенденции его бессознательного; часто в разных ситуативных положениях в одном и том же образе выступают на передний гшан то осознаваемые, то неосознаваемые побуждения автора, но во всех случаях можно говорить лишь о преобладающем выражении тех или других, т. к. сознание и бессознательное неоспоримо участвуют в создании художественного образа в качестве необходимых соучастников единого творческого процесса, как и всякого другого нормального законченною психического акта, и могут быть выражены не иначе, как через личность.
к. сознание и бессознательное неоспоримо участвуют в создании художественного образа в качестве необходимых соучастников единого творческого процесса, как и всякого другого нормального законченною психического акта, и могут быть выражены не иначе, как через личность.
Самовыражение реализуется благодаря механизму проекции. Фрейд, который ввел это понятие в психологию, понимал под проекцией «перенесение внутреннего процесса вовне», заключающееся в том, что субъект отвергает чувства и побуждения, исходящие из влечения, переносит их из внутреннего восприятия во внешний мир и приписывает их другим.
Проекция, как указывает Фрейд, дает возможность познать психические акты, которые человек отказывается признать у самого себя, т. е. позволяет ввести их в общую душевную связь при помощи акта познания. Механизм проекции Фрейд приписывал как психопатологии, так и здоровой психике. Проекцией неосознаваемых желаний он считал истерические фобии, конверсии, симптомы невроза навязчивости, паранойю, сновидения.
Проекция в творческом процессе выступает как механизм «психологической защиты», которая считается советской психологической наукой эвристичным понятием и связывается с областью бессознательного. Идея «психологической защиты» разрабатывается в советской психологии в трудах Ф. В. Бассина с позиций теории установки Д. Н. Узнадзе и его школы.
Роль проекции в акте художественного творчества заключается в том, что благодаря этому психическому акту, определенные чувства и побуждения писателя, вытесняемые его сознанием, переносятся из внутреннего восприятия вовне и приписываются литературному персонажу. Таким образом, автор в созданных им героях снова находит свои внутренние душевные процессы, но переживает и объективирует их уже не как свои собственные, а как присущие «другому» — его персонажу. Именно это обстоятельство способствует самовыражению писателя в акте творчества. Проекция дает нам возможность заглянуть в самые затаенные глубины души писателя, а его творческая фантазия может рассказать нам о нем больше, чем самый усердный собиратель фактов и даже чем он сам, и позволяет судить о его психической конституции.
В структуре художественного образа главную роль играют механизмы идентификации и перенесения. Понятие идентификации Фрейд разрабатывал в связи со сновидениями и психопатологией. Он приписывал этот механизм и нормальному бодрственному мышлению. Мы рассмотрим этот механизм с точки зрения его роли в структуре художественного образа.
Фрейд считал идентификацию самым ранним проявлением эмоциональной привязанности субъекта к другому человеку, и первым амбивалентным в своем выражении способом, которым «я» выделяет какой-нибудь объект. Всякая эмоциональная привязанность к человеку реализуется только через идентификацию. Она способствует выражению наших чувств, как дружественных, так и враждебных, и участвует в формировании идеалов личности. Только благодаря этому механизму, по мнению Фрейда, возможно проникновение во внутренний мир другого человека, наше понимание чужого «я». От идентификации он вел путь к вчувствованию.
Механизм идентификации осуществляет отождествление субъекта и объекта, при котором соединяются в одно целое их отдельные свойства, качества, признаки; при этом идентификация является только частичной, в высшей степени ограниченной: она заимствует лишь одну черту или ограниченное число черт объектного лица.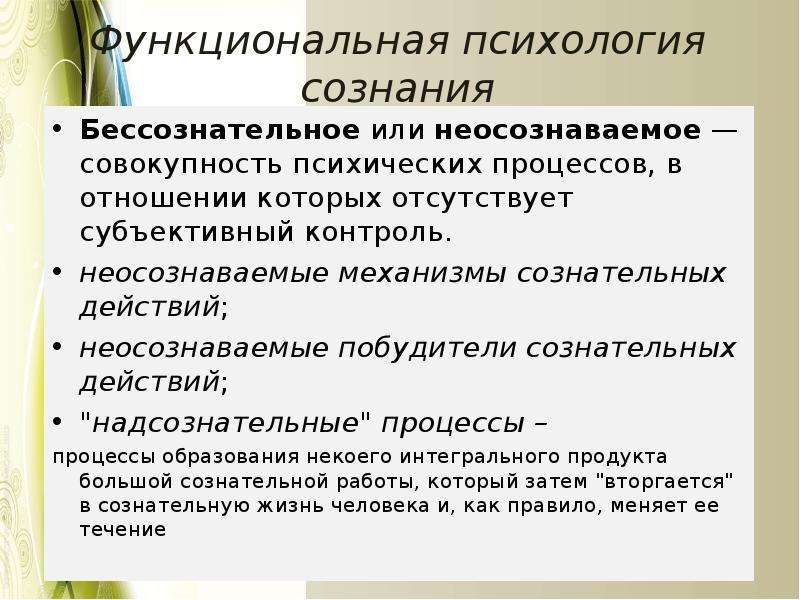 При объединении возникает новая единица, в которой каждое из идентифицируемых лиц может быть представлено всего-навсего какой-то особенностью, деталью, именем, внешностью, манерой или же ситуацией, характерной для него. Фрейд выделяет три типа идентификации, отличающиеся друг от друга мотивом выбора объекта: 1) идентификация с объектом, который принимается за идеал, — здесь идентификация стремится выразить то, чем субъект хочет быть, какими качествами он желает обладать; подобная идентификация носит дружественный характер; 2) идентификация с объектом из желания быть на его месте, находиться в его ситуации, здесь выражается тенденция соперничества и идентификация принимает враждебный характер; 3) идентификация с лицом, к которому субъект испытывает объектную привязанность.
При объединении возникает новая единица, в которой каждое из идентифицируемых лиц может быть представлено всего-навсего какой-то особенностью, деталью, именем, внешностью, манерой или же ситуацией, характерной для него. Фрейд выделяет три типа идентификации, отличающиеся друг от друга мотивом выбора объекта: 1) идентификация с объектом, который принимается за идеал, — здесь идентификация стремится выразить то, чем субъект хочет быть, какими качествами он желает обладать; подобная идентификация носит дружественный характер; 2) идентификация с объектом из желания быть на его месте, находиться в его ситуации, здесь выражается тенденция соперничества и идентификация принимает враждебный характер; 3) идентификация с лицом, к которому субъект испытывает объектную привязанность.
Мы вводим понятие идентификации в творческий процесс и считаем, что указанные выше три типа идентификации участвуют в сложении структуры художественного образа. Приведем несколько примеров работы этого механизма в структуре художественного образа.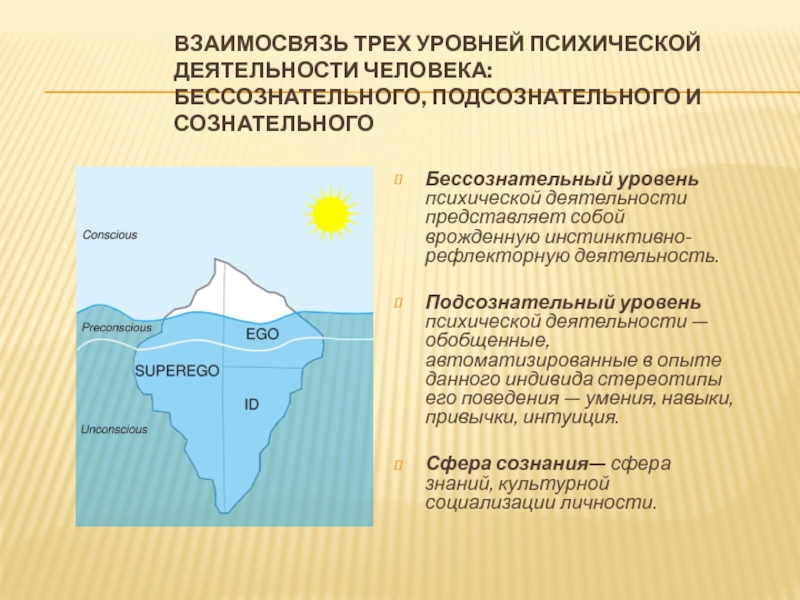 Объектом идентификации в качестве идеала выбран для образа Пьера Безухова друг писателя Д. Л. Дьяков, для образа Андрея Болконского — брат писателя С. Н. Толстой. По второму типу идентификации складывается, например, образ Анатоля Курагина (идентификация писателя с Анатолием Шостак на основе тенденции соперничества). Примером третьего типа идентификации (на основе объектной привязанности) может служить образ Наташи Ростовой (идентификация Л. Толстого с Таней Берс). Часто в одном и том же образе сходятся два типа идентификации, т. к. сама идентификация амбивалентна с самого начала. Например, идентификация Л. Н. Толстого с С. Н. Толстым в образе Андрея Болконского носит не только дружественный характер, но имеет своим мотивом также бессознательное желание писателя быть на месте брата в его любовной ситуации, т. е. носит и враждебный характер. В то же время один и тот же тип идентификации может дать несколько различных образов в одном произведении в зависимости от проецируемых тенденций автора: образы Пьера Безухова, Андрея Болконского, старого князя Болконского структурированы по первому из указанных типов идентификации, но выражают различные аспекты личности Толстого.
Объектом идентификации в качестве идеала выбран для образа Пьера Безухова друг писателя Д. Л. Дьяков, для образа Андрея Болконского — брат писателя С. Н. Толстой. По второму типу идентификации складывается, например, образ Анатоля Курагина (идентификация писателя с Анатолием Шостак на основе тенденции соперничества). Примером третьего типа идентификации (на основе объектной привязанности) может служить образ Наташи Ростовой (идентификация Л. Толстого с Таней Берс). Часто в одном и том же образе сходятся два типа идентификации, т. к. сама идентификация амбивалентна с самого начала. Например, идентификация Л. Н. Толстого с С. Н. Толстым в образе Андрея Болконского носит не только дружественный характер, но имеет своим мотивом также бессознательное желание писателя быть на месте брата в его любовной ситуации, т. е. носит и враждебный характер. В то же время один и тот же тип идентификации может дать несколько различных образов в одном произведении в зависимости от проецируемых тенденций автора: образы Пьера Безухова, Андрея Болконского, старого князя Болконского структурированы по первому из указанных типов идентификации, но выражают различные аспекты личности Толстого.
Как нетрудно убедиться из сопоставления литературных персонажей с т. н. «прототипами», идентификация переносит в художественный образ лишь ограниченное число черт или качеств объекта и некоторые из его жизненных ситуаций, в основном же образ «заполняется» сознательными и бессознательными тенденциями самого художника, за каждым художественным образом стоит одно из множественности «я» самого автора. Например, Сергей Николаевич Толстой выбран в качестве объекта идентификации для образа Андрея Болконского как идеал comme il faut, Д. А, Дьяков — для Пьера Безухова как высокий нравственный авторитет, но сами образы настолько не похожи на своих «прототипов», что на связь между ними обычно не указывают, несмотря на то, что эти лица принадлежали к ближайшему окружению Л. Н. Толстого. Однако об этой связи свидетельствуют жизненные ситуации, вошедшие в сюжет. Из жизни брата автор взял лишь историю его любовных отношений с Т.А. Берс, да и ту видоизменил, «придумав» измену Наташи и попытку ее побега с Анатолем; из жизни Д.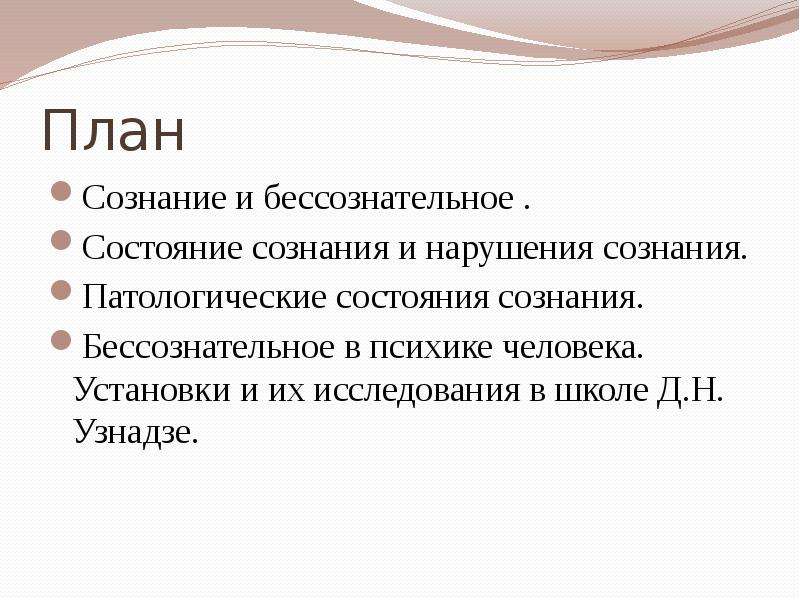 А. Дьякова воспроизведено лишь его объяснение с Т. А. Берс в сцене разговора Пьера с Наташей после ее разрыва с князем Андреем, в остальном же судьба Андрея Болконского и Пьера Безухова — плод фантазии писателя, создавшей те ситуации, где его собственные желания и влечения нашли наиболее адекватное и желаемое выражение и реализацию.
А. Дьякова воспроизведено лишь его объяснение с Т. А. Берс в сцене разговора Пьера с Наташей после ее разрыва с князем Андреем, в остальном же судьба Андрея Болконского и Пьера Безухова — плод фантазии писателя, создавшей те ситуации, где его собственные желания и влечения нашли наиболее адекватное и желаемое выражение и реализацию.
В структуре художественного образа идентификация выступает в единстве с другим важнейшим механизмом первичных психических процессов — перенесением. Это понятие также введено Фрейдом. Согласно законам бессознательного, импульс может проявиться не там, где он возник, и перенестись в более поздние времена и отношения, — это явление Фрейд назвал перенесением. Перенесение вызывается склонностью бессознательных влечений в поисках путей удовлетворения направляться ассоциативным путем на все новые объекты. Благодаря перенесению происходит замещение одного представления другим вдоль ассоциационного ряда и слияние объектов перенесения, создающее в сновидениях и неврозах т. н. сгущение.
н. сгущение.
Перенесение можно непосредственно наблюдать при неврозах на перенесении невротика на врача. Невротик бессознательно идентифицирует его со всеми объектами своей аффективной направленности, в том числе и с вытесненными, врач становится как бы замещающим их объектом, на который невротик переносит свои значимые переживания и конфликты. Перенесение на врача дает возможность разгадать смысл бессознательных фантазий и понять истинные мотивы невротического поведения. Поэтому перенесение, подобно сновидению, можно было бы назвать «окном» в бессознательное. Перенесение на врача эффективно используется при психотерапии неврозов.
Роль перенесения в структуре художественного образа заключается в том, что оно создает агглютинацию, которая соответствует сгущению в сновидениях и неврозах. Агглютинация делает образ коллективным лицом, на который переносится психическая энергия составляющих его элементов. Наиболее эмоционально насыщены те образы, для образования которых потребовалась наибольшая работа агглютинации.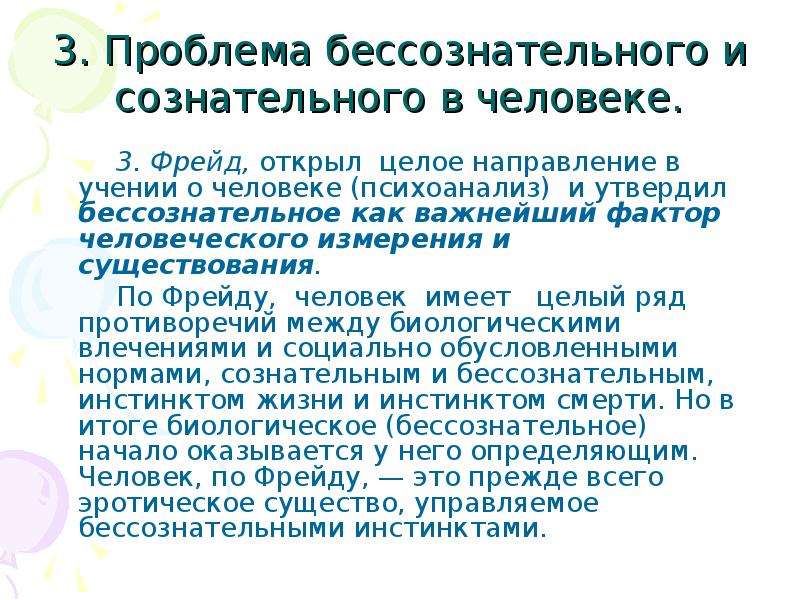 Благодаря перенесению в фантазии находят способ проявить себя в качестве отпрысков бессознательного самые интимные влечения из глубинных слоев психики. Они скрываются в замаскированном виде под явным содержанием сюжета.
Благодаря перенесению в фантазии находят способ проявить себя в качестве отпрысков бессознательного самые интимные влечения из глубинных слоев психики. Они скрываются в замаскированном виде под явным содержанием сюжета.
Перенесение с точки зрения установки Д. Н. Узнадзе можно определить как действие фиксированных установок, стремящихся к реализации.
Идентификация и перенесение тесно связаны между собой и в акте творчества, как и в сновидениях и неврозах, друг без друга не функционируют. Они определяют структуру художественного образа. Таким образом, структура художественного образа складывается на уровне бессознательного.
Изложенное понимание психологических «механизмов» бессознательного в акте художественного творчества дает возможность проникнуть вглубь творческих процессов, установить связь литературного персонажа с личностью писателя, раскрыть структуру художественного образа, определить истинные побудительные мотивы творческой фантазии и художественных решений и ввести анализ бессознательного в практику литературоведческого исследования.
Мы полагаем, что очередная задача, стоящая перед литературоведением при комплексном подходе, — выработка методики анализа бессознательного в структуре художественного произведения, что обеспечит исследование творчества на уровне современной науки.
Выступления на Тбилисском симпозиуме по проблеме бессознательного (1979) и статьи, присланные после симпозиума для опубликования в IV томе монографии, свидетельствуют о том, что вопросы, обсуждавшиеся в разделе «Проявление бессознательного психического в структуре художественного творчества и восприятия», вызвали большой интерес и оживленную полемику. К сожалению, эти материалы по техническим причинам в IV томе не публикуются, поэтому мы позволим себе лишь бегло коснуться некоторых из вопросов, обсуждаемых в них.
Вопрос о целесообразности применения психоанализа при исследовании художественного творчества. Исследование бессознательного в структуре художественного произведения методом психоанализа, по мнению Р. Г. Каралапгоили, помогает раскрытию важных связей и аспектов, которые иначе остаются неясными и непонятными. Однако плодотворным психоаналитический подход к произведению искусства может быть лишь в том случае, если он не превращается в самоцель и способствует выявлению эстетической природы произведения и той имманентной ясности, которая в нем заключена.
Г. Каралапгоили, помогает раскрытию важных связей и аспектов, которые иначе остаются неясными и непонятными. Однако плодотворным психоаналитический подход к произведению искусства может быть лишь в том случае, если он не превращается в самоцель и способствует выявлению эстетической природы произведения и той имманентной ясности, которая в нем заключена.
Действительно, большинство работ, посвященных психоанализу литературного творчества, ограничивается поисками т. н. «комплексов» или сексуальной символики в структуре произведения, что преследует сугубо психоаналитические цели и практически бесполезно для литературоведческого исследования. В частности, у нас этим грешит книга о Гоголе И. Ермакова, известного издателя психоаналитической литературы в России в 20 гг. Сам Фрейд, неоднократно обращавшийся к творчеству писателей и художников (Шекспир, Гете, Достоевский, Леонардо да Винчи и др.), не ставил себе целью психологическое исследование того или иного произведения искусства, он лишь показывал отдельные проявления бессознательного в структуре сюжета, демонстрируя, как неосознаваемые мотивы и влечения могут направлять творческую фантазию художника. Даже его наиболее фундаментальная работа, посвященная литературному произведению, — «Бред и сны в «Градиве» Иенсена» является отнюдь не литературоведческим, но психиатрическим исследованием.
Даже его наиболее фундаментальная работа, посвященная литературному произведению, — «Бред и сны в «Градиве» Иенсена» является отнюдь не литературоведческим, но психиатрическим исследованием.
Анализ бессознательного в структуре художественного творчества имеет смысл и позитивное значение лишь тогда, когда он увязывается с личностью автора, включающей и его сознание и его бессознательное, ибо смысл произведения и значение его в системе эстетических ценностей эпохи определяется не бессознательным и не сознанием автора, а его личностью.
Вопрос о том, является ли искусство, говоря словами Л. С. Выготского, «средством для разряда нервной энергии».
Для художника творчество, — действительно, «средство для разрядов нервной энергии», ибо в акте творчества происходят познавательные процессы, осуществляемые в акте объективации, которые ведут к разрешению внутренних конфликтов и разрядке аффективной напряженности. Творчество служит удовлетворению сущностных потребностей человека (познавательной, потребности творчества, самовыражения и самореализации и др. ), что вызывает положительные эмоции. То же происходит и в акте восприятия художественного творчества. Для воспринимающего изображаемое действие служит как бы проекцией его собственных переживаний; идентифицируя себя с персонажами произведения, он психически проигрывает роли, которые имеет потребность реализовать в объективной действительности. Таким образом, переживаемое действие служит для воспринимающего ситуацией, где его потребность находит возможность своего удовлетворения.
), что вызывает положительные эмоции. То же происходит и в акте восприятия художественного творчества. Для воспринимающего изображаемое действие служит как бы проекцией его собственных переживаний; идентифицируя себя с персонажами произведения, он психически проигрывает роли, которые имеет потребность реализовать в объективной действительности. Таким образом, переживаемое действие служит для воспринимающего ситуацией, где его потребность находит возможность своего удовлетворения.
И, наконец, вопрос о том, ставит ли писатель свой талант под угрозу, подвергаясь психоанализу.
Опосредование бессознательного при помощи техники психоанализа никоим образом не ведет к понижению творческого потенциала писателя потому, что резервы его бессознательного, его эмоциональной сферы, не могут иссякнуть до тех пор, пока личность сохранна биологически и психически; наоборот, психоанализ — это путь к активизации потенциальных творческих возможностей личности.
Бессознательное природа, функции, методы исследовать, rn. 1V, Тбилиси, 1985, с 307-317
1V, Тбилиси, 1985, с 307-317
Магистерская программа «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Бессознательное психическое
Выявление и описание бессознательных процессов составляло важную часть исследовательской и терапевтической деятельности Фрейда. Однако он этим не ограничился и подверг бессознательное аналитическому расчленению. Раскрытие механизмов функционирования бессознательных процессов, выявление конкрет
ных форм проявления бессознательного психического в жизнедеятельности человека, поиск в самом бессознательном различных его составляющих — все это представляло значительный интерес для Фрейда. Причем он не просто интересовался описанием и раскрытием бессознательного как чего-то отрицательного, находящегося вне сознания, а стремился выявить именно позитивную составляющую бессознательного психического. Он обращал внимание на те свойства бессознательного, которые свидетельствовали о самобытности и специфичности данной сферы человеческой психики, качественно и содержательно отличающейся от сознания.
Исследование бессознательного осуществлялось Фрейдом не изолированно, не само по себе, а в контексте его соотношения с сознанием. Это был привычный путь, по которому шли те ученые, которые признавали существование бессознательного. Однако перед Фрейдом возникли вопросы, требующие ответа в свете осмысления бессознательного психического. Для Фрейда быть сознательным — значит иметь непосредственное и надежное восприятие. Но что можно сказать о восприятии в сфере бессознательного? И здесь основатель психоанализа сравнил восприятие сознания бессознательных процессов с восприятием органами чувств внешнего мира.
Динамика психических процессов
В ходе раскрытия динамики психических процессов, не являющихся сознательными, обнаружилось то, что Фрейд назвал скрытым, латентным бессознательным.
Это бессознательное обладало характерными признаками, свидетельствующими о его специфике. Основным признаком данного вида бессознательного было то, что представление, будучи сознательным в какой-то момент, переставало быть таковым в следующее мгновение, но могло вновь стать сознательным при наличии определенных условий, способствующих переходу бессознательного в сознание.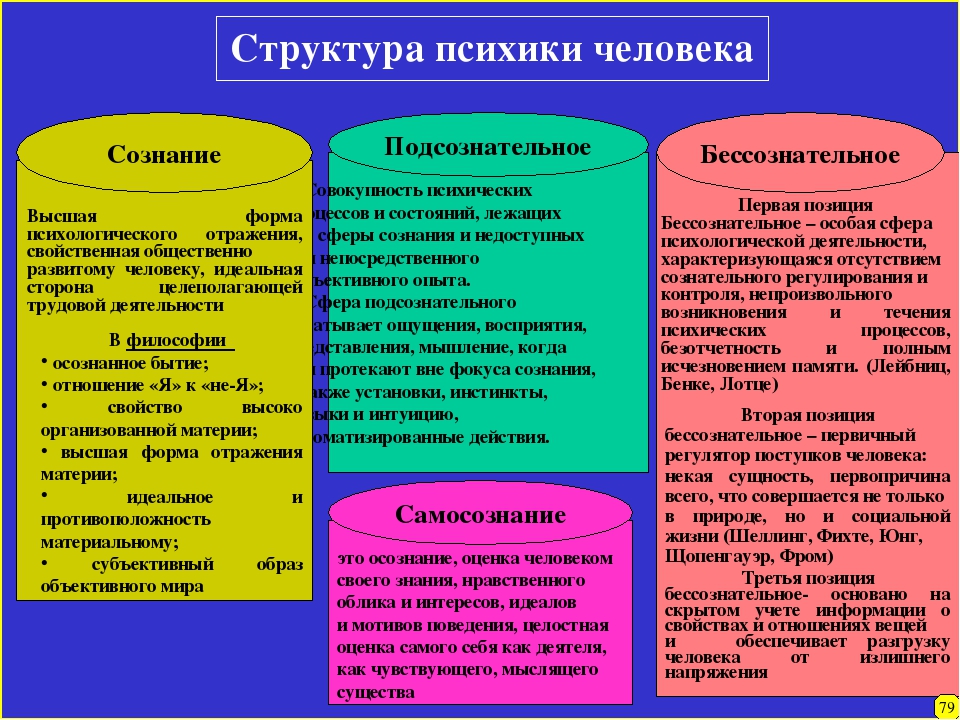
Кроме того, динамика развертывания психических процессов, оказалось, позволяла говорить о наличии в психике человека какой-то противодействующей силы, препятствующей проникновению бессознательных представлений в сознание. Состояние, в котором данные представления находились до их осознания, Фрейд назвал вытеснением, а силу, способствующую вытеснению этих представлений, — сопротивлением. Осмысление того и другого привело его к выводу, что устранение сопротивления, в принципе, возможно, но оно осуществимо лишь на основе специальных процедур, с помощью которых соответствующие бессознательные представления могут быть доведены до сознания человека.
Все это способствовало тому, что в понимании Фрейда бессознательное предстало в качестве двух самостоятельных и не сводящихся друг к другу психических процессов. Первый вид скрытого, латентного бессознательного — это то, что Фрейд назвал предсознательным, второй — вытесненным бессознательным.
Многозначность бессознательного
Классический психоанализ Фрейда основывался главным образом на раскрытии характеристик и природы одного вида бессознательного, а именно вытесненного бессознательного. Собственно говоря, практика психоанализа ориентирована на выявление сопротивления пациента и того вытесненного бессознательного, которое являлось результатом вытеснения из его сознания и памяти бессознательных влечений и желаний. Между тем в теории, в психоаналитическом учении «вытесненное» являлось только частью бессознательного психического и полностью не покрывало его.
Собственно говоря, практика психоанализа ориентирована на выявление сопротивления пациента и того вытесненного бессознательного, которое являлось результатом вытеснения из его сознания и памяти бессознательных влечений и желаний. Между тем в теории, в психоаналитическом учении «вытесненное» являлось только частью бессознательного психического и полностью не покрывало его.
При раскрытии динамики психических процессов, были выделены сознание, предсознательное и вытесненное бессознательное. Однако, структурный подход к человеческой психике внес существенное дополнение в ее понимание, когда в самом Я обнаружилось бессознательное, не совпадающее с вытесненным бессознательным. Фрейд назвал его «третьим» бессознательным, которое в структурной модели обозначалось термином «СверхЯ». Признание Фрейдом «третьего» бессознательного позволило по-иному, чем раньше, исследовать сложные взаимодействия между сознательными и бессознательными процессами, протекающими в глубинах человеческой психики. Оно способствовало лучшему пониманию природы внутриличностных конфликтов и причин возникновения неврозов. Вместе с тем выделение «третьего» бессознательного усугубило общее понимание бессознательного психического, которое стало не просто двусмысленным, а действительно многозначным. Фрейд это по нимал. Не случайно, говоря о введении «третьего» бессознательного, он писало той многозначности понятия бессознательного, которую приходится признать в психоанализе.
Оно способствовало лучшему пониманию природы внутриличностных конфликтов и причин возникновения неврозов. Вместе с тем выделение «третьего» бессознательного усугубило общее понимание бессознательного психического, которое стало не просто двусмысленным, а действительно многозначным. Фрейд это по нимал. Не случайно, говоря о введении «третьего» бессознательного, он писало той многозначности понятия бессознательного, которую приходится признать в психоанализе.
К списку статей по Коучингу и бизнес-консультированию
К списку статей по Клинической парадигме менеджмента
К списку статей по Истории и теории психоанализа
К списку статей А. В. Россохина в журнале «Psychologies»
Магистерская программа «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Внутрипсихические конфликты
Проводя различие между вытесненным и вытесняющим, Фрейд внес уточнения в понимание бессознательного психического и природы внутрипсихических конфликтов. Психоаналитическое представление о Сверх-Я позволило поновому взглянуть на те внутриконфликтные ситуации, которые часто возникают вокруг Я.
Психоаналитическое представление о Сверх-Я позволило поновому взглянуть на те внутриконфликтные ситуации, которые часто возникают вокруг Я.
Дело в том, что предпринятое Фрейдом структурирование психики показало существенные слабости человеческого Я, сталкивающегося не только с наследственными бессознательными влечениями индивида, но и с приобретенными им в ходе развития бессознательными силами.Черпая свое Сверх-Я из Оно, Я оказывается как бы под сильным нажимом со стороны наследственного бессознательного (Оно) и приобретенного бессознательного (Сверх-Я). Сверх-Я глубоко погружено в Оно и в значительной степени отделено от сознания, чем Я. Более того Сверх-Я стремится приобрести независимость от сознательного Я.
В результате подобного стремления Сверх-Я начинает проявлять себя как некая критика по отношению к Я, что в результате оборачивается для Я ощущением собственной виновности.
Инфантильное Я вынуждено слушаться своих родителей и подчиняться им. Я взрослого человека, подчиняется категорическому императиву, воплощением которого является Сверх-Я.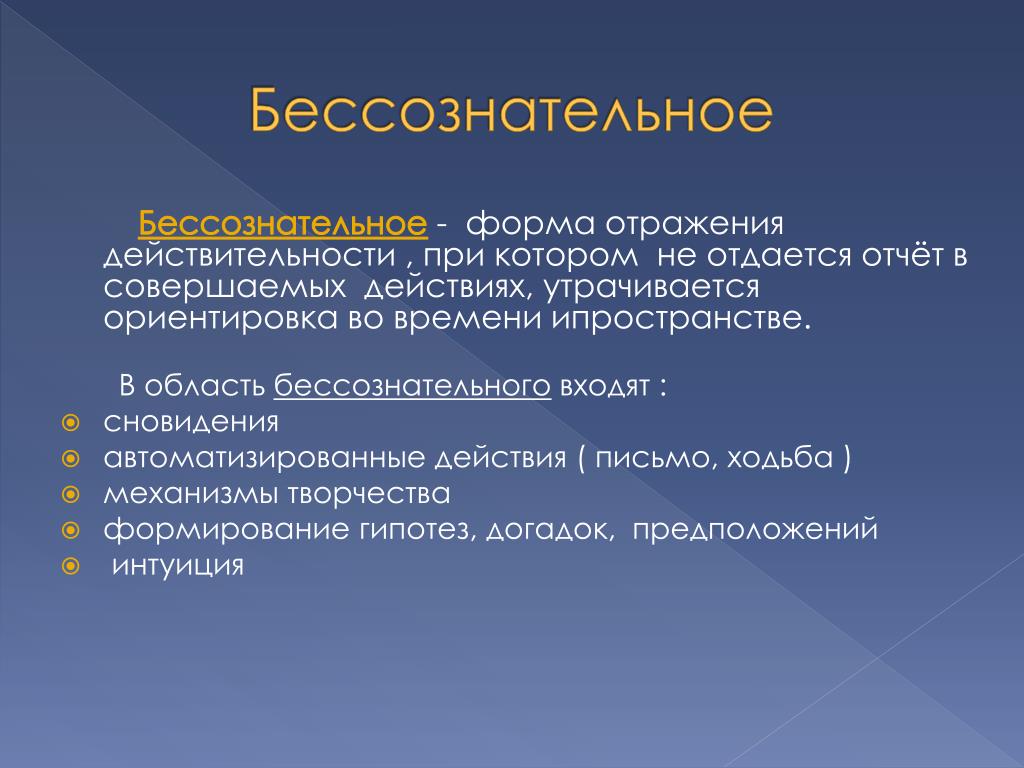 И в том и в другом случае Я оказывается в подчиненном положении. Разница состоит лишь в том, что в случае инфантильного Я давление оказывается со стороны, извне, в то время как Я взрослого человека испытывает давление со стороны своей собственной психики, изнутри.
И в том и в другом случае Я оказывается в подчиненном положении. Разница состоит лишь в том, что в случае инфантильного Я давление оказывается со стороны, извне, в то время как Я взрослого человека испытывает давление со стороны своей собственной психики, изнутри.
Сверх-Я может оказывать столь сильное давление на Я, что оно становится как бы без вины виноватым. Если родители только взывают к совести ребенка и прибегают в качестве воспитания к мерам наказания, то Сверх-Я взрослого человека, или его совесть, само наказывает Я, заставляя его мучиться и страдать. Наказание извне заменяется наказанием изнутри. Муки совести приносят человеку такие страдания, попытка бегства от которых завершается уходом в болезнь. Так, в понимании Фрейда, Сверх-Я вносит свою, не менее значительную лепту, чем Оно, в дело возникновения невротических заболеваний.
Если СверхЯ пользуется самостоятельностью и приобретает свою независимость от Я, то оно может стать таким строгим, жестким и тираническим, что способно вызвать у человека состояние меланхолии.
Под воздействием сверхстрогого Сверх-Я, унижающего достоинство человека и упрекающего его за прошлые деяния и даже за недостойные мысли, Я взваливает на себя бессознательную вину и становится крайне беспомощным. Находясь под воздействием сверхстрогого отношения к самому себе, человек может впасть в приступ меланхолии, при котором Сверх-Я будет внутренне терзать его. Это не означает, что приступ меланхолии — постоянный и неизбежный спутник тех больных, у которых Сверх-Я олицетворяет наиболее строгие моральные требования к их собственному поведению.
Говоря о формировании Сверх-Я, Фрейд подчеркивал, что строгость этой инстанции обусловлена строгостью родителей, придерживающихся жестких методов воспитания ребенка. Создается впечатление, что Сверх-Я односторонне воспринимает те функции родителей, которые связаны с запретами и наказаниями. Можно также предположить, что методы воспитания ребенка, включающие в себя ласку и заботу, а не наказание и принуждение, будут способствовать образованию не жесткого, а скорее мягкого Сверх-Я. Подчас именно так и бывает. Однако здесь нет какой-либо прямой зависимости.
Подчас именно так и бывает. Однако здесь нет какой-либо прямой зависимости.
В реальной жизни часто оказывается, что даже при использовании мягких методов воспитания, когда угрозы и наказания со стороны родителей сведены до минимума, может сформироваться не менее жесткое и тираническое Сверх-Я, как это случается при твердом воспитании, основанном на методах насильственного принуждения к послушанию.
Воспитывая ребенка, родители руководствуются, как правило, не своим Я, олицетворяющим разум и рассудок, а предписаниями собственного СверхЯ, основанными на идентификации со своими родителями. Несмотря на возникающие в процессе воспитания расхождения между Я и Сверх-Я, сознательными и бессознательными интенциями, в большинстве случаев по отношению к детям родители воспроизводят все то, что некогда испытывали сами, когда их собственные родители налагали на них различного рода ограничения.
СверхЯ ребенка формируется не столько на основе примера своих родителей, сколько по образу и подобию родительского Сверх-Я. Как замечал Фрейд, Сверх-Я ребенка наполняется тем же содержанием, становится носителем традиции, всех тех сохранившихся во времени ценностей, которые продолжают существовать на этом пути через поколения. Нередко в семьях складываются такие ситуации, когда родители, не имевшие возможность проявить себя в какой-либо сфере деятельности, предпринимают всяческие попытки к тому, чтобы их дети пошли по пути, о котором они сами мечтали. Они прибегают к строгим методам воспитания, заставляя своих детей делать то, к чему те не предрасположены или не испытывают ни малейшего желания. В результате подобного воспитания у детей формируется такое Сверх-Я, функциональная деятельность которого сказывается, в свою очередь, на их собственных детях.
Как замечал Фрейд, Сверх-Я ребенка наполняется тем же содержанием, становится носителем традиции, всех тех сохранившихся во времени ценностей, которые продолжают существовать на этом пути через поколения. Нередко в семьях складываются такие ситуации, когда родители, не имевшие возможность проявить себя в какой-либо сфере деятельности, предпринимают всяческие попытки к тому, чтобы их дети пошли по пути, о котором они сами мечтали. Они прибегают к строгим методам воспитания, заставляя своих детей делать то, к чему те не предрасположены или не испытывают ни малейшего желания. В результате подобного воспитания у детей формируется такое Сверх-Я, функциональная деятельность которого сказывается, в свою очередь, на их собственных детях.
Для Фрейда Сверх-Я выступает в качестве совести, которая может оказывать тираническое воздействие на человека, вызывая у него постоянное чувство виновности. Это — одна из функций Сверх-Я, изучение которой способствует пониманию внутриличностных конфликтов.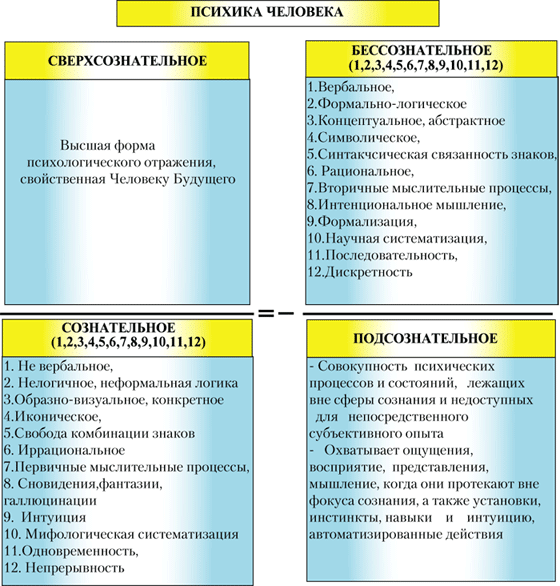
Другая, не менее важная функция Сверх-Я заключается в том, что оно является носителем идеала. В этом смысле Сверх-Я представляет собой тот идеал (Яидеал), с которым Я соизмеряет себя. Если совесть олицетворяет собой родительские заповеди и запреты, то Я-идеал включает в себя приписываемые ребенком совершенные качества родителей, связанные с его восхищением ими и подражанием им. Стало быть, в Сверх-Я находит свое отражение та амбивалентность, которая ранее наблюдалась у ребенка по отношению к своим родителям. Не случайно возникновение СверхЯ продиктовано, с точки зрения Фрейда, важными биологическими и психологическими факторами: длительной зависимостью ребенка от родителей и эдиповым комплексом.
В итоге Сверх-Я оказывается, с одной стороны, носителем моральных ограничений, а с другой — поборником стремления к совершенствованию. Таковы две основные функции, которые выполняет Сверх-Я в структуре личности.
В понимании Фрейда, помимо совести и идеала, Сверх-Я наделено функцией самонаблюдения.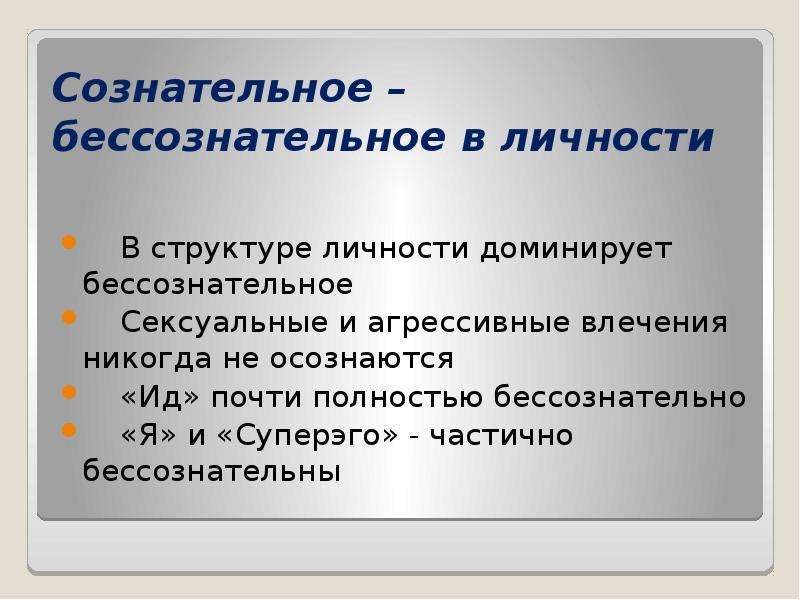 Человек как бы постоянно находится под бдительным оком особой внутренней инстанции, от которой невозможно спрятаться.
Человек как бы постоянно находится под бдительным оком особой внутренней инстанции, от которой невозможно спрятаться.
«Несчастное» Я
Осмысление клинического материала, анализ сновидений и переосмысление содержащихся в философских и психологических трудах представлений о бессознательном привели Фрейда к необходимости проведения различий между предсознательным и бессознательным. Но он не ограничился только этим и попытался более обстоятельно разобраться в природе выделенных им видов бессознательного. Ориентация на углубленное исследование способствовала появлению и развитию новых идей, которые стали составной частью психоанализа.
Согласно Фрейду, Сверх-Я и сознательное не совпадают между собой. Как и Я, Сверх-Я может функционировать на бессознательном уровне. На предшествующих стадиях становления и развития психоанализа считалось, что именно Я осуществляет вытеснение бессознательных влечений человека. Однако по мере того, как идея структуризации психики получала свою поддержку, а представления о Сверх-Я переставали выглядеть чем-то из ряда вон выходящим, Фрейд несколько по-иному подошел к пониманию механизма вытеснения. Во всяком случае, он выдвинул предположение, что в процессе вытеснения значительную роль играет именно Сверх-Я. По мысли Фрейда, вытеснение производится самим Сверх-Я или Я, действующим по заданию Сверх-Я. Благодаря акту вытеснения Я защищается от настойчивых и неотступных влечений, содержащихся в Оно. Акт вытеснения осуществляется Я обычно по поручению его СверхЯ, той инстанции, которая выделилась в самом Я. В случае истерии Я защищается тем же самым способом и от мучительных переживаний, возникших вследствие критики его со стороны Сверх-Я, то есть использует вытеснение в качестве приемлемого для себя оружия защиты. Таким образом, в психоаналитической модели личности оказывается, что Я действительно вынуждено обороняться с двух сторон. С одной стороны, Я пытается отразить нападение от непрестанных требований бессознательного Оно. С другой стороны, ему приходится защищаться от укоров совести бессознательного Сверх-Я. По мнению Фрейда, беззащитному с обеих сторон Я удается справиться только с самыми грубыми действиями Оно и Сверх-Я, результатом чего является бесконечное терзание самого себя и дальнейшее систематическое терзание объекта, где таковой доступен.
Во всяком случае, он выдвинул предположение, что в процессе вытеснения значительную роль играет именно Сверх-Я. По мысли Фрейда, вытеснение производится самим Сверх-Я или Я, действующим по заданию Сверх-Я. Благодаря акту вытеснения Я защищается от настойчивых и неотступных влечений, содержащихся в Оно. Акт вытеснения осуществляется Я обычно по поручению его СверхЯ, той инстанции, которая выделилась в самом Я. В случае истерии Я защищается тем же самым способом и от мучительных переживаний, возникших вследствие критики его со стороны Сверх-Я, то есть использует вытеснение в качестве приемлемого для себя оружия защиты. Таким образом, в психоаналитической модели личности оказывается, что Я действительно вынуждено обороняться с двух сторон. С одной стороны, Я пытается отразить нападение от непрестанных требований бессознательного Оно. С другой стороны, ему приходится защищаться от укоров совести бессознательного Сверх-Я. По мнению Фрейда, беззащитному с обеих сторон Я удается справиться только с самыми грубыми действиями Оно и Сверх-Я, результатом чего является бесконечное терзание самого себя и дальнейшее систематическое терзание объекта, где таковой доступен.
Там, где было Оно, должно стать Я.
Деление психики на сознательное и бессознательное стало основной предпосылкой психоанализа. Фрейд выдвинул важное теоретическое положение о том, что сознательное не является сущностью психического. Фрейд подчеркивал, что у данных сознания имеются различного рода пробелы, не позволяющие компетентно судить о процессах, которые происходят в глубинах психики. И у здоровых людей, и у больных часто наблюдаются такие психические акты, объяснение которых требует допущения существования психических процессов, не вписывающихся в поле зрения сознания. Поэтому Фрейд считал, что имеет смысл допустить наличие бессознательного и с позиций науки работать с ним, что бы тем самым восполнить пробелы, неизбежно существующие при отождествлении психического с сознательным. Ведь подобное отождествление является, по существу, условным, недоказанным и представляется не более правомерным, чем гипотеза о бессознательном. Между тем жизненный опыт, да и здравый смысл указывают на то, что отождествление психики с сознанием оказывается совершенно нецелесообразным. Более разумно исходить из допущения бессознательного как некой реальности, с которой необходимо считаться, коль скоро речь идет о понимании природы человеческой психики.
Более разумно исходить из допущения бессознательного как некой реальности, с которой необходимо считаться, коль скоро речь идет о понимании природы человеческой психики.
Целесообразнее, стало быть, не ограничиваться упованием на сознание и иметь в виду, что оно не покрывает собой далеко всю психику. Тем самым Фрейд не только пересмотрел ранее существовавшее привычное представление о тождестве сознания и психики, но и, по сути дела, отказался от него в пользу признания в психике человека бессознательных процессов. Более того, он не просто обратил внимание на необходимость учета бессознательного как такового, а выдвинул гипотезу о правомерности рассмотрения того, что он назвал бессознательным психическим. В этом состояло одно из достоинств психоаналитического понимания бессознательного.
Нельзя сказать, что именно Фрейд ввел понятие бессознательного психического. До него Гартман провел различия между физически, гносеологически, метафизически и психически бессознательным. Однако если немецкий философ ограничился подобным разделением, высказав весьма невнятные соображения о психически бессознательном и сконцентрировав свои усилия на осмыслении гносеологических и метафизических его аспектов, то основатель психоанализа поставил бессознательное психическое в центр своих раздумий и исследований.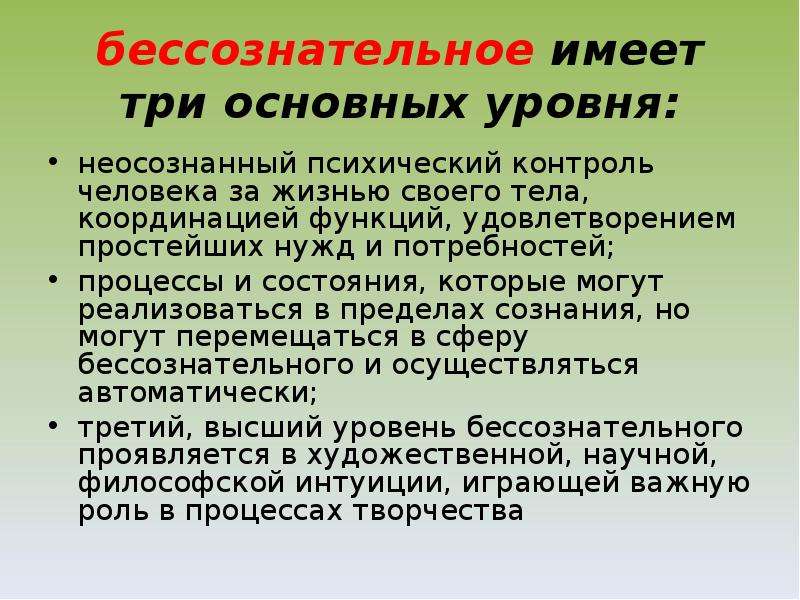
Для Фрейда бессознательное психическое выступало в качестве приемлемой гипотезы, благодаря которой открывалась перспектива изучения психической жизни человека во всей ее полноте, противоречивости и драматичности.
Идеи о бессознательном психическом были выдвинуты Фрейдом в первой его фундаментальной работе «Толкование сновидений». Именно в ней он подчеркнул, что внимательное наблюдение над душевной жизнью невротиков и анализ сновидений дают неопровержимые доказательства наличия таких психических процессов, которые совершаются без участия сознания.
В отличие от тех, кто усматривал в бессознательном лишь теоретическую конструкцию, способствующую установлению логических связей между сознательными процессами и глубинными структурами психики, Фрейд рассматривал бессознательное как нечто реально психическое, характеризующееся своими особенностями и имеющее вполне конкретные содержательные импликации. Исходя из этого в рамках психоанализа предпринималась попытка осмысления бессознательного посредством выявления его содержательных характеристик и раскрытия специфики протекания бессознательных процессов.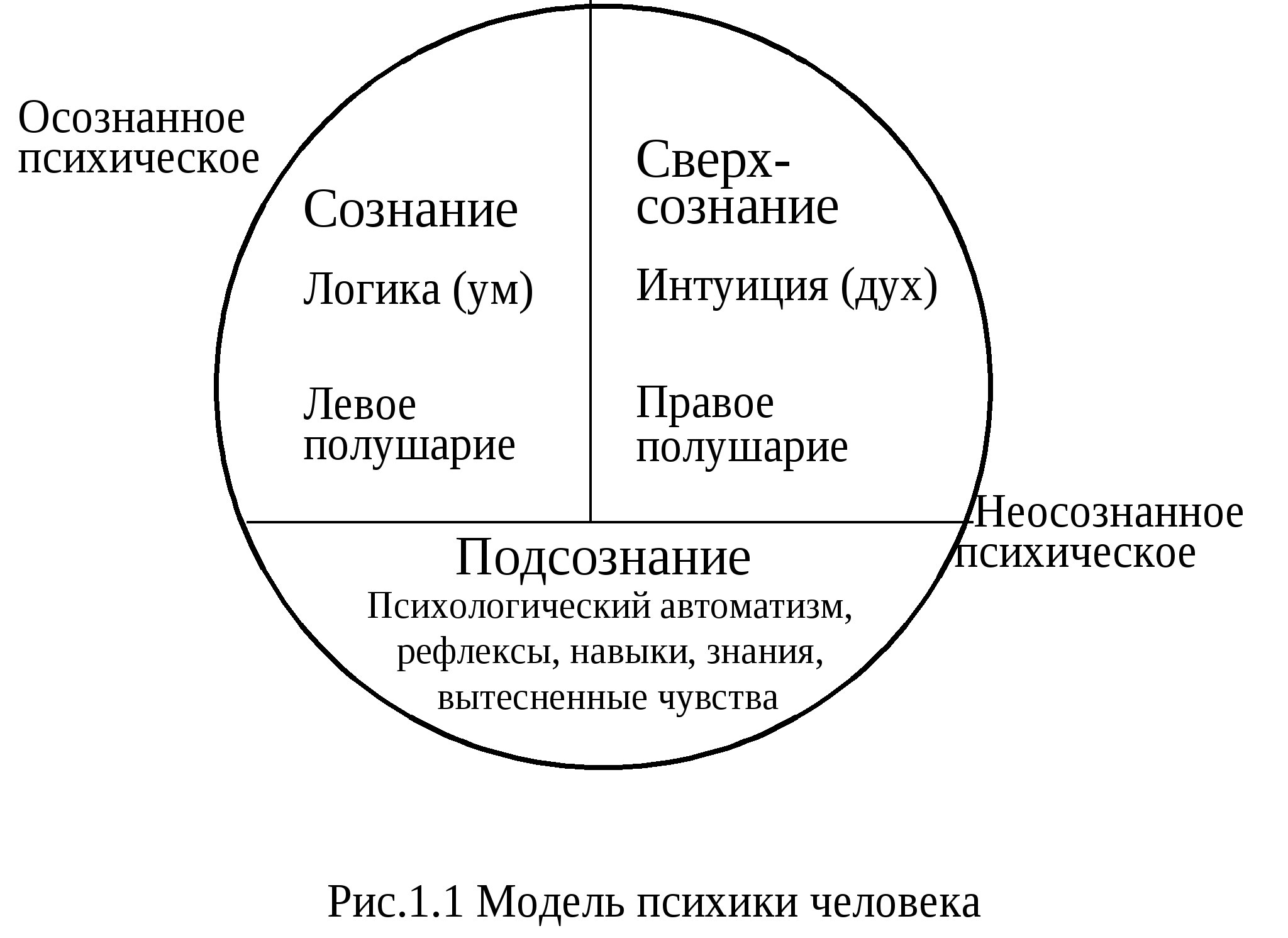
Фрейд исходил из того, что всякий душевный процесс существует сначала в бессознательном и только затем может оказаться в сфере сознания. Причем переход в сознание — это отнюдь не обязательный процесс, поскольку, с точки зрения Фрейда, далеко не все психические акты непременно становятся сознательными. Некоторые, а быть может, и многие из них так и остаются в бессознательном, не находят возможных путей доступа к сознанию.
Психоанализ нацелен на раскрытие динамики развертывания бессознательных процессов в психике человека.
Отличие психоаналитического понимания бессознательного от тех трактовок его, содержавшихся в предшествующей философии и психологии, состояло в том, что Фрейд не ограничился рассмотрением соотношений между сознанием и бессознательным, а обратился к анализу бессознательного психического для выявления его возможных составляющих. При этом он открыл то новое, что не являлось объектом изучения в предшествующей психологии. Оно состояло в том, что бессознательное стало рассматриваться с точки зрения наличия в нем несводящихся друг к другу составных частей, а главное — под углом зрения функционирования различных систем, в своей совокупности составляющих бессознательное психическое. Как писал Фрейд в «Толковании сновидений», бессознательное обнаруживается в качестве функции двух раздельных систем. В понимании Фрейда, бессознательное характеризуется некой двойственностью, выявляемой не столько при описании бессознательных процессов как таковых, сколько при раскрытии динамики их функционирования в человеческой психике. Для основателя психоанализа признание наличия двух систем в бессознательном стало отправной точкой его дальнейшей исследовательской и терапевтической деятельности.
Как писал Фрейд в «Толковании сновидений», бессознательное обнаруживается в качестве функции двух раздельных систем. В понимании Фрейда, бессознательное характеризуется некой двойственностью, выявляемой не столько при описании бессознательных процессов как таковых, сколько при раскрытии динамики их функционирования в человеческой психике. Для основателя психоанализа признание наличия двух систем в бессознательном стало отправной точкой его дальнейшей исследовательской и терапевтической деятельности.
Нанесенный психоанализом психологический удар по нарциссическому Я заставил многих теоретиков и практиков по-новому взглянуть на человека, который традиционно считался символом и оплотом сознательной деятельности. Фрейд же в своей исследовательской и терапевтической работе стремился показать, каким образом и почему самомнение человека о всесилии и всемогуществе своего Я представляется не чем иным, как иллюзией, навеянной желанием быть или казаться таким, каким он не является на самом деле. При этом основатель психоанализа значительное внимание уделил раскрытию именно слабых сторон Я, чтобы тем самым развеять существующие иллюзии о его всемогуществе. Это вовсе не означало, что подчеркивание в исследовательском плане слабого Я оборачивалось в практике психоанализа низведением человека до несчастного существа, обреченного на вечные страдания и муки вследствие своего бессилия перед бессознательными влечениями, силами и процессами. Напротив, терапевтические усилияпсихоанализа преследовали важную цель, направленную на укрепление слабого Я.
При этом основатель психоанализа значительное внимание уделил раскрытию именно слабых сторон Я, чтобы тем самым развеять существующие иллюзии о его всемогуществе. Это вовсе не означало, что подчеркивание в исследовательском плане слабого Я оборачивалось в практике психоанализа низведением человека до несчастного существа, обреченного на вечные страдания и муки вследствие своего бессилия перед бессознательными влечениями, силами и процессами. Напротив, терапевтические усилияпсихоанализа преследовали важную цель, направленную на укрепление слабого Я.
В рамках психоанализа реализация данной цели означала такую перестройку организации Я, благодаря которой его функционирование могло быть более независимым от Сверх-Я и способствующим освоению территории Оно, ранее неизвестной человеку и остающейся бессознательной на протяжении его предшествующей жизни. Фрейд исходил из того, что поскольку Я пациента ослаблено внутренним конфликтом, то аналитик должен придти к нему на помощь. Используя соответствующую технику, основанную на психоаналитической работе с сопротивлениями и переносом, аналитик стремится оторвать пациента от его опасных иллюзий и укрепить его ослабленное Я. Если аналитику и пациенту удастся объединиться против инстинктивных требований Оно и чрезмерных требований Сверх-Я, то в процессе психоаналитического лечения происходит преобразование бессознательного, подавленного в предсознательный материал, осознание бесплодности предшествующих патологических защит и восстановление порядка в Я. Окончательный исход лечения будет зависеть от количественных отношений, то есть от доли энергии, которую может мобилизовать аналитик у пациента в пользу аналитической терапии по сравнению с количеством энергии сил, работающих против исцеления как такового.
Если аналитику и пациенту удастся объединиться против инстинктивных требований Оно и чрезмерных требований Сверх-Я, то в процессе психоаналитического лечения происходит преобразование бессознательного, подавленного в предсознательный материал, осознание бесплодности предшествующих патологических защит и восстановление порядка в Я. Окончательный исход лечения будет зависеть от количественных отношений, то есть от доли энергии, которую может мобилизовать аналитик у пациента в пользу аналитической терапии по сравнению с количеством энергии сил, работающих против исцеления как такового.
Вместе с тем структуризация психики и рассмотрение Я через призму опасностей, подстерегающих его со стороны внешнего мира, Оно и Сверх-Я, поставили Фрейда перед необходимостью осмысления того психического состояния, в котором может пребывать беззащитное Я. Как показал основатель психоанализа, подвергнутое опасностям с трех сторон и неспособное всегда и во всем давать достойный отпор, несчастное Я может стать сосредоточением страха.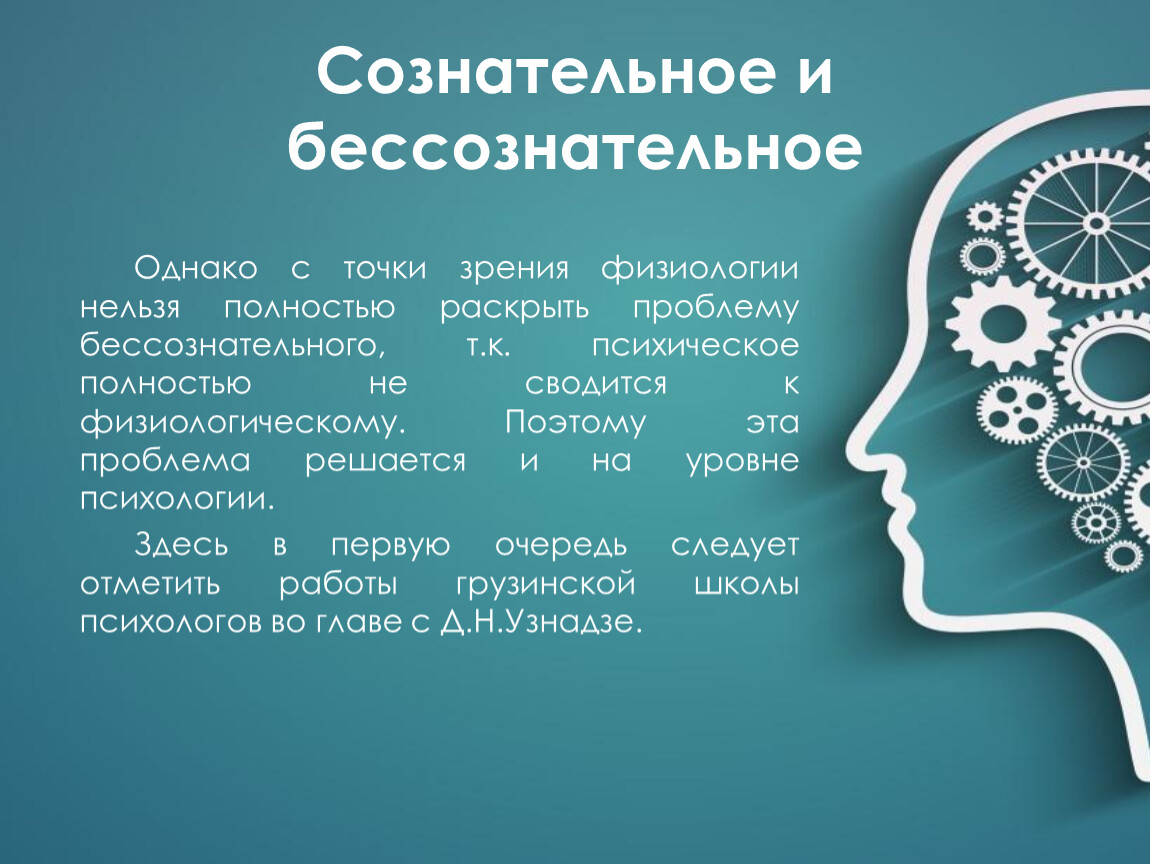 Дело в том, что отступление перед какой-либо опасностью чаще всего сопровождается у человека появлением страха. Беззащитное Я сталкивается с опасностями, исходящими с трех сторон, то есть возможность возникновения страха у него троекратно увеличивается. Если Я не может справиться с грозящими ему опасностями и, соответственно, признает свою слабость, то в этом случае как раз и возникает страх. Точнее говоря, Я может испытывать три рода страха, которые, по мнению Фрейда, сводятся к реальному страху перед внешним миром, страху совести перед Сверх-Я и невротическому страху перед силой страстей Оно.
Дело в том, что отступление перед какой-либо опасностью чаще всего сопровождается у человека появлением страха. Беззащитное Я сталкивается с опасностями, исходящими с трех сторон, то есть возможность возникновения страха у него троекратно увеличивается. Если Я не может справиться с грозящими ему опасностями и, соответственно, признает свою слабость, то в этом случае как раз и возникает страх. Точнее говоря, Я может испытывать три рода страха, которые, по мнению Фрейда, сводятся к реальному страху перед внешним миром, страху совести перед Сверх-Я и невротическому страху перед силой страстей Оно.
К списку статей по Коучингу и бизнес-консультированию
К списку статей по Клинической парадигме менеджмента
К списку статей по Истории и теории психоанализа
К списку статей А. В. Россохина в журнале «Psychologies»
Сознательное и бессознательное в психики человека
ГЛАВА
2. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
ПРОЯВЛЕНИЕ В ПСИХИКЕ
И ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА.
2.1.
Становление проблемы
Наряду
с сознательными формами
Общая
идея о бессознательном встречается
еще в древнеиндийском учении
Потанджали, в котором это понятие трактовали
как высший уровень познания, как институт
и даже как движущая сила вселенной. Проблема
бессознательного нашла отражение в учении
Платона о познании как воспоминании,
тесно связанным с идеей и наличии в душе
скрытых, неосознанных знаний, о которых
сам субъект может даже совсем ничего
и не подозревать. Так же проблемой бессознательного занимались
и другие философы (Декарт, Спиноза, Лейбниц,
Кант, Шопенгауэр, Ницше и др. ).
).
Такие психологи, как Фехнер, Вундт и другие положили начало психологическому исследованию проблемы бессознательного.
Вундт считал, что восприятие и сознание базируются на осознаваемых логических процессах. Он пытался установить связь законов логического развития мысли с бессознательными явлениями, утверждал существование не только осознаваемого, но и неосознанного «Мы».
Существенным толчком в исследовании бессознательного явились опыты в области психиатрии, прежде всего французских психиатров Шарко и Жане, которые в лечебных целях стали применять гипнотические методы воздействия на сферу сознательного.
Сеченов
прямо выступил против концепций, отожествлявших
психическое и сознательное. Павлов
связывал явление бессознательного с
исследованием тех участков мозга, которые
обладают минимальной возбудимостью.
2.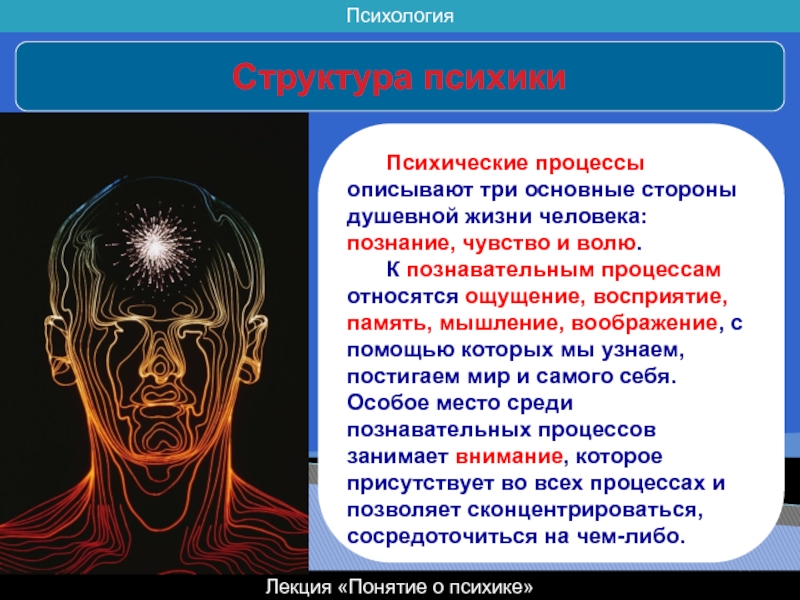 2.
Определение и типы проявлений бессознательного
в психике человека.
2.
Определение и типы проявлений бессознательного
в психике человека.
Особенно активно бессознательное стало изучаться в начале XX в. Этой проблемой занимались различные ученые, но уже результаты первых исследований показали, что проблема бессознательного настолько обширна, что вся осознаваемая человеком информация — это лишь маленькая часть огромного целого.
Совокупность психических явлений, состояний и действий, не представленных в сознании человека, лежащих вне сферы его разума, безотчетных и не поддающихся, по крайней мере, в данный момент, контролю, охватывается понятием бессознательного. Оно может выступать:
- как установка, инстинкт, влечение;
- как ощущение, восприятие, представление и мышление;
- как интуиция;
- как гипнотическое состояние или сновидение, состояние аффекта или невменяемости.
К
бессознательным явлениям относят
и подражание, и творческое вдохновение,
сопровождающееся внезапным «озарением»
новой идеей, рождающихся как бы от какого-то
толчка изнутри, случаи мгновенного решения
задач, долго не поддававшихся сознательным
усилиям, непроизвольные воспоминания
о том, что казалось прочно забытым.
2.3. Классификация бессознательных психических процессов.
Все
бессознательные психические
В свою очередь, в первый класс бессознательных механизмов сознательных действий входят три класса: бессознательные автоматизмы, бессознательные установки, бессознательные сопровождения сознательных действий.
Под
бессознательными автоматизмами подразумевают
обычно действия или акты, которые совершаются
без участия сознания, как бы «сами собой».
Они имеют двоякую природу. Одни процессы
составляют группу первичных автоматизмов
(сюда входят врожденные или сформированные
в первый год жизни действия: сосательные
движения, мигание и конвергенция глаз,
схватывание предметов, ходьба и многое
другое). Другие называются навыками. К
этой группе действий относятся те, которые
вначале были осознаваемы, но затем в результате
многократного повторения и совершенствования
их выполнение перестало требовать участия
сознания, они стали исполняться автоматически.
Например, обучение игре на музыкальных
инструментах.
Другие называются навыками. К
этой группе действий относятся те, которые
вначале были осознаваемы, но затем в результате
многократного повторения и совершенствования
их выполнение перестало требовать участия
сознания, они стали исполняться автоматически.
Например, обучение игре на музыкальных
инструментах.
Под бессознательными сопровождениями сознательных действий понимают непроизвольные движения, тоническое напряжение, мимику и пантомимику, а так же большой класс вегетативных движений, сопровождающих действия и состояния человека. Например, человек, слушающий музыку, в такт покачивает головой.
Во второй класс — бессознательных побудителей сознательных действий — входят: сновидения, ошибочные действия, невротические симптомы. Такое деление исходило из теории З. Фрейда.
Третий
класс бессознательных процессов образуют
«надсознательные» процессы. К этой категории
относятся процессы образования некоего
интегрального продукта в результате
большой сознательной (как правило, интеллектуальной)
работы.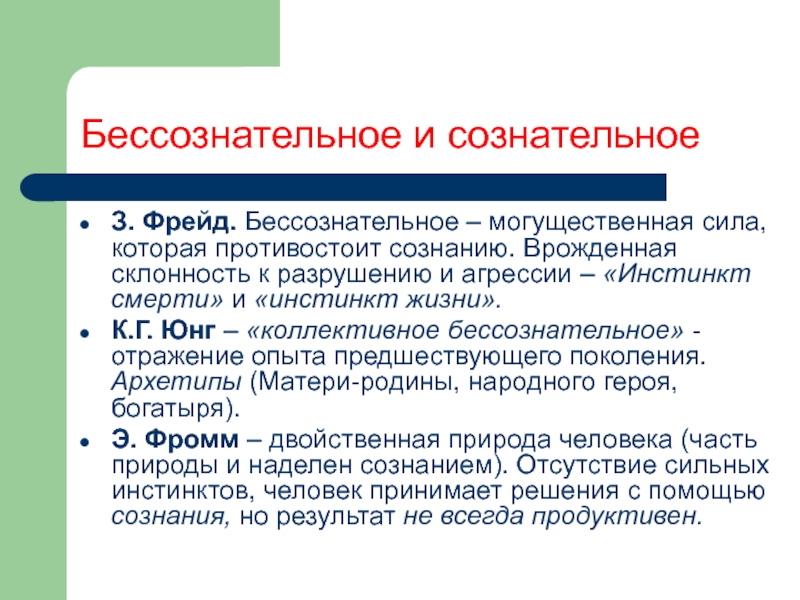 Например, мы пытаемся решить какую-то
сложную проблему, но нам это не удается.
И вдруг, неожиданно, как-то само собой,
а, иногда используя какой-то незначительный
повод, мы приходим к решению данной проблемы.
Например, мы пытаемся решить какую-то
сложную проблему, но нам это не удается.
И вдруг, неожиданно, как-то само собой,
а, иногда используя какой-то незначительный
повод, мы приходим к решению данной проблемы.
ГЛАВА 3. ПОДСОЗНАНИЕ В РАБОТАХ З. ФРЕЙДА.
3.1. Учение З. Фрейда о структуре психики человека: сознание, предсознание и бессознательное.
Согласно теории Фрейда, в психике человека существуют три сферы, или области: сознание, предсознание и бессознательное. К категории сознания он относил все, что осознается и контролируется человеком. К области предсознания Фрейд относил скрытые, или латентные, знания. Это те знания, которыми человек располагает, но которые в данный момент отсутствуют в сознании. Они инициируются при возникновении соответствующего стимула.
Таким
образом, можно сделать вывод
о том, что психика значительно шире
сознания. «Сознание – это лишь видимая
часть айсберга, а его большая часть скрыта
от осознанного контроля человеком».
«Сознание – это лишь видимая
часть айсберга, а его большая часть скрыта
от осознанного контроля человеком».
Область бессознательного, по Фрейду, обладает совершенно другими свойствами. Первое свойство заключается в том, что содержание этой области, не сознаётся, но оказывает чрезвычайно существенное влияние на наше поведение. Область бессознательного действенна. Второе свойство заключается в том, что информация находящаяся в области бессознательного, с трудом переходит в сознание. Объясняется это работой двух механизмов: вытеснения и сопротивления [Там же].
По
мнению Фрейда, психическая жизнь человека
определяется его влечениями, главное
из которых — сексуальное (либидо). Оно
есть уже у младенца, но из-за существования
множества запретов сексуальные переживания
вытесняются из сознания и живут в сфере
бессознательного. Они (влечения) имеют
большой энергетический заряд, однако
в сознание не пропускаются, поскольку
сознание оказывает им сопротивление. Тем не менее, они периодически прорываются
в сознательную жизнь человека, принимая
искаженную или символическую форму.
Тем не менее, они периодически прорываются
в сознательную жизнь человека, принимая
искаженную или символическую форму.
В своей теории Фрейд выделял три основные формы проявления бессознательного: сновидения, ошибочные действия, невротические симптомы. Для исследования проявлений бессознательного в рамках теории психоанализа были разработаны методы их изучения — метод свободных ассоциаций, где проявляются скрытые переживания и метод анализа сновидений. Необходимость анализа снов, по мнению Фрейда, связана с тем, что во время сна снижается уровень контроля сознания и перед человеком предстают сновидения, обусловленные частичным прорывом в сферу сознания его влечений, которые блокируются сознанием в состоянии бодрствования.
Особое
внимание Фрейд уделял невротическим
симптомам. Согласно его представлениям,
невротические симптомы — это следы вытесненных
травмирующих обстоятельств, которые
образуют в сфере бессознательного сильно
заряженный очаг и оттуда производят разрушительную
работу по дестабилизации психического
состояния человека.
Подавленное
сексуальное влечение, по мнению Фрейда,
и является причиной невротических
расстройств, но существуют и другие причины
— это разнообразные неприятные переживания,
сопровождающие обыденную жизнь. В результате
вытеснения в сферу бессознательного
они так же образуют сильные энергетические
очаги, которые проявляются в так называемых
«ошибочных действиях». К ошибочным действиям
Фрейд относил забывание определенных
фактов, намерений, имен, а так же описки,
оговорки. Именно в них, согласно Фрейду,
содержатся истинные намерения человека,
тщательно скрываемые от других.
ГЛАВА 4. СОН И СНОВИДЕНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ПСИХИКЕ ЧЕЛОВЕКА.
4.1. Сон и бодрствование.
Как
уже было сказано ранее, З. Фрейд
в своих книгах рассматривал практически
любые сны как следствие сексуальной дисгармонии. Со столь нетрадиционным подходом, он
был не понят при жизни, однако со временем
интерес к его трудам стал нарастать, и
сегодня его теория является одной из
самых известных.
Со столь нетрадиционным подходом, он
был не понят при жизни, однако со временем
интерес к его трудам стал нарастать, и
сегодня его теория является одной из
самых известных.
Представляется,
что сон и бодрствование
Мы думаем, когда спим, так как видим сновидения (хотя тип мышления во сне отличен от типа мышления при бодрствовании), запоминаем события во сне и можем пересказать их во время бодрствования. Это мы знаем из опыта запоминания снов; некоторые сны помнятся всю жизнь.
Сон
не является абсолютным покоем. Мы двигаемся
во сне, а некоторые люди даже ходят. Во
сне мы не отключаемся от внешней информации
полностью и готовы к приему определенных
сигналов, например, родители слышат плач
маленького ребенка. Сон не уничтожает наших
планов. Так, некоторые люди планируют
время пробуждения и встают в строго намеченное
время.
Так, некоторые люди планируют
время пробуждения и встают в строго намеченное
время.
Данное
сравнение показывает, что нет
строгой границы между сном и
бодрствованием по наличию психических
процессов, протекающих в этих состояниях.
Основные данные, полученные за годы многочисленных
и разнообразных исследований сна, сводятся
к представлению, что сон — это не пассивность
и бездеятельность, а иное состояние. Мозг
продолжает активно функционировать.
Изучение процессов, происходящих в мозге
при бодрствовании и сне, показывает, что
эти состояния различаются но типу мозговой
активности.
4.2. Фазы сна.
Во
время сна мозг проходит через
несколько различных фаз, которые
повторяются примерно каждые полтора
часа. Сон состоит из двух качественно
различных состояний — медленного сна
и быстрого сна. Они отличаются по типам
электрической активности мозга, вегетативным
показателям (сердечные сокращения, дыхание),
тонусу мышц, движениям глаз.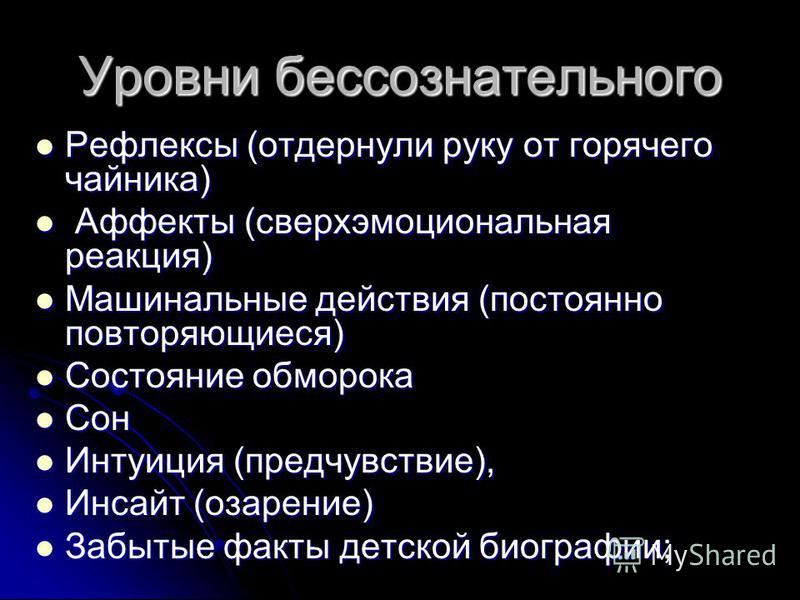
Медленный сон подразделяется на 4 стадии:
Дремота. На этой стадии исчезает основной биоэлектрический ритм бодрствования — альфа-ритм. Он сменяется низкоамплитудными колебаниями. Это стадия засыпания. На этой стадии у человека могут возникать сноподобные галлюцинации.
Поверхностный сон. Характеризуется появлением веретен сна — веретенообразный ритм 14-18 колебаний в секунду. При появлении первых веретен сна сознание человека отключается. В паузах между такими веретенами человека легко разбудить.
Дельта-сон.
Эти стадии названы так, потому что на
них появляются высоко амплитудные, медленные
колебания в ЭЭГ — дельта-волны. Это наиболее
глубокий период сна. У человека снижен
мышечный тонус, отсутствуют движения
глаз, становится реже и стабилизируется
ритм дыхания и пульс, понижается температура
тела (на 0,5 °С). Пробудить человека из дельта-сна
очень трудно. Как правило, разбуженный
в этих фазах сна человек не помнит сновидений,
он плохо ориентируется в окружающем пространстве,
неверно оценивает временные промежутки
(недооценивает время, проведенное во
сне). Дельта-сон — период наибольшего отключения
от внешнего мира, преобладает в первую
половину ночи.
Как правило, разбуженный
в этих фазах сна человек не помнит сновидений,
он плохо ориентируется в окружающем пространстве,
неверно оценивает временные промежутки
(недооценивает время, проведенное во
сне). Дельта-сон — период наибольшего отключения
от внешнего мира, преобладает в первую
половину ночи.
Бессознательное в структуре психики человека
В бессознательном, в отличие от сознания, невозможен целенаправленный контроль человеком тех действий, которые он совершает, невозможна и оценка их результата. К бессознательным явлениям относятся и некоторые патологические явления, возникающие в психике больного человека: бред, галлюцинации и т. д. Бессознательное — это столь же специфически человеческое психическое проявление, как и сознание, оно детерминировано общественными условиями существования человека, выступая как частичное, недостаточно адекватное отражение мира в мозгу человека. [1, с.329]
Таким
образом, сознание – это наивысшая, свойственная
только человеку функция головного мозга,
выражающаяся в целенаправленном отражении
мира, предварительном построении действий,
предвидении их результатов, регулировании
взаимоотношений человека со средой и
познании мира.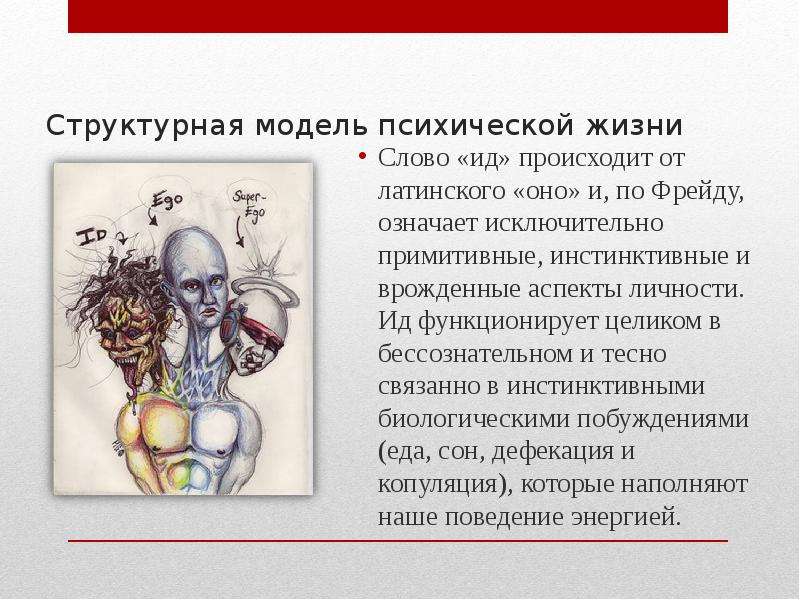
Глава
2. Бессознательное проявление в психике
человека
2.1.
Изучение бессознательного
Общая идея о бессознательном встречается еще в древнеиндийском учении Потанджали, в котором это понятие трактовали как высший уровень познания, как институт и даже как движущая сила вселенной.
Проблема бессознательного нашла отражение в учении Платона о познании как воспоминании, тесно связанным с идеей и наличии в душе скрытых, неосознанных знаний, о которых сам субъект может даже совсем ничего и не подозревать.
Иное освещение вопрос приобрел в концепции Декарта, который исходил из тождества психики и сознания. Отсюда идея о том, что за предметами сознания протекают не только физиологические, но и психические процессы.
Спиноза
утверждал, что люди осознают свои желания,
но не причины, которые их определяют.
В истории философской и психологической мысли впервые лишь Лейбницу удалось вполне отчетливо сформулировать концепцию бессознательного как низшей формы духовной деятельности. Бессознательными бывают врожденные, приобретенные и вытесненные из сознания идеи. [4]
Кант связывал понятие бессознательного с чувственным познанием, с интуицией. Он указал на наличие сферы восприятия чувств, которые не осознаются, хотя и можно прийти к выводу об их существовании.
В
противоположность принципам
В
иррациональном духе трактовал бессознательное
и Ф. Ницше. Он считал, что вера в
человеческом разуме играет второстепенную
роль и в конечном счете быть может
исчезнуть и уступить место полнейшему
автоматизму, то есть деятельности, осуществляемой
бессознательно.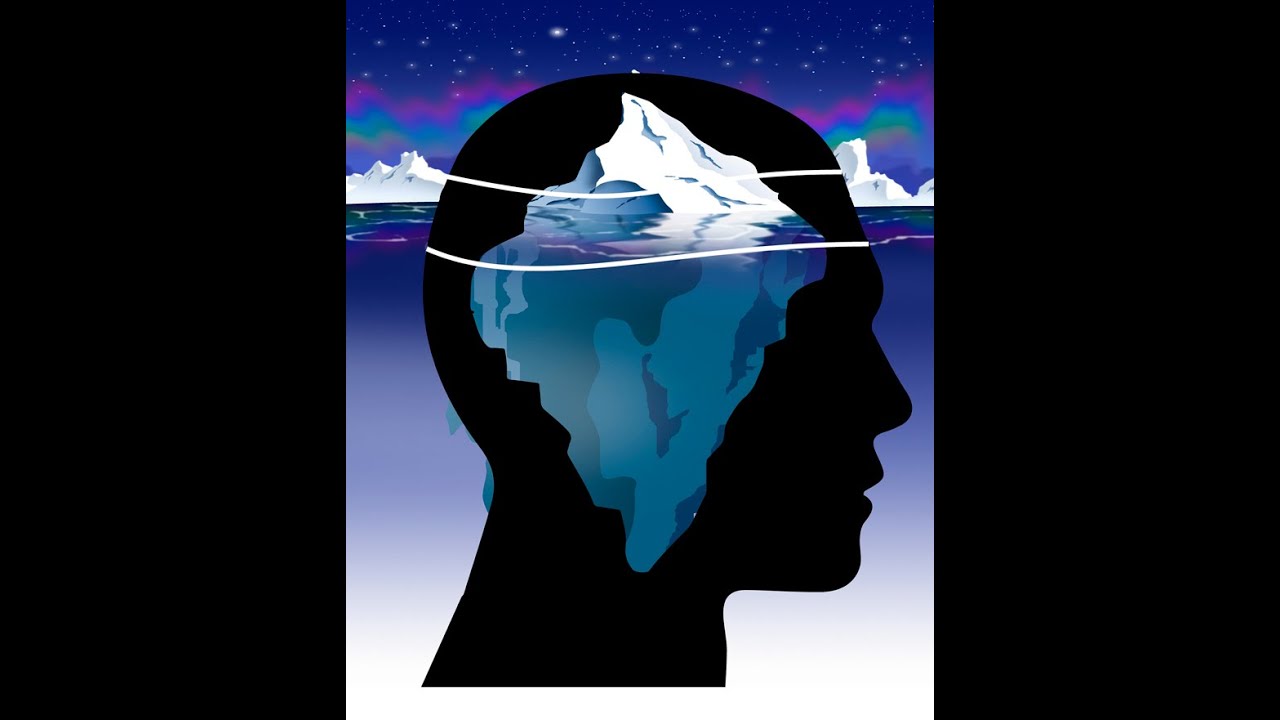
Такие психологи, как Гербарт, Фехнер, Вундт и др. положили начало психологическому исследованию проблемы бессознательного. Согласно Гербарту, несовместимые идеи могут вступить между собой в конфликт. При этом более слабые психические явления вытесняются из сознания, продолжая воздействовать на него.
Вундт считал, что восприятие и сознание базируются на осознаваемых логических процессах. Он пытался установить связь законов логического развития мысли с бессознательными явлениями, утверждал существование не только осознаваемого, но и неосознанного “Мы”.
Существенным
толчком в исследовании бессознательного
явились опыты в области
Сеченов
прямо выступил против концепций, отожествлявших
психическое и сознательное.
Павлов связывал явление бессознательного с исследованием тех участков мозга, которые обладают минимальной возбудимостью.
Первое
международное совещание, посвященное
проблеме бессознательного, состоялось
лишь в 1910 г. в Бостоне (США). Еще тогда осознали,
что бессознательное есть фактор, учет
которого необходим при анализе самых
важных вопросов поведения, клиники, наследственности,
природы эмоции, произведений искусства,
взаимоотношения людей. Бессознательное
обсуждалось ими как объясняющий фактор,
но путей к осмыслению его особенностей
и закономерностей не предлагалось. [4]
2.2.
Бессознательное в психике человека
Наряду с сознательными формами отражения и деятельности для человека характерны и такие, которые находятся как бы за “порогом” сознания. Термины “бессознательное”, “подсознательное”, “неосознанное” часто встречаются в научной и художественной литературе, а также в обыденной жизни. Говорят: “Он сделал это неосознанно”, “Он не хотел этого, но так получилось” и прочее. Повседневный опыт знакомит нас с мыслями, которые всплывают у нас в голове, и неизвестно откуда и как они возникают.
Психическая деятельность может находиться в фокусе сознания, а иногда не достигает уровня сознания (досознательное или предсознательное состояние) или опускается ниже порога сознания (подсознательное). Совокупность психических явлений, состояний и действий, не представленных в сознании человека, лежащих вне сферы его разума, безотчетных и не поддающихся, по крайней мере, в данный момент, контролю, охватывается понятием бессознательного. Неосознанное выступает то как установка, инстинкт, влечение, то как ощущение, восприятие, представление, мышление, то как интуиция, то как гипнотическое состояние или сновидение, состояние аффекта или невменяемости. К бессознательным явлениям относят и подражание, и творческое вдохновение, сопровождающееся внезапным “озарением” новой идеей, рождающихся как бы от какого-то толчка изнутри, случаи мгновенного решения задач, долго не поддававшихся сознательным усилиям, непроизвольные воспоминания о том, что казалось прочно забытым, и другое. [4]
С физиологической точки зрения бессознательные процессы выполняют своего рода охранительную функцию: они разгружают мозг от постоянного напряжения сознания там, где в этом нет необходимости.
Человеческий разум нес бы на себе непомерно тяжелый груз, если бы он вынужден был контролировать каждый психический акт, каждое движение и действие. Человек не мог бы ни результативно думать, ни разумно действовать, если бы все элементы его жизнедеятельности одновременно потребовали сознания.
Как зарождается бессознательное? – этот вопрос также достоин внимания. [4] Бессознательное возникает в детстве человека. Практически каждый вспоминает из раннего детства только отрывочные детали ничего не значащих сцен, совершенно забыв те события, которые тогда были для него важнее всего. Эти собственно детские душевные силы, не воспринимаемые сознанием взрослого, не могут бесследно исчезнуть. В психическом мире также господствует закон сохранения энергии, инфантильное, вытесненное из сознательной душевной жизни, не исчезает, оно образует тот центр, вокруг которого кристаллизуется бессознательная душевная жизнь. Следствием такого положения была бы никогда не кончающаяся борьба; сознание, которое должно разбираться во впечатлениях внешнего мира, было бы всецело занято восприятием этой психической борьбы, и психическая экономия была бы нарушена. Только вытеснение пережитых форм удовлетворения полового чувства из поля зрения сознания дает возможность сохранить сознание для чувствительных восприятий и удержать психику в равновесии. На пути своего развития человеку приходится отказываться боле всего в сексуальной области, и этот отказ труднее всего провести в жизнь; но содержание бессознательного образует и другие, не приведенные в исполнение желания. Следствием неудачного вытеснения является невроз. Но и у здоровых людей, при благоприятных условиях сна, невыполненные желания в определенный момент вступают в связь с детскими, и из этого соединения возникает сновидение.
Существует
известный психологический
При столкновении двух антогонистов, например, при противопоставлении любви и ненависти, когда оба чувства направлены на один и тот же объект, более слабое должно уйти в бессознание. Бессознательное желание влияет в определенном направлении на важнейшие процессы душевной жизни.
Таким образом, бессознание как психическое явление – это специфическое отражение действительности, выражение потребностей организма и переживание определенной модальности; оно способно к различению, выбору, творчеству, угадыванию.
Бессознательное
не аморфно. Оно имеет структуру, элементы
которого связаны между собой.
2.3.
Неосознаваемые психические процессы.
Их классификация
Все неосознаваемые психические процессы принято разделять на три класса: неосознаваемые механизмы сознательных действий, неосознаваемые побудители сознательных действий, «надсознательные» процессы. [3, с.149]
Неосознаваемые механизмы сознательных действий.
В свою очередь, в первый класс — неосознаваемых механизмов сознательных действий — входят три подкласса: неосознаваемые автоматизмы; явления неосознаваемой установки; неосознаваемые сопровождения сознательных действий.
Под неосознаваемыми автоматизмами подразумевают обычно действия или акты, которые совершаются без участия сознания, как бы «сами собой». В этих случаях часто говорят о «механической работе», о работе, «при которой голова остается свободной». Вот это состояние — состояние «свободной головы» — и означает отсутствие сознательного контроля. Следует отметить, что процессы, входящие в подкласс неосознаваемых автоматизмов, имеют двоякую природу.
Одни процессы никогда не осознавались, а другие сначала были осознаваемыми, но затем перестали фиксироваться в сознании. Первые процессы составляют группу первичных автоматизмов. Эту группу процессов еще иногда называют автоматическими действиями. В данную группу входят действия, которые являются врожденными или были сформированы в первый год жизни ребенка.
К их числу относятся: сосательные движения, мигание и конвергенция глаз, схватывание предметов, ходьба и многое другое.
Вторая
группа явлений, входящих в подкласс
неосознаваемых автоматизмов, называется
автоматизированными
Процесс формирования навыков имеет фундаментальное значение для каждого индивида, поскольку он лежит в основе развития всех наших умений, знаний и способностей. Например, обучение игре на музыкальных инструментах. Все начинается с простого — с обучения правильной посадке, правильному положению рук. Затем отрабатывается аппликатура пальцев и формируется техника исполнения. Постоянные тренировки со временем позволяют перейти на более высокий уровень исполнения музыкального произведения, которое начинает звучать выразительно и чувственно. Так, путем продвижения от простых движений к сложным, благодаря передаче на неосознаваемые уровни уже освоенных действий, человек приобретает мастерство исполнения.
Конечно, не надо думать, что в процессе освобождения действий от сознательного контроля человек совсем не знает, что он делает, — контроль за деятельностью остается. Поле сознания (поле — эта та область информации, которая осознается в определенный момент времени) не однородно.
Можно выделить фокус сознания, периферию, а также границу, за которой начинается область бессознательного. При выполнении какой-либо деятельности часть действии, являющихся наиболее сложными и требующих постоянного контроля, находятся в фокусе нашего сознания. Более отработанные или более простые действия оттесняются на периферию нашего сознания, а наиболее освоенные или наиболее простые действия уходят за границу нашего сознания в область бессознательного. Таким образом, контроль сознания за деятельностью человека в целом сохраняется.
Соотношение
отдельных компонентов
что такое новое бессознательное и чем оно отличается от старого — T&P
С понятием «бессознательное» сталкивался каждый. Мы часто используем его в житейских разговорах, оправдывая свое поведение или пытаясь понять мотивы других людей. Бессознательное ассоциируется в первую очередь с Фрейдом, но современные исследования вопроса ушли далеко от концепций основоположника психоанализа. T&P рассказывают о новых интерпретациях термина.
Первые попытки
Чтобы понять, как сейчас ученые смотрят на проблемы сознания и бессознательного, стоит вспомнить историю науки. Первым понятие «бессознательное» ввел Лейбниц, уподобив его океану, над которым возвышаются островки сознания. Дэвид Гартли, основоположник ассоцианизма, первым связал проявления бессознательного с деятельностью нервной системы. Немецкому психологу Иоганну Гербарту принадлежит авторство термина «вытеснение». Он предположил, что несовместимые идеи постоянно вступают в конфликт, победившие идеи и желания вытесняют побежденные, однако последние слабо, но постоянно воздействуют на поведение человека.
Концепция Фрейда возникла из его практики лечения истерии. Наблюдения за пациентами сложились в стройную теорию, которую обрывочно знают почти все: эго, суперэго, ид; постоянные конфликты; попытки человека совладать с бессознательным и достигнуть психологического здоровья. Но среди ученых к теории Фрейда сложилось неоднозначное отношение. Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Питер Медавар называл психоанализ «самым грандиозным интеллектуальным мошенничеством XX века». Излишний акцент на либидо, представление о человеке как о жертве в битве страстей и совести, отсутствие физиологической базы — аргументов против было предостаточно. Понятие бессознательного надолго вытеснили из академической науки.
Неакадемические исследования
Интерес к бессознательному возрос во второй половине XX века. Правда, не в академической среде, а среди психотерапевтов и приверженцев философии «нью-эйдж». Опирались на неосознаваемый опыт человека и создатели НЛП, и Милтон Эриксон. Во время сеансов эриксоновского гипноза терапевт вводит клиента в состояние транса и вытягивает наружу вытесненные идеи. Создатель НЛП Ричард Бендлер также отталкивался от идеи бессознательного: человек не осознает свои способы восприятия мира, и терапевт помогает их осознать, а затем изменить.
Американский клинический психолог Роджер Каллахен, который разработал терапию мысленного поля (TFT) в соответствии с традициями китайской медицины, считал, что воздействовать на подсознание можно нажатием на акупунктурные точки на теле человека. Теория, лежащая в основе TFT, утверждает, что отрицательные эмоции приводят к блокировке энергии ци, и если энергию разблокировать, то страхи исчезнут. Впрочем, несмотря на миллионы почитателей, методика Каллахена не получила признания в кругу ученых: она больше похожа на эзотерическое учение, чем на научное исследование бессознательного.
Новое бессознательное
Главные открытия в области бессознательного произошли на стыке психологии и нейрофизиологии. Американский психолог Аллан Гобсон вместе с коллегами исследовал активность человеческого мозга во время сна и открыл периоды быстрого и медленного сна. К бессознательным эффектам это имеет прямое отношение: во-первых, эксперименты Гобсона придали ускорение психофизиологическим исследованиям в целом, а во-вторых, доказали, что психические изменения (например, просмотр сновидений) можно отследить по физическим реакциям. Эксперименты позволили замечать проявления бессознательного, недоступного интроспективному анализу. Именно в сторону определения нейрофизиологических причин и двинулись некоторые исследователи. Желающих было немного, потому что изучение бессознательного в академической науке все еще было табуировано. Социопсихолог Дэниел Гилберт говорил, что «из-за духа сверхъестественности фрейдовского бессознательного вся концепция оказалась несъедобной».
Долго доказывая пользу изучения бессознательного, Гобсон и Гилберт добились своего, но термин поменяли на «новое бессознательное». Теперь ученые считают, что некоторые мыслительные процессы становятся бессознательными не из-за механизмов вытеснения: они заложены глубоко в структуре мозга, в его древних областях, работающих параллельно с недавно развившимися участками. Неосознаваемые переживания стали восприниматься как норма, а не как досадное искажение мыслительного процесса.
Современные исследования бессознательного делятся на три группы: бессознательное восприятие, бессознательная память, бессознательное социальное восприятие.
В число ученых, занимающихся проблемами восприятия, входит и американский нейробиолог Кристоф Кох. Еще во время Второй мировой войны медикам стало известно о парадоксе зрения, вызванном черепно-мозговыми травмами и контузиями. Человек с таким нарушением зрения смотрел на объект, не осознавая, что видит его, но информация об объекте поступала в мозг. Пациенты, например, эмоционально реагировали на изображение человеческого лица, совершенно не понимая, что именно они видят. Кох провел эксперимент, позволяющий добиться того же эффекта со здоровыми людьми. Подопытным одновременно показывали две картинки, разные для каждого глаза. Одна была статичной, другая менялась, но мозг воспринимал только меняющуюся картинку. Кох пришел к выводу, что информация о статичной картинке получена, но не интерпретирована. Но как же ее выловить? Это смогла сделать другая группа ученых. Участникам эксперимента показывали не просто статичную картинку, а картинку с эмоционально значимым изображением — например, фотографию обнаженной женщины (для женщин — фотографию мужчины). Испытуемые успешно распознавали эротические картинки.
Бессознательную память изучал психолог Дэн Саймонс. Он собрал воспоминания ньюйоркцев про 11 сентября: что они делали в момент, когда узнали о трагедии. Как оказалось, память подводила людей: подкидывала воспоминания, которых не было. Многие отмечали, что находились рядом с телевизором, звонили знакомым, хотя на самом деле занимались своими делами. Такое же искажение памяти демонстрируют 75% свидетелей по уголовным делам — Ассоциация юристов США отмечает, что к свидетельским показаниям нужно относиться с большой осторожностью. Проблема в том, что память работает по нарративному принципу. Мы склонны складывать из воспоминаний истории, а если какой-то факт не ложится в сюжет, наш мозг неосознанно изменяет воспоминания о нем.
Еще большее значение имеет бессознательное социальное восприятие — неосознаваемые механизмы, отвечающие за представления о других людях. Самые интересные проблемы — выбор партнера и отношение к своим-чужим. Американский психолог Джон Йонс показал, что наибольшее число браков в США заключается между людьми с одинаковыми фамилиями, хотя вряд ли мистер Смит сознательно влюбляется в мисс Смит, а не в мисс Джонс. Исследования французского ученого Гюгена показали, что девушки охотнее оставляют свой номер телефона мужчинам, которые во время знакомства слегка касаются их — хотя само прикосновение прекрасные особы не осознают.
Масштабные исследования провел психолог Музафер Шериф в летнем лагере Робберз-Кейв. Двадцать два мальчика были поделены на две команды. Группы жили в отдалении друг от друга, и каждая считала себя единственной в округе. Когда команды встретились на соревновании по перетягиванию каната, они сразу начали враждовать. Объективных причин для этого не было — просто сработало восприятие, оставленное нам в наследство далекими предками. Древние области мозга отвечают за распознавание своих и чужих, критически важное для первобытного человека. Сейчас нам редко угрожают другие люди, но привычка восприятия осталась.
На данный момент ученые относятся к бессознательному как к ресурсной зоне, позволяющей накапливать информацию, быстро реагировать в неожиданных ситуациях и экономить силы, которые мы тратим на запоминание и мыслительные процессы. «Вытеснение» ушло из словаря психологов, мотивационные теории признают понятие «влечение», но считают, что человек способен его обуздать. Бессознательное больше не наш враг, но друг и помощник, с которым можно договориться и о котором нужно узнать как можно больше.
Сознание и бессознательное в психике и поведении человека
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
Кафедра социологии и психологии управления
Творческая работа
«Сознание и бессознательное в психике и поведении человека»
по дисциплине «Психология»
Выполнила
студентка 1 курса
группы УП1-1
Каменева Ксения Алексеевна
Проверил преподаватель
Ермаков Максим Евгеньевич
ученая степень ____________
ученое звание _____________
Москва 2018
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА I. СОЗНАНИЕ 4
1.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЗНАНИЯ 4
1.2. СОЗНАНИЕ КАК ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ 6
1.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЗНАНИЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 9
ГЛАВА II. БЕССОЗНАНИЕ 11
2.1. ИССЛЕДОВАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ФИЛОСОФАМИ И УЧЕНЫМИ 11
2.2. КАК ЗАРОЖДАЕТСЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ? 13
2.3. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В ПСИХИКЕ И ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 15
2.4. УСТАНОВКА КАК ФОРМА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 16
ГЛАВА III. ТЕОРИЯ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
ЛИТЕРАТУРА 24
ВВЕДЕНИЕ
Главное отличие человека от животного лежит в его способности рассуждать и мыслить абстрактно, размышлять своей прошлой жизни, давать ей критическую оценку, и думать о будущей, прогнозируя и реализуя планы и программы. Все это связано с областью людского сознания. Проблема сознания и бессознательного давно и усиленно разрабатывается как в нашем государстве, так и в зарубежных. И сейчас возникают разнообразные точки зрения на суть и структуру сознания, на возникновение бессознательного и его взаимодействие с сознанием. Часто, совершив конкретный поступок, человек не может ответить самому себе на вопрос, почему он поступил именно так, а не по-другому. Сознание далеко не часто отвечает за наши поступки и чувства, определяет целенаправленность наших мыслей. Имеется еще и бессознательное. Очень часто именно оно является движущей силой влияния и предопределяет образ поведения человека. Мотивы и потребности, недостаточно опознанные человеком по очень различным причинам существенно влияют на сознательные мотивирующие установки. Важно помнить, что решения, которые влияют на наше будущее, могут рождаться и формироваться на неосознаваемом уровне. Думая о психике и поведении человека, нам стоит обратить своё внимание на проблему взаимосвязи сознания и бессознательного. Актуальность и важность проблемы сознания не требует ни доказательства, ни аргументирования. Эту проблему начали включать в число самых масштабных проблем современности. Эволюцию и изменчивость сознания, способы получения максимального количества полезной информации из области бессознательного и применения ее на практике объединяют с выживаемостью людей, с устранением возрастающей антропологической катастрофы. Задача данной работы предопределена как изучение сознания и бессознательных компонентов людской психики, их развитие, выражение и значение. Целями являются: 1) Выявление вопроса сознания как наивысшей этапа развития психики человека; 2) Обнаружение бессознательных проявлений в психике человека, их значимость в действии.
ГЛАВА I. СОЗНАНИЕ
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЗНАНИЯ
Сознание и в наши дни является объектом психологического изучения. Хроника проблемы сознания в Российской психологии еще ждет своего исследователя. Предреволюционный период можно охарактеризовать плодотворным в разработке задач сознания. Нам известно, что И. П. Павлов, основоположник науки о высшей нервной деятельности, высказал идею о коренных отличиях корковых процессов человека и животных, что связывалось им с присутствием у человека особенного класса условных сигналов – словесных раздражителей. Вопрос о особенности аналитико-синтетической деятельности мозга человека в сравнении с мозгом животных имеет прямое отношение к механизмам сознания. По Павлову вводят “новый принцип” в работу коры больших полушарий человека. В ранние 20-е года задача сознания начала вытесняться. В данное период совершается возникновение новейшего расклада в психологии, С. А. Рубенштейн связывал это с марксизмом, что было более ограничено по сравнению с психоанализом и реактологией. В лицевом проекте сыграла реактология с собственным пренебрежением к проблематике сознания, и психоанализ с собственным упором в исследование подсознания и бессознательного. Суть сознания общепринято наблюдать в возможности человека к абстрактному вербальному мышлению, инструментом и орудием коего считается образовавшийся в человеческом мире язык, к познанию в данной основе законов природы и общества. Отвлеченное речевое мышление в многочисленных трудах рассматривается как основная оценка сознания, каковой связываются многочисленные прочие его характерные черты и проявления. Однако все без исключения ведь в русской психологии единое представление природы сознания приобретает крайне различную конкретизацию у различных создателей. В нынешней западной философии и психологии не имеется какая-либо единая теория сознания, и представление его природы считается крайне двойственным. Одни наблюдают в сознании исключительно закономерную систему, своего рода абстракцию от большого колличества состояний субъекта, прочие – качества оригинальности, третьи – вспомогательный внутренний подход людской активности, для которой динамичность мозга и туловища есть вспомогательный внешний аспект . В подходе к проблеме сознания все еще сильны интроспекционистские направленности, в силу которых многочисленные ученые продолжают считать, то что основной критерий сознания – это субъективные переживания, внутренняя данность субъекту его психических состояний. В связи с этим в западной психологии далеко не постоянно проводится отличие среди суждений психики и сознания. Один из первых представлений о структуре сознания внедрил З. Фрейд. Его иерархический состав представляется следующим образом: подсознание-сознание-сверхсознание, и она, вероятно, ранее израсходовала собственный объяснительный материал. Однако нужны наиболее применимые пути к рассмотрению сознания, а подсознание и бессознательное в целом никак не обязательны как средство в исследовании сознания. Наиболее результативной считается старая концепция Л. Фейербаха о наличии сознания для сознания и сознания с целью бытия, развивавшаяся Л. С. Выгодским. Возможно допустить, то что данное общее понимание, в каком имеется 2 слоя: бытийный и рефлекторный. Что входит в данные слои? А. Н. Леонтьев подчеркнул 3 ключевых образующих сознания: чувственную ткань образа, значение и смысл. А ранее Н. А. Бернштейн внедрил представление живого движения и его биодинамической ткани. Подобным образом, при добавлении данного элемента мы приобретаем двухслойную структуру сознания. Бытийный слой формирует биодинамическую ткань живого движения и действия и чувственная ткань образа. Рефлекторный слой составляет значение и смысл. Все без исключения элементы предлагаемой структуры уже считаются предметами академического изучения. Значение – сущность социального сознания, усваиваемые человеком – могут являться операционные роли, предметные, вербальные значения, житейские и научные значения-понятия. Смысл – индивидуальное представление и подход к ситуации, информации. Процессы осмысления значений и означения смыслов выступают орудиями разговора и взаимопонимания. В бытийном слое сознания находят решение весьма трудные проблемы, таким образом равно как с целью результативного в конкретной ситуации поведения нужна актуализация необходимого вида и двигательной программы, то имеется облик действия обязан вписываться в облик общества. В рефлективном слое совершается соответствие мира идей, понятий, житейских и научных знаний с смыслом, и мира людских ценностей, переживаний, знаний с смыслом. Биодинамическая ткань и роль легкодоступны стороннему наблюдающему и определенным формам регистрации и анализа. Чувственная ткань и смысл лишь отчасти легкодоступны самонаблюдению. Сторонний наблюдающий способен выполнять о них заключения в базе косвенных сведений, таких, как поведение, продукты деятельности, поступки, отчеты о самонаблюдении.
Подсознание | Просто психология
- Sigmund Freud
- бессознательный разум
Фрейд и бессознательный разум
доктора Саула Маклеода, опубликованный 2009, Обновлено 2015
Sigmund Freud не придумал Идея сознательного против бессознательное, но он, безусловно, сделал его популярным, и это был один из его главных вкладов в психологию.
Фрейд (1900, 1905) разработал топографическую модель психики, с помощью которой описал особенности строения и функции психики.Фрейд использовал аналогию с айсбергом для описания трех уровней разума.
Фрейд (1915) описал сознательный разум, который состоит из всех известных нам психических процессов, и это рассматривается как верхушка айсберга. Например, в этот момент вы можете испытывать жажду и решить выпить.
Предсознание содержит мысли и чувства, которые человек в данный момент не осознает, но которые легко могут быть доведены до сознания (1924). Он существует чуть ниже уровня сознания, перед бессознательным умом.Предсознательное подобно умственной комнате ожидания, в которой мысли остаются до тех пор, пока им «не удастся привлечь взор сознания» (Фрейд, 1924, стр. 306).
Это то, что мы подразумеваем в нашем повседневном использовании слова доступная память. Например, сейчас вы не думаете о своем номере мобильного телефона, но теперь он упоминается, и вы можете легко его вспомнить.
Слабые эмоциональные переживания могут находиться в подсознании, но иногда травматические и сильные негативные эмоции подавляются и, следовательно, недоступны в подсознании.
Наконец, бессознательное включает психические процессы, недоступные сознанию, но влияющие на суждения, чувства или поведение (Wilson, 2002).
Согласно Фрейду (1915), бессознательное является основным источником человеческого поведения. Подобно айсбергу, самая важная часть ума — это та часть, которую вы не можете видеть.
Наши чувства, мотивы и решения на самом деле сильно зависят от нашего прошлого опыта и хранятся в бессознательном.
Фрейд применил эти три системы к своей структуре личности или психики – ид, эго и суперэго. Здесь Ид рассматривается как полностью бессознательное, в то время как Эго и Супер-Эго имеют сознательные, предсознательные и бессознательные аспекты.
Подсознание
Подсознание
Хотя мы полностью осознаем, что происходит в сознании, мы понятия не имеем, какая информация хранится в подсознании.
Бессознательное содержит всевозможные значимые и тревожные материалы, которые мы должны держать в стороне от осознания, потому что они слишком опасны, чтобы признать их полностью.
Бессознательное действует как хранилище, «котел» примитивных желаний и импульсов, удерживаемых в страхе и опосредованных областью предсознания. Например, Фрейд (1915) обнаружил, что некоторые события и желания часто были слишком пугающими или болезненными для его пациентов, чтобы признать их, и считал, что такая информация скрыта в бессознательном. Это может произойти в процессе репрессий.
Бессознательный разум содержит наши биологически обоснованные инстинкты (эрос и танатос) примитивных побуждений к сексу и агрессии (Фрейд, 1915).Фрейд утверждал, что наши примитивные побуждения часто не достигают сознания, потому что они неприемлемы для нашего рационального, сознательного «я».
Люди используют ряд защитных механизмов (таких как подавление), чтобы не знать, каковы их бессознательные мотивы и чувства.
Фрейд (1915) подчеркивал важность бессознательного, и основное предположение теории Фрейда состоит в том, что бессознательное управляет поведением в большей степени, чем люди подозревают. Действительно, цель психоанализа состоит в том, чтобы выявить использование таких защитных механизмов и таким образом сделать бессознательное сознательным.
Фрейд считал, что влияния бессознательного проявляются различными путями, включая сны и оговорки, широко известные как «оговорки по Фрейду». Фрейд (1920) привел пример такой оговорки, когда член британского парламента назвал коллегу, который его раздражал, «достопочтенным членом из ада», а не из Халла.
Критическая оценка
Критическая оценка
Первоначально психология скептически относилась к идее психических процессов, действующих на бессознательном уровне.Для других психологов, решивших придерживаться научного подхода (например, бихевиористов), концепция бессознательного оказалась источником значительного разочарования, поскольку она не поддается объективному описанию и ее чрезвычайно трудно объективно проверить или измерить.
Однако пропасть между психологией и психоанализом сократилась, и понятие бессознательного теперь находится в центре внимания психологии. Например, когнитивная психология выявила бессознательные процессы, такие как процедурная память (Tulving, 1972), автоматическая обработка (Bargh & Chartrand, 1999; Stroop, 1935), а социальная психология показала важность имплицитной обработки (Greenwald & Banaji, 1995). ).Такие эмпирические данные продемонстрировали роль бессознательных процессов в поведении человека.
Однако эмпирические исследования в психологии выявили ограниченность фрейдовской теории бессознательного, и современное понятие «адаптивного бессознательного» (Wilson, 2004) отличается от психоаналитического.
Действительно, Фрейд (1915) недооценил важность бессознательного, и в терминах аналогии с айсбергом гораздо большая часть разума находится под водой.Разум работает наиболее эффективно, перекладывая значительную часть высокоуровневой сложной обработки на бессознательное.
В то время как Фрейд (1915) рассматривал бессознательное как единое целое, психология теперь понимает разум как совокупность модулей, которые развивались с течением времени и функционируют вне сознания.
Например, универсальная грамматика (Chomsky, 1972) — это бессознательный языковой процессор, который позволяет нам решить, правильно ли построено предложение.Отдельно от этого модуля находится наша способность быстро и эффективно распознавать лица, что иллюстрирует, как бессознательные модули работают независимо.
Наконец, в то время как Фрейд считал, что примитивные побуждения остаются бессознательными, чтобы защитить людей от переживания тревоги, современный взгляд на адаптивное бессознательное заключается в том, что большая часть обработки информации находится вне сознания по причинам эффективности, а не подавления (Wilson, 2004).
Как сделать ссылку на эту статью: Как сделать ссылку на эту статью:McLeod, S.А. (2015). Подсознание . Просто психология. www.simplypsychology.org/uncoding-mind.html
Справочные материалы по стилю APAБарг, Дж. А., и Чартранд, Т. Л. (1999). Невыносимый автоматизм бытия. Американский психолог, 54(7) , 462.
Хомский, Н. (1972). Язык и разум . Нью-Йорк: Харкорт Брейс Йованович.
Фрейд, С. (1915). Бессознательное . СЭ, 14: 159-204.
Фрейд, С. (1924). Общее введение в психоанализ , пер. Джоан Ривьер.
Гринвальд, А. Г., и Банаджи, М. Р. (1995). Неявное социальное познание: отношения, самооценка и стереотипы. Психологический обзор , 102(1), 4.
Stroop, JR (1935). Исследования вмешательства в серийных словесных реакций. Журнал экспериментальной психологии , 18(6), 643.
Тульвинг, Э. (1972). Эпизодическая и семантическая память. В Э. Талвинг и У.Дональдсон (редакторы), Организация памяти (стр. 381–403). Нью-Йорк: Академическая пресса.
Уилсон, Т. Д. (2004). Незнакомцы для себя . Издательство Гарвардского университета.
Как сделать ссылку на эту статью: Как сделать ссылку на эту статью:McLeod, SA (2015). Подсознание . Просто психология. www.simplypsychology.org/unknowledge-mind.html
сообщите об этом объявленииПодсознание
Abstract
Многие ученые-психологи все еще рассматривают бессознательное как тень «реального» сознательного разума, хотя в настоящее время существуют существенные доказательства того, что бессознательное не является менее гибким, сложным, контролирующим, совещательным или ориентированным на действие, чем его аналог.Это «сознательно-центричное» предубеждение отчасти связано с операциональным определением в когнитивной психологии, которое приравнивает бессознательное к подсознательному. Мы рассматриваем доказательства, бросающие вызов этому ограниченному взгляду на бессознательное, появившиеся в результате современных исследований социального познания, которые традиционно определяют бессознательное с точки зрения его непреднамеренной природы; это исследование продемонстрировало существование нескольких независимых бессознательных систем управления поведением: перцептивной, оценочной и мотивационной.С этой точки зрения делается вывод, что как в филогенезе, так и в онтогенезе действия бессознательного предшествуют приходу сознательного — что действие предшествует отражению.
Современные взгляды на бессознательное чрезвычайно разнообразны. В когнитивной психологии бессознательная обработка информации приравнивается к подсознательной обработке информации, в связи с чем возникает вопрос: «Насколько хорошо разум извлекает смысл из стимулов, о которых человек не знает?» (т.е.г., Гринвальд, Клингер и Шух, 1995). Поскольку стимулы подсознательной силы по определению относительно слабы и малоинтенсивны, психические процессы, которыми они управляют, обязательно минимальны и просты, и поэтому эти исследования привели к выводу, что возможности бессознательного разума ограничены и что бессознательное скорее ограничено. «тупой» (Лофтус и Клингер, 1992).
Социальная психология подошла к бессознательному с другой стороны. Там традиционно основное внимание уделялось психическим процессам, о которых человек не подозревает, а не стимулам, о которых он не подозревает (например,г., Нисбетт и Уилсон, 1977). За последние 30 лет было проведено много исследований того, в какой степени люди осознают важные факторы, влияющие на их суждения и решения, а также причины их поведения. Это исследование, в отличие от традиции когнитивной психологии, привело к мнению, что бессознательное оказывает всепроникающее и мощное влияние на такие высшие психические процессы (см. обзор в Bargh, 2006).
И, конечно же, фрейдистская модель бессознательного все еще с нами и продолжает оказывать влияние на то, как много людей думают о «бессознательном», особенно за пределами психологической науки.Фрейдовская модель бессознательного как основного направляющего фактора повседневной жизни даже сегодня является более конкретной и детальной, чем любая другая, которую можно найти в современной когнитивной или социальной психологии. Однако данные, на основе которых Фрейд развил модель, представляли собой отдельные тематические исследования, связанные с ненормальным мышлением и поведением (Freud, 1925/1961, стр. 31), а не строгие научные эксперименты над общеприменимыми принципами человеческого поведения, которые легли в основу психологических моделей. На протяжении многих лет эмпирические тесты не учитывали специфику фрейдистской модели, хотя в общих чертах когнитивные и социально-психологические данные действительно поддерживают Фрейда в отношении существования бессознательного мышления и его способности влиять на суждения и поведение (см. Вестен, 1999).Независимо от судьбы его конкретной модели, историческое значение Фрейда в защите сил бессознательного не вызывает сомнений.
То, как человек рассматривает силу и влияние бессознательного по отношению к сознательным способам обработки информации, во многом зависит от того, как человек определяет бессознательное. До недавнего времени в истории науки и философии ментальная жизнь считалась полностью или в основном сознательной по своей природе (например, cogito Декарта и космология «разум прежде всего» Джона Локка).Приоритет сознательного мышления в отношении того, как люди исторически думали о разуме, иллюстрируется сегодня словами, которые мы используем для описания других видов процессов — все они являются модификациями или уточнениями слова сознательный (т. е. бессознательное, предсознательное, подсознательное, бессознательное). ). Более того, существует высокий консенсус в отношении качеств сознательных мыслительных процессов: они преднамеренны, контролируемы, последовательны по своей природе (требуют ограниченных ресурсов обработки) и доступны для осознания (т.д., устно сообщается).
Однако для бессознательного такого консенсуса пока не существует. Из-за монолитности определения сознательного процесса — если процесс не обладает всеми качествами сознательного процесса, значит, он не является сознательным, — в ходе исследования изучались по крайней мере два различных «бессознательных» процесса. 20-го века в рамках в значительной степени независимых исследовательских традиций, которые, казалось, едва замечали существование друг друга: исследования «Нового взгляда» в восприятии, включающие предсознательный анализ стимулов до того, как продукты анализа будут предоставлены сознательному осознанию, и исследования по приобретению навыков, включающие увеличение эффективность процессов с практикой с течением времени, пока они не станут бессознательными (см. обзор в Bargh & Chartrand, 2000).
Обратите внимание, как различаются качества двух бессознательных процессов: в исследовании New Look человек не собирался участвовать в процессе и не осознавал его; в исследовании приобретения навыков человек действительно намеревался участвовать в процессе, который, однажды начавшись, мог протекать без необходимости сознательного руководства. Набор текста и вождение автомобиля (соответственно для опытной машинистки и водителя) — классические примеры последнего: и то, и другое — эффективные процедуры, которые могут протекать вне сознания, но, тем не менее, оба являются интенциональными процессами.(Никто не садится печатать без намерения в первую очередь, и то же самое относится к вождению автомобиля.) Эти и другие трудности с монолитным разделением психических процессов на сознательные и бессознательные по принципу «все или ничего» привели сегодня к разным «ароматам» бессознательного — к разным операциональным определениям, которые ведут к совершенно разным выводам о силе и масштабах бессознательного.
Таким образом, мы противопоставляем отождествление бессознательного в когнитивной психологии с подсознательной обработкой информации по нескольким причинам.Во-первых, это операциональное определение одновременно и неестественно, и излишне ограничительно. Подсознательные стимулы не возникают естественным образом — они по определению слишком слабы или кратки, чтобы войти в сознание. Таким образом, несправедливо измерять способность бессознательного с точки зрения того, насколько хорошо оно обрабатывает подсознательные стимулы, потому что бессознательные (как и сознательные) процессы эволюционировали, чтобы иметь дело с естественными стимулами (обычной силы) и реагировать на них; оценка бессознательного с точки зрения обработки подсознательных стимулов аналогична оценке интеллекта рыбы на основе ее поведения вне воды.И, как и следовало ожидать, операциональное определение бессознательного в терминах подсознательной обработки информации на самом деле привело ученых к заключению, что бессознательное, ну, довольно немое.
В статье в специальном выпуске American Psychologist (Loftus & Klinger, 1992) однажды был задан вопрос: «Бессознательное умно или глупо?» Поскольку бессознательное рассматривалось как подсознательное — или насколько умны люди, когда реагируют на стимулы, о которых они не подозревают (например,g., Greenwald, 1992) — авторы и редакторы выпуска пришли к единому мнению, что бессознательное на самом деле довольно тупое, поскольку оно способно только к крайне рутинным действиям и мало что воспринимает без помощи сознания (Loftus & Klinger, 1992). . (Обратите внимание, что хотя бессознательное может быть «немым» в отношении подсознательных стимулов, оно все же умнее сознания, которое даже не может сказать, что такие стимулы были предъявлены!) Авторы выпуска в основном пришли к выводу, что хотя концепция активация и примитивное ассоциативное обучение могли происходить бессознательно, чего-либо сложного, требующего гибкого реагирования, интеграции стимулов или высших психических процессов, быть не могло.
Однако термин без сознания изначально имел другое значение. Самое раннее использование этого термина в начале 1800-х годов относилось к гипнотически индуцированному поведению, при котором загипнотизированный субъект не знал о причинах и причинах своего поведения (Goldsmith, 1934). В работе «О происхождении видов » Дарвин (1859) использовал этот термин для обозначения процессов «бессознательного отбора» в природе и противопоставил их преднамеренному и преднамеренному отбору, которым долгое время занимались фермеры и животноводы для выведения лучших сортов кукурузы. более толстые коровы и более шерстяные овцы.Фрейд, приписавший ранним исследованиям гипноза первоначальное открытие бессознательного (см. Brill, 1938), также использовал этот термин для обозначения поведения и мыслей, которые не были сознательно преднамеренными или вызванными, например, «оговорки по Фрейду» и почти все примеры, приведенные в Психопатология повседневной жизни , связаны с непреднамеренным поведением, источник или причина которого были неизвестны человеку. Во всех этих случаях термин бессознательное относился к непреднамеренному характеру поведения или процесса, и сопутствующее отсутствие осознания относилось не к стимулам, спровоцировавшим поведение, а к влиянию или последствиям этих стимулов.
Таким образом, использование термина без сознания изначально основывалось на непреднамеренных действиях человека, а не на его способности обрабатывать подсознательную информацию (поскольку технологии, необходимой для представления такой информации, еще не существовало). И это приравнивание бессознательных к непреднамеренным — это то, как феномены бессознательного осмыслялись и изучались в рамках социальной психологии в течение последней четверти века или около того. Основополагающая статья Нисбетта и Уилсона (1977) поставила вопрос: «В какой степени люди знают и могут сообщить об истинных причинах своего поведения?» Ответ был «не очень хорошо» (см. также Wilson & Brekke, 1994), что было неожиданным и противоречивым в то время, учитывая общее предположение многих, что суждения и поведение (высшие психические процессы), как правило, были преднамеренными и, таким образом, доступными для восприятия. осознанная осведомленность.Если эти процессы не были доступны осознанию, то, возможно, они не были преднамерены сознательно, а если они не были преднамерены сознательно, то как, собственно, они осуществлялись?
Этот последний вопрос побудил к исследованию в социальной психологии эффектов прайминга и автоматизма, в ходе которого изучались способы, которыми высшие психические процессы, такие как суждение и социальное поведение, могут запускаться и затем действовать в отсутствие сознательного намерения и руководства. Следовательно, это исследование операционально определило бессознательные влияния с точки зрения отсутствия осознания влияний или эффектов пускового стимула, а не самого пускового стимула (Bargh, 1992).И какое значение имеет это изменение в операциональном определении! Если сместить операциональное определение бессознательного с обработки неосознаваемых стимулов на неосознаваемые влияния или эффекты обработки стимулов, внезапно станут очевидными истинная сила и возможности бессознательного в повседневной жизни. Определение бессознательного в терминах первого приводит непосредственно к заключению, что оно тупое, как грязь (Loftus & Klinger, 1992), тогда как определение его в терминах второго дает мнение, что оно высоко разумно и адаптивно.
Этот расширенный и улучшенный взгляд на бессознательное также более совместим с теорией и данными в области эволюционной биологии, чем «только подсознательный» взгляд когнитивной психологии. Как и Дарвин и Фрейд, биологи-эволюционисты также рассматривают бессознательное в гораздо большей степени как непреднамеренные действия, а не как неосознавание стимулов. В своей основополагающей работе «Эгоистичный ген » Докинз (1976) отметил внушающие благоговейный трепет и разумные замыслы природы, возникшие просто в результате слепых процессов естественного отбора.Он назвал природу «слепым часовщиком, бессознательным часовщиком», потому что в создании этих разумных замыслов не было сознательной преднамеренной руководящей руки (Dennett, 1991, 1995).
ЕСТЕСТВЕННОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОЛОГИИ
В соответствии с этими основными допущениями естественных наук исследования социального познания за последние 25 лет привели к потоку удивительных открытий, касающихся сложных суждений и поведенческих феноменов, которые действуют вне сознания.Поскольку результаты не имели смысла с точки зрения «глупого бессознательного» господствующей психологической науки (а именно, как могла такая тупая система обработки информации так многого добиться на пути адаптивной саморегуляции?), нам пришлось смотреть за пределы психология, чтобы понять их и их значение для человеческого разума. К счастью, в более широком контексте естественных наук, особенно эволюционной биологии, широко распространенные открытия сложных бессознательных систем управления поведением не только имеют смысл, но и оказываются предсказанными на априорных основаниях (Dawkins, 1976; Dennett, 1991). , 1995).
Гены, культура и раннее обучение
Учитывая неопределенность будущего и низкую скорость генетических изменений, наши гены дали нам не фиксированные реакции на определенные события (поскольку их нельзя предвидеть с какой-либо степенью точности), но с общими тенденциями, которые адаптируются к местным вариациям (Dawkins, 1976). Именно по этой причине эволюция сделала нас открытыми системами (Mayr, 1976). Это неограниченное качество дает возможность «тонкой настройки» новорожденного к местным условиям.Многое из этого дается нам человеческой культурой, локальными условиями (преимущественно социальными) мира, в котором нам довелось родиться. Докинз (1976) отмечал, что фенотипическая пластичность позволяет младенцу полностью автоматически усваивать «уже изобретенную и в значительной степени отлаженную систему привычек частично неструктурированного мозга» (стр. 193).
Сбор знаний о культуре — огромный шаг к адаптации к текущей местной среде. Любой человеческий младенец, родившийся сегодня, может быть немедленно перемещен в любое место и в любую культуру мира, и тогда он будет адаптироваться и говорить на языке этой культуры так же хорошо, как и любой родившийся там ребенок (Dennett, 1991).Культурные ориентиры надлежащего поведения (включая язык, нормы и ценности) «загружаются» во время развития в раннем детстве, тем самым значительно снижая непредсказуемость мира ребенка и его или ее неуверенность в том, как действовать и вести себя в нем.
И не только общие культурные нормы и ценности так легко усваиваются в этот ранний период жизни; мы также усваиваем особенности поведения и ценности самых близких нам людей, способствуя еще более тонкой настройке склонностей к соответствующему поведению.В обзоре 25-летних исследований подражания младенцам Мельцофф (2002) пришел к выводу, что маленькие дети многое узнают о том, как себя вести, просто пассивно подражая другим детям, а также их взрослым опекунам. Младенцы, в частности, широко открыты для таких склонностей к подражанию, поскольку у них еще не развиты структуры когнитивного контроля для их подавления или подавления.
Бессознательное стремление к цели как открытая система
Гены в первую очередь определяют наше поведение через мотивацию (Tomasello et al., 2005). Активная цель или мотив — это локальный агент, посредством которого находит выражение генетическое влияние далекого прошлого. Эволюция работает через мотивы и стратегии — желаемые конечные состояния, к которым мы стремимся, независимо от отправной точки в истории и географического положения, которые нам раздали карты судьбы (Tomasello et al., 2005).
Многие недавние исследования показали, что бессознательное стремление к цели приводит к тем же результатам, что и сознательное (обзоры Dijksterhuis, Chartrand, & Aarts, 2007; Fitzsimons & Bargh, 2004).Концепция цели, однажды активированная без ведома участника, действует в течение длительных периодов времени (без сознательного намерения или мониторинга человека), чтобы направлять мысли или поведение к цели (например, Bargh, Gollwitzer, Lee-Chai, & Troetschel, 2001). Например, ненавязчивый прайминг цели сотрудничества заставляет участников, играющих роль рыболовной компании, добровольно сбрасывать в озеро больше рыбы для восполнения рыбной популяции (тем самым уменьшая собственную прибыль), чем это делали участники в контрольном условии (Bargh et al. др., 2001).
Более того, качество лежащего в основе процесса, по-видимому, такое же, поскольку участники с прерванными бессознательными целями, как правило, хотят возобновить и завершить скучную задачу, даже если у них есть более привлекательные альтернативы, и они будут проявлять большую настойчивость в выполнении задачи перед лицом препятствий, чем участники контрольных условий (Bargh et al., 2001). Эти черты долгое время характеризовали сознательное стремление к цели (Lewin, 1935). Что объясняет сходство между бессознательным и сознательным стремлением к цели? Учитывая позднее эволюционное появление сознательных способов мышления и поведения (т.g., Donald, 1991), вполне вероятно, что сознательное стремление к цели использовало или использовало уже существующие бессознательные мотивационные структуры (Campbell, 1974; Dennett, 1995).
Бесконечный характер такого бессознательного достижения цели раскрывается тем фактом, что цель оперирует любой релевантной для цели информацией, которая появляется следующей в экспериментальной ситуации (запредельной, конечно), которая не может быть известна человеку заранее — точно так же, как наши гены запрограммировали нас на способность адаптироваться и процветать в местных условиях далеко в будущем, которое нельзя было предвидеть ни в каких деталях.То, что бессознательно действующая цель способна адаптироваться ко всему, что происходит дальше, и использовать эту информацию для продвижения к цели, ясно демонстрирует уровень гибкости, который противоречит карикатуре на «тупое бессознательное», в которой бессознательное, как говорят, способно только на ригидные и фиксированные реакции (Loftus & Klinger, 1992). Понятие негибкого бессознательного также несовместимо с базовыми наблюдениями в изучении двигательного контроля, поскольку высокогибкие онлайн-корректировки осуществляются бессознательно во время двигательного акта, такого как захват чашки или блокирование футбольного мяча (Rosenbaum, 2002).
Социальное поведение, неосознанно определяемое текущим контекстом
Открытый характер нашего развитого дизайна также сделал нас очень чувствительными и реагирующими на текущий местный контекст. Точно так же, как эволюция дала нам общие «хорошие приемы» (Dennett, 1995) для выживания и размножения, а культура и раннее обучение точно настроили наши адаптивные бессознательные процессы на более специфические местные условия, в которых мы родились, контекстуальная подготовка — это механизм, обеспечивающий еще более точную настройку на события и людей в настоящем времени (Higgins & Bargh, 1987).При контекстуальном прайминге простое присутствие определенных событий и людей автоматически активирует наши представления о них и, соответственно, всю внутреннюю информацию (цели, знания, аффекты), хранящуюся в этих представлениях, которая имеет отношение к ответному реагированию.
Развившаяся врожденная основа этих вездесущих эффектов прайминга раскрывается тем фактом, что они присутствуют вскоре после рождения, поддерживая подражательные способности младенца (см. Meltzoff, 2002). Такие предварительные эффекты, при которых то, что человек воспринимает, напрямую влияет на то, что он делает, зависят от наличия тесной автоматической связи между восприятием и поведением.Действительно, эта тесная связь была обнаружена в когнитивной нейробиологии с открытием зеркальных нейронов в премоторной коре, которые становятся активными как тогда, когда человек воспринимает данный тип действия другого человека, так и когда он сам участвует в этом действии (Frith & Вольперт, 2004).
Автоматическая связь между восприятием и поведением приводит к по умолчанию склонности действовать так же, как и окружающие (Dijksterhuis & Bargh, 2001). Таким образом, как вариант по умолчанию или отправная точка для вашего собственного поведения, слепое или бессознательное принятие того, что делают другие вокруг вас, имеет хороший адаптивный смысл, особенно в новых ситуациях и с незнакомцами.Эти тенденции по умолчанию и их бессознательный и непреднамеренный характер несколько раз демонстрировались у взрослых людей в исследованиях Чартранда и его коллег (см. Chartrand, Maddux, & Lakin, 2005). Мало того, что люди склонны перенимать физическое поведение (позу, мимику, движения рук и кистей) незнакомцев, с которыми они взаимодействуют, не намереваясь и не осознавая, что они это делают, но это бессознательное подражание также имеет тенденцию усиливать симпатию и привязанность. между индивидуумами, выступая своего рода естественным «социальным клеем».
Дальнейшее подтверждение этого понятия о естественной контекстуальной настройке своего поведения на текущую среду, когнитивные исследования показывают, что объекты, связанные с действием, активируют несколько планов действий параллельно и что производство действия управляется некоторой формой избирательного растормаживания. Например, результаты показывают, что окружающие стимулы (например, молотки) автоматически заставляют нас физически взаимодействовать с миром (например, выполнять силовой захват, Tucker & Ellis, 2001). Одновременная активация нескольких планов действий очевидна в промахах действий (Heckhausen & Beckmann, 1990) и в нейропсихологическом синдроме поведения использования, при котором пациенты неспособны подавлять действия, вызванные объектами окружающей среды, связанными с действием (Lhermitte, 1983). ).
Предпочтения и чувства как бессознательные проводники к настоящему
Эволюция (а также раннее обучение и культура) влияет на наши предпочтения и, через них, на наши тенденции приближаться или избегать аспектов нашего окружения. Мы предрасположены отдавать предпочтение определенным объектам и аспектам нашего окружения другим. Мы часто руководствуемся нашими чувствами, интуицией и интуитивными реакциями, которые отдают приоритет тому, что важно сделать или на что обратить внимание (Damasio, 1996; Schwarz & Clore, 1996).
Однако эти руководства не возникают из воздуха. Наши нынешние предпочтения являются производными от тех, которые служили адаптивным целям в прошлом. Принцип эволюционной теории состоит в том, что эволюция постепенно строится на том, с чем ей приходится работать в данный момент; изменения медленные и постепенные (Allman, 2000). Знания, полученные на более низком уровне слепого отбора — короткие пути и другие «хорошие уловки» (Dennett, 1995), которые постоянно работали в нашем долгосрочном эволюционном прошлом, — передаются вверх в качестве отправной точки и появляются как априорные знания. источник которых нам неизвестен.Кэмпбелл (1974) назвал эти процессы «кратчайшими процессами», потому что они избавляют нас (индивидуально) от необходимости выяснять с нуля, какие процессы полезны, а какие опасны.
Согласно нынешнему аргументу, что бессознательное развилось как система управления поведением и как источник адаптивных и соответствующих импульсов действия, следует признать, что эти бессознательно активированные предпочтения напрямую связаны с поведенческими механизмами. Несколько исследований установили эту связь: немедленные и непреднамеренные процессы оценки напрямую связаны с поведенческими предрасположенностями приближения и избегания.Чен и Барг (1999; см. также Neumann, Förster, & Strack, 2003) показали, что участники быстрее совершают приближающиеся движения руки (потянув рычаг на себя), реагируя на позитивные объекты установки, и быстрее совершают движения избегания (см. отталкивание рычага) при реагировании на объекты отрицательного отношения. Это было верно даже при том, что сознательной задачей в эксперименте было вовсе не оценивать объекты, а просто «сбивать с экрана» названия этих объектов, как только они появляются.
Эта тесная связь между непосредственной, бессознательной оценкой и соответствующими тенденциями действия (приближение против избегания) обнаруживается во всем царстве животных; они есть даже у одноклеточных парамеций. То, что автоматическая активация установок непосредственно ведет к соответствующей мышечной готовности у взрослых людей, таким образом, удивительно только с той точки зрения, что действия и поведение всегда являются функцией сознательного намерения и руководства (например, Bandura, 1986; Locke & Latham, 2002).Более того, когда кто-то занимается этим поведением приближения и избегания, они «отражаются» на наших сознательных суждениях и чувствах (так что тонкое побуждение человека к мышечным действиям, подобным приближению или избеганию, производит положительный или отрицательный эффект соответственно). ; Neumann et al., 2003), что еще раз подтверждает идею о том, что действие предшествует размышлению.
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ КАК ИСТОЧНИК ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ
Идея о том, что действие предшествует отражению, не нова.Несколько теоретиков постулировали, что сознательный разум не является источником или источником нашего поведения; вместо этого они теоретизируют, что импульсы к действию активируются бессознательно и что роль сознания состоит в том, чтобы быть привратником и создавать смысл постфактум (Gazzaniga, 1985; James, 1890; Libet, 1986; Wegner, 2002). В этой модели сознательные процессы включаются после возникновения в мозгу поведенческого импульса, то есть импульс сначала генерируется бессознательно, а затем сознание заявляет о нем (и переживает) как о своем собственном.Тем не менее, на сегодняшний день мало что сказано о том, откуда именно берутся эти импульсы.
Однако, учитывая доказательства, рассмотренные выше, теперь, кажется, есть ответ на этот вопрос. Существует множество поведенческих импульсов, генерируемых в любой момент времени на основе наших эволюционировавших мотивов и предпочтений, культурных норм и ценностей, прошлого опыта в подобных ситуациях и того, что другие люди в настоящее время делают в той же ситуации. Эти импульсы предоставили нам бессознательно действующие мотивы, предпочтения и связанные с ними поведенческие тенденции приближения и избегания, а также мимикрию и другие эффекты запуска поведения, вызванные простым восприятием поведения других.Наше бессознательное определенно не испытывает недостатка в предложениях относительно того, что делать в той или иной ситуации.
Конфликт и сознание
Учитывая множественность источников бессознательных поведенческих импульсов, возникающих параллельно, конфликты между ними неизбежны, поскольку поведенческая деятельность (в отличие от бессознательной психической деятельности) протекает в последовательном мире, в котором мы можем делать только одно действие одновременно. время. Как отмечалось выше, в начале онтогенеза действия, как правило, отражают действия «неподавленного» разума.Нет никаких сомнений в том, что младенец не смог бы терпеть боль или подавлять поведение исключения в обмен на какое-то вознаграждение в будущем. Однако в процессе развития оперантное научение приобретает большее влияние на поведение, и действия начинают отражать подавление. Это приводит к подавлению программы действия, нейронного события, обладающего интересными свойствами. Это часто связано с противоречивыми намерениями. При задержке удовлетворения конфликт может состоять из наклонностей как есть, так и не есть. Противоречивые намерения имеют негативную субъективную цену (Lewin, 1935; Morsella, 2005).
Независимо от адаптивности плана (например, бежать по горячему песку пустыни, чтобы добраться до воды), раздоры, которые сопровождаются конфликтом, не могут быть отключены добровольно (Morsella, 2005). Склонности можно подавлять поведенчески, но не ментально. Бессознательные агенты больше не влияют на поведение напрямую, но теперь они влияют на природу сознания. Склонности продолжают ощущаться сознательно, даже если они не выражаются в поведении. Таким образом, они функционируют как «интернализированные рефлексы» (Выготский, 1962), которые могут использоваться для того, чтобы играть существенную роль в мысленном моделировании.Как известно инженерам, лучший способ узнать последствия действия (если не считать фактического его выполнения) — это смоделировать его. Одна ценность моделирования заключается в том, что знания о результатах изучаются без риска выполнения действий. Действительно, некоторые теоретики в настоящее время предполагают, что функция явной сознательной памяти заключается в моделировании будущих потенциальных действий (Schacter & Addis, 2007).
Бессознательное руководство будущим поведением
Такие симулякры (т.е., продукты симуляции) бесполезны без какой-либо возможности их оценки. Если бы генерал не имел представления о том, что представляет собой благоприятный исход битвы, не было бы никакой пользы в моделировании боевых порядков. Моделирование может создавать симулякры, но само по себе не может их оценивать. Оценка потенциальных действий является сложной задачей, поскольку она зависит от учета различных соображений (например, физических или социальных последствий). Большая часть знаний о том, что является благоприятным, уже воплощена в тех самых агентных системах, которые до появления подавления непосредственно контролировали поведение.Эти теперь подавленные агенты реагируют на симулякры, как если бы они реагировали на реальные внешние раздражители. Эти интернализированные рефлексы обеспечивают оценочное суждение или интуицию, которые требуются для моделирования.
Таким образом, бессознательные процессы разрешения конфликтов предоставляют ценную информацию для сознательных процессов планирования будущего. При достаточно сильной мотивации и приверженности запланированному курсу действий конкретные планы, такие как «когда произойдет X , я сделаю Y », сами по себе срабатывают автоматически, когда появляется возможность в будущем, как в исследовании намерения реализации Голлвитцера и его коллег. (т.е.г., Голлвитцер, 1999). Таким образом, бессознательные процессы не только адаптируют нас к текущей ситуации, но и влияют на те пути, которые мы прокладываем, чтобы направлять наше поведение в будущем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На протяжении большей части истории человечества существовали только концепции сознательного мышления и преднамеренного поведения. В 1800-х годах два очень разных явления — гипноз и эволюционная теория — оба указывали на возможность бессознательных, непреднамеренных причин человеческого поведения. Но почти два столетия спустя современная психологическая наука остается приверженной сознательно-центрической модели высших психических процессов; не помогло и то, что наше представление о возможностях бессознательного во многом основано на исследованиях подсознательной обработки информации.Это исследование с его операциональным определением бессознательного как системы, которая обрабатывает подсознательную стимуляцию из окружающей среды, помогло увековечить представление о том, что сознательные процессы являются первичными и что они являются причинной силой большинства, если не всех, человеческих суждений. и поведение (например, Locke & Latham, 2002).
Мы предлагаем альтернативную точку зрения, в которой бессознательные процессы определяются с точки зрения их непреднамеренной природы, а врожденное отсутствие осознания связано с влиянием и эффектом триггерных стимулов, а не триггерных стимулов (поскольку почти все естественные стимулы являются супралиминальный).Согласно этому определению бессознательного, которое является оригинальным и историческим, современные исследования социального познания в отношении эффектов прайминга и автоматизма показали существование сложных, гибких и адаптивных бессознательных систем управления поведением. Они, по-видимому, имеют высокую функциональную ценность, особенно в качестве поведенческих тенденций по умолчанию, когда сознательный разум по своему обыкновению перемещается из настоящего окружения в прошлое или будущее. Приятно осознавать, что бессознательное следит за магазином, когда хозяин отсутствует.
В остальных естественных науках, особенно в нейробиологии, предположение о примате сознания далеко не так распространено, как в психологии. Предполагается, что сложный и разумный замысел живых существ управляется не сознательными процессами со стороны растений или животных, а слепыми адаптивными процессами, возникшими в результате естественного отбора (Dennett, 1995). Это не означает, что человеческое сознание не играет никакой роли или что оно не обладает особыми способностями преобразовывать, манипулировать и передавать информацию по сравнению с умственными способностями других животных, но что это сознание не является необходимым для достижения сложных адаптивных способностей. и интеллектуальное руководство по поведению, продемонстрированное в новой литературе по праймингу.Как утверждал Докинз (1976), бессознательные процессы умны и адаптивны во всем живом мире, и данные психологических исследований, появившиеся после его написания, подтвердили, что этот принцип распространяется и на людей. В природе «бессознательный разум» является правилом, а не исключением.
без сознания | психология | Британика
бессознательное , также называемое Подсознание , совокупность умственных действий внутри индивидуума, протекающая без его осознания.Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, утверждал, что такие бессознательные процессы могут влиять на поведение человека, даже если он не может о них сообщить. Фрейд и его последователи чувствовали, что сны и оговорки на самом деле были скрытыми примерами бессознательного содержания, слишком угрожающими, чтобы с ними можно было столкнуться напрямую.
Некоторые теоретики ( например, ранний психолог-экспериментатор Вильгельм Вундт) отрицали роль бессознательных процессов, определяя психологию как изучение сознательных состояний.Тем не менее, существование бессознательной психической деятельности, кажется, хорошо установлено и продолжает оставаться важной концепцией в современной психиатрии.
Фрейд различал разные уровни сознания. Действия в непосредственной области осознания он назвал сознательными; например, чтение этой статьи является сознательной деятельностью. Сохранение данных, легко доводимых до сознания, является предсознательной деятельностью; например, человек может не думать (осознавать) свой адрес, но легко вспоминать его, когда его спрашивают.Данные, которые невозможно вспомнить с усилием в определенное время, но которые можно вспомнить позже, сохраняются на бессознательном уровне. Например, в обычных условиях человек может не осознавать, что в детстве его когда-либо запирали в шкафу; тем не менее под гипнозом он может живо вспомнить пережитое.
Поскольку другой человек не может непосредственно наблюдать за своими переживаниями (так как один не может чувствовать чужую головную боль), усилия по объективному изучению этих уровней осознания основаны на умозаключениях; я.э., самое большее , исследователь может сказать только то, что другой индивид ведет себя так, как если бы он был без сознания или как если бы он был в сознании.
Попытки интерпретировать происхождение и значение бессознательной деятельности в значительной степени опираются на психоаналитическую теорию, разработанную Фрейдом и его последователями. Например, считается, что происхождение многих невротических симптомов зависит от конфликтов, которые были удалены из сознания посредством процесса, называемого вытеснением. По мере роста знаний о психофизиологических функциях многие психоаналитические идеи связываются с деятельностью центральной нервной системы.То, что физиологическая основа памяти может основываться на химических изменениях, происходящих в клетках головного мозга, было выведено из клинических наблюдений, которые: (1) прямая стимуляция поверхности мозга (коры), когда пациент находится в сознании на операционном столе во время операции, эффект возвращения к осознанию давно забытых (бессознательных) переживаний; (2) удаление определенных частей мозга, по-видимому, устраняет сохранение определенных переживаний в памяти; (3) общая вероятность осознания бессознательных или предсознательных данных повышается за счет прямой электрической стимуляции части структуры мозга, называемой ретикулярной формацией или ретикулярной активирующей системой.Кроме того, согласно так называемой теории мозгового кровообращения, переход от бессознательной деятельности к сознательной опосредуется локальными изменениями в кровоснабжении различных частей мозга. Эти биопсихологические исследования пролили новый свет на обоснованность психоаналитических представлений о бессознательном. См. также психоанализ.
ГудТерапи | Без сознания
Во фрейдистской психологии бессознательный разум является хранилищем мыслей, чувств и воспоминаний, которые человек не осознает сознательно.Фрейд использовал термин «динамическое бессознательное» для обозначения бессознательных процессов, имеющих отношение к психологии, в отличие от случайных фрагментов информации, содержащихся в бессознательном, которые не имеют психологического или личного значения.
Роль бессознательногоЗигмунд Фрейд утверждал, что неприемлемые мысли, воспоминания и мотивы могут подавляться бессознательным. Например, гнев на мать, воспоминания о жестоком обращении в детстве и ненависть к члену семьи могут быть подавлены в бессознательном.Бессознательное далее делится на Ид — вместилище низменных инстинктов — и Суперэго — подобное совести, которое содержит социальные предписания о правильном поведении. Фрейд считал, что с помощью психоаналитической терапии можно получить доступ к бессознательному и что подавленные воспоминания и чувства часто являются источником психологических проблем.
Карл Юнг расширил концепцию Фрейда, проводя различие между личным бессознательным и коллективным бессознательным.Личное бессознательное похоже на динамическое бессознательное Фрейда, тогда как коллективное бессознательное является хранилищем коллективных знаний человечества. Он содержит такие архетипы, как мать и отец, которые определяют поведение человека.
Бессознательное в современной психологииВзгляды современных психологов на бессознательное сильно расходятся. В 1980-х и 1990-х годах многие терапевты пытались восстановить подавленные воспоминания с помощью гипноза. Многие из этих воспоминаний оказались ложными воспоминаниями, которые причиняли страдания людям, которые верили, что действительно помнят жестокое обращение, имевшее место на самом деле.Этот скандал заставил специалистов в области психического здоровья все больше осознавать трудности, связанные с попытками получить доступ к бессознательному. Ряд нынешних практиков считают, что к нему нельзя получить доступ, что его не существует или что пытаться получить доступ к бессознательному разуму просто слишком опасно. Другие изучают, как бессознательный разум может быть связан с физическим телом и/или эмоциями.
Артикул:
- Американская психологическая ассоциация. Краткий словарь по психологии АПА .Вашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация, 2009. Печать.
Последнее обновление: 28.08.2015
Пожалуйста, заполните все необходимые поля, чтобы отправить сообщение.
Пожалуйста, подтвердите, что вы человек.
7.6 Бессознательное – Введение в психологию
Ап Дейкстерхейс
Бессознательные психологические процессы издавна увлекали людей. Идея о том, что у людей должно быть бессознательное, основана на идее о том, что (а) в нашем мозгу происходит так много всего, а возможности сознания настолько малы, что должно быть гораздо больше, чем просто сознание; и что (б) если вы не верите, что сознание причинно не связано с другими телесными и психическими процессами, сознательный опыт должен быть подготовлен другими процессами в мозгу, которые мы не осознаем.Не только логика подсказывает, что действие начинается бессознательно, но и исследования убедительно свидетельствуют об этом. Более того, бессознательные процессы очень часто очень важны для функционирования человека, и многие явления, такие как формирование отношения, стремление к цели, стереотипизация, творчество и принятие решений, невозможно полностью понять, не принимая во внимание роль бессознательных процессов.
Цели обучения
- Поймите логику, лежащую в основе предположения о важности бессознательных процессов.
- Получить общее представление о некоторых важных исторических мыслях о бессознательных процессах.
- Узнайте о некоторых важных психологических экспериментах над бессознательным.
- Оцените различие между сознанием и вниманием.
Вы когда-нибудь брали шоколадку, жевательную резинку или журнал, когда покупали продукты? Эти хорошо известные «импульсивные покупки» поднимают интригующий вопрос: что на самом деле движет вашими решениями? Хотя, с одной стороны, вы можете возразить, что именно ваше сознание решает, что вы покупаете, что едите и что читаете.С другой стороны, вам, вероятно, придется признать, что эти журналы о знаменитостях и соленый шоколад на самом деле не были в вашем списке покупок вместе с яйцами и хлебом. Так откуда взялось желание их приобрести? Как мы увидим в этом модуле, на ваше мышление и решения воздействует ряд сил, о которых вы, возможно, даже не подозреваете; все они обрабатываются бессознательным.
Хотя термин « бессознательное » был введен совсем недавно (в 18 веке немецким философом Платнером, немецкий термин «Unbewusstsein»), относительная «бессознательность» человеческой природы вызывала как удивление, так и разочарование у более чем два тысячелетия.Сократ (490–399 до н. э.) утверждал, что свобода воли ограничена, или, по крайней мере, так кажется, после того как заметил, что люди часто делают то, чего на самом деле делать не хотят. Он назвал это akrasia , что лучше всего можно перевести как «отсутствие контроля над собой». Спустя несколько столетий римский мыслитель Плотин (205–270 гг. н. э.) предположительно первым указал на возможность бессознательных психологических процессов в письменной форме: «Отсутствие сознательного восприятия не является доказательством отсутствия умственной деятельности.
Эти две идеи, впервые сформулированные Сократом и Плотином соответственно, были и до сих пор являются предметом горячих споров в психологии, философии и неврологии. То есть ученые по-прежнему исследуют, в какой степени человеческое поведение является (и/или кажется) произвольным или непроизвольным, и ученые по-прежнему исследуют относительную важность бессознательных и сознательных психологических процессов или умственной деятельности в целом. И, возможно, неудивительно, что оба вопроса до сих пор остаются спорными.
Рисунок 7.31 Еще древние греки интересовались загадкой кажущегося отсутствия контроля, которое мы проявляем при принятии решений. Что бы подумал Сократ, если бы увидел, как современные люди ориентируются в типичном супермаркете?Во время научной революции в Европе наше бессознательное отнял у нас, так сказать, французский философ Декарт (1596–1650). Дуализм Декарта повлек за собой строгое различие между телом и разумом. Согласно Декарту, разум производит психологические процессы, и все, что происходит в нашем сознании, по определению является сознательным.Некоторые психологи назвали эту идею, согласно которой психические процессы, протекающие вне сознательного сознания, стали невозможными, картезианской катастрофой . Науке потребовалось более двух столетий, чтобы полностью оправиться от обнищания, продиктованного Декартом.
Это не означает, что все современники Декарта и более поздние мыслители были согласны с дуализмом Декарта. Фактически, многие из них не соглашались и продолжали теоретизировать о бессознательных психологических процессах.Например, британский философ Джон Норрис (1657–1711) сказал: «У нас могут быть идеи, которые мы не осознаем. . . . В нашем уме запечатлено бесконечно больше идей, чем мы можем уделить внимание или воспринять». Иммануил Кант (1724–1804) соглашался: «Поле наших чувственных восприятий и ощущений, которых мы не осознаем… . неизмеримо». Норрис и Кант использовали логический аргумент, на который до сих пор любят указывать многие сторонники важности бессознательных психологических процессов: чем просто сознание.
Самый известный защитник важности бессознательных процессов появился на сцене в конце 19 века: австрийский невролог Зигмунд Фрейд. Большинство людей ассоциируют Фрейда с психоанализом, с его теорией ид, эго и суперэго, а также с его идеями о вытеснении, скрытых желаниях и мечтах. Такие ассоциации вполне оправданы, но Фрейд опубликовал и менее известные общетеоретические работы (например, Фрейд, 1915/1963). Эта теоретическая работа звучит, в отличие от его психоаналитической работы, очень свежо и современно.Например, Фрейд уже утверждал, что человеческое поведение никогда не начинается с сознательного процесса (сравните это с экспериментом Либета, обсуждаемым ниже).
Фрейд, а также Вильгельм Вундт указали на еще один логический аргумент в пользу необходимости бессознательных психологических процессов. Вундт сказал об этом так: «Наш ум так удачно оснащен, что он дает нам самые важные основания для наших мыслей, даже если мы не имеем ни малейшего представления об этой работе по их разработке. Только результаты этого становятся сознательными.Этот бессознательный разум для нас подобен неведомому существу, которое создает и производит для нас и, наконец, бросает спелые плоды нам на колени». Другими словами, мы можем осознавать множество разных вещей — вкус бокала бургундского, красоту Тадж-Махала или острую боль в пальце ноги после столкновения с кроватью, — но эти переживания не зависают в памяти. воздух, прежде чем они достигнут нас. Они как-то и где-то готовятся. Если вы не верите, что сознание причинно отделено от других телесных и ментальных процессов (например, если кто-то предполагает, что оно управляется богами), сознательный опыт должен быть подготовлен другими процессами в мозгу, о которых мы не сознаем.
Немецкий психолог Ватт (1905) в интересном эксперименте показал, что мы сознательно осознаем только результаты психических процессов. Его участникам неоднократно предъявлялись существительные (например, «дуб»), и они должны были как можно быстрее отвечать соответствующим словом. В одних случаях участников просили назвать главное слово («дуб»-«дерево»), а в других случаях просили придумать часть («дуб»-«желудь») или подчиненную («дуб» — «луч») слово.Следовательно, мышление участников было разделено на четыре этапа: инструкции (например, вышестоящее), представление существительного (например, «дуб»), поиск подходящей ассоциации и вербализация ответа (например, «дерево»). »). Участников попросили тщательно проанализировать все четыре этапа, чтобы пролить свет на роль сознания на каждом этапе. Третий этап (поиск ассоциации) — это этап, на котором происходит действительное мышление, и поэтому он считался наиболее интересным этапом.Однако, в отличие от других стадий, эта стадия была, как называют ее психологи, интроспективно пустой: участники ничего не могли сообщить. Само мышление было бессознательным, и участники осознавали только всплывающий ответ.
Рис. 7.32. Используя ЭЭГ в лаборатории психологии, экспериментаторы смогли показать, что неосознанная подготовка предшествует сознательному принятию решения.Идея о том, что мы неосознанно готовим действие до того, как осознаем это действие, была проверена в одном из самых известных психологических экспериментов.Некоторое время назад Корнхубер и Деке (1965) провели эксперименты, в которых просили участников выполнить простое действие, в данном случае согнуть палец. Они также измерили ЭЭГ , чтобы выяснить, когда мозг начинает готовиться к действию. Их результаты показали, что первый признак неосознанной подготовки предшествовал действию примерно на 800 миллисекунд. Это серьезное количество времени, и это заставило Бенджамина Либета задаться вопросом, появляется ли сознательное осознание решения действовать так же или даже дольше заранее.Либет (1985) воспроизвел эксперименты Корнхубера и Деке, добавив еще одну меру: сознательное осознание решения действовать. Он показал, что сознательные решения следуют за бессознательной подготовкой и предшествуют фактическому выполнению действия примерно на 200 миллисекунд. Другими словами, бессознательное решает действовать, затем мы осознаем желание выполнить действие и, наконец, действуем.
Эксперимент Либета наделал много шума, и кое-кто попытался спасти положение решающей роли сознания, критикуя эксперимент.Некоторые из этих критических замечаний имели смысл, например представление о том, что последовательность действий в экспериментах Либета начинается не с сигналов ЭЭГ в мозге, а до этого, с инструкции экспериментатора согнуть палец. И это указание воспринимается сознательно. Пыль, окружающая точное значение этого эксперимента, все еще не полностью осела, и недавно Сун и его коллеги (Soon, Brass, Heinze, & Haynes, 2008) сообщили об интригующем эксперименте, в котором они обошли важное ограничение эксперимента Либета.Участникам приходилось неоднократно делать дихотомический выбор (они должны были нажать одну из двух кнопок), и они могли свободно выбирать, какую именно. Экспериментаторы измеряли активность мозга участников. После того, как участники много раз сделали свой простой выбор, экспериментаторы могли, глядя на разницу в активности мозга для двух разных вариантов в более ранних испытаниях, предсказать, какую кнопку участник нажмет в следующий раз, на десять секунд вперед — действительно, задолго до того, как участник сознательно «решил», какую кнопку нажать дальше.
В наши дни большинство научных исследований бессознательных процессов направлено на то, чтобы показать, что людям не нужно сознание для определенных психологических процессов или поведения. Одним из таких примеров является формирование отношения. Самый основной процесс формирования отношения — простое воздействие (Zajonc, 1968). Простое повторное восприятие стимула, такого как бренд на рекламном щите, который вы проходите каждый день, или песня, которую часто крутят по радио, делает его более позитивным. Интересно, что простое воздействие не требует сознательного осознания объекта установки.На самом деле, эффекты простого воздействия происходят, даже когда новые стимулы предъявляются подсознательно в течение чрезвычайно коротких периодов времени (например, Kunst-Wilson & Zajonc, 1980). Интересно, что в таких подсознательных экспериментах с простым воздействием участники указывают на предпочтение или положительное отношение к стимулам, которые они сознательно не помнят.
Рисунок 7.33. Исследования прайминга показывают, что воздействие определенных слов или идей может активировать бессознательные ассоциации, которые непосредственно влияют на наше поведение.Может ли просто вид слова «бинго» заставить вас замедлить шаг?Другим примером современных исследований бессознательных процессов является исследование прайминга . В известном эксперименте, проведенном исследовательской группой под руководством американского психолога Джона Барга (Bargh, Chen, & Burrows, 1996), половина участников была подготовлена к стереотипу пожилых людей, выполняя языковое задание (они должны были составлять предложения). на основе списков слов). Эти списки содержали слова, обычно ассоциируемые с пожилыми людьми (например,г., «старый», «бинго», «трость», «Флорида»). Остальные участники получили языковое задание, в котором критические слова были заменены словами, не относящимися к пожилым людям. После того, как участники закончили, им сказали, что эксперимент окончен, но за ними тайно следили, чтобы узнать, сколько времени им потребуется, чтобы дойти до ближайшего лифта. Подготовленным участникам потребовалось значительно больше времени. То есть после того, как им показывали слова, которые обычно ассоциируются со старостью, они вели себя в соответствии со стереотипом пожилых людей: медлительностью.
Такие праймирующие эффекты были показаны во многих различных областях. Например, Dijksterhuis и van Knippenberg (1998) продемонстрировали, что прайминг может улучшить интеллектуальные способности. Они попросили своих участников ответить на 42 общих вопроса, взятых из игры Trivial Pursuit. В обычных условиях участники правильно ответили примерно на 50% вопросов. Однако участники, сформированные стереотипом о профессорах, которых большинство людей считают умными, смогли правильно ответить на 60% вопросов.И наоборот, показатели участников, привитых стереотипом о «тупых» хулиганах, упали до 40%.
Холланд, Хендрикс и Аартс (2005) исследовали, может ли простое введение запаха изменить поведение. Они подвергли некоторых участников воздействию запаха универсального чистящего средства без сознательного осознания участниками присутствия этого запаха (ведро было спрятано в лаборатории). Поскольку предполагалось, что запах чистящего средства определяет концепцию уборки, исследователи предположили, что участники, подвергшиеся воздействию запаха, спонтанно начнут уделять больше внимания чистоте.Участников попросили съесть очень рассыпчатое печенье в лаборатории, и действительно, участники, подвергшиеся воздействию запаха, приложили больше усилий, чтобы их среда была чистой и свободной от крошек.
Методы праймингатакже применяются для изменения поведения людей в реальном мире. Latham и Piccolo (2012) случайным образом определили сотрудников колл-центра в условия, при которых сотрудники просматривали фотографии людей, звонящих по телефону в колл-центре, или фотографию женщины, выигравшей гонку. Обе фотографии привели к значительному улучшению производительности труда по сравнению с сотрудниками в контрольной группе, которые не видели фотографии.Фактически, люди, увидевшие фотографии людей, звонящих по телефону, собрали на 85% больше денег, чем люди из контрольной группы.
Исследования бессознательных процессов также значительно улучшили наше понимание предубеждений. Люди автоматически классифицируют других людей в соответствии с их расой, и Патрисия Девайн (1989) продемонстрировала, что категоризация бессознательно приводит к активации связанных с ними культурных стереотипов. Важно отметить, что Дивайн также показал, что активация стереотипов не сдерживалась уровнем явных предубеждений людей.Вывод из этой работы был мрачным: мы бессознательно активируем культурные стереотипы, и это верно для всех нас, даже для людей, которые явно не предвзяты, или, другими словами, для людей, которые не хотят стереотипировать.
Рис. 7.34. «Опыт Эврики» — это момент, когда идея входит в сознание.Понимание бессознательных процессов также повлияло на наши представления о творчестве. Творчество обычно рассматривается как результат трехэтапного процесса. Она начинается с сознательного подхода к проблеме.Вы думаете и читаете о проблеме и обсуждаете вопросы с другими. Этот этап позволяет собрать и систематизировать необходимую информацию, но на этом этапе редко возникает действительно творческая идея. Вторая стадия бессознательна; это стадия инкубации, во время которой люди думают бессознательно. Проблема на время откладывается в сторону, и сознательное внимание направляется в другое место. Процесс бессознательного мышления иногда приводит к « Эврика-опыту », посредством которого творческий продукт входит в сознание.На этой третьей стадии снова играет роль сознательное внимание. Творческий продукт должен быть вербализован и передан. Например, научное открытие нуждается в подробном доказательстве, прежде чем его можно будет сообщить другим.
Идея о том, что люди думают бессознательно, также применялась к принятию решений (Dijksterhuis & Nordgren, 2006). В недавней серии экспериментов (Bos, Dijksterhuis, & van Baaren, 2008) участникам была представлена информация о различных альтернативах (таких как автомобили или соседи по комнате), различающихся по привлекательности.Впоследствии участники выполняли отвлекающее задание , прежде чем принять решение. То есть сознательно думали о другом; в данном случае они решали анаграммы. Тем не менее, одной группе перед выполнением отвлекающего задания сказали, что позже им будут заданы вопросы о проблеме принятия решения. Второй группе вместо этого сказали, что они закончили с проблемой решения и больше ни о чем не будут спрашивать. Другими словами, у первой группы была цель продолжить обработку информации, а у второй такой цели не было.Результаты показали, что первая группа принимала лучшие решения, чем вторая. Хотя они делали то же самое сознательно — опять же, решая анаграммы, — первая группа принимала лучшие решения, чем вторая, потому что первая думала бессознательно. Недавно исследователи сообщили о нейробиологических данных о таких бессознательных мыслительных процессах, действительно показывающих, что недавно закодированная информация обрабатывается бессознательно, когда у людей есть такая цель (Creswell, Bursley, & Satpute, в печати).
Люди иногда удивляются, узнав, что мы можем делать так много и так много сложных вещей бессознательно. Однако важно понимать, что между вниманием и сознанием нет однозначной связи (см., например, Dijksterhuis & Aarts, 2010). Наше поведение во многом определяется целями и мотивами, и эти цели определяют, на что мы обращаем внимание, то есть сколько ресурсов наш мозг тратит на что-то, но не обязательно то, что мы осознаем. Мы можем осознавать вещи, на которые почти не обращаем внимания (например, мимолетные мечты), и мы можем уделять много внимания чему-то, о чем мы временно не сознаем (например, проблеме, которую мы хотим решить, или важному решению, которое мы принимаем). лицом).Частично путаница возникает из-за того, что внимание и сознание соотносятся. Когда человек уделяет больше внимания поступающему стимулу, вероятность того, что он осознает его, возрастает. Однако внимание и сознание различны. И чтобы понять, почему мы можем делать так много вещей неосознанно, ключом к этому является внимание. Нам нужно внимание, но для целого ряда вещей нам не нужно сознательное осознание.
В наши дни большинство исследователей сходятся во мнении, что наиболее разумный подход к изучению бессознательных и сознательных процессов состоит в том, чтобы рассматривать (высшие) когнитивные операции как бессознательные и проверять, что (если что-то) добавляет сознание (Dijksterhuis & Aarts 2010; van Gaal, Lamme, Fahrenfort, & Ridderinkhof, 2011; в качестве исключения см. Newell & Shanks, в печати).Однако исследователи по-прежнему расходятся во мнениях относительно относительной важности или вклада сознательных и бессознательных процессов. Некоторые теоретики утверждают, что причинная роль сознания ограничена или практически отсутствует; другие до сих пор считают, что сознание играет решающую роль почти во всем человеческом поведении любого значения.
Примечание. Исторический обзор того, как люди думали о бессознательном, в значительной степени основан на Кестлере (1964).
Внешние ресурсы
Книга: Замечательная книга о том, как мало мы знаем о себе: Уилсон, Т.Д. (2002). Незнакомцы для себя. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Книга: Еще одна замечательная книга о свободе воли или ее отсутствии?: Wegner, DM (2002). Иллюзия сознательной воли. Кембридж, Массачусетс: MIT Press.
Видео: интересное видео о внимании http://www.dansimons.com/videos.html
Интернет: хороший обзор подготовки http://en.wikipedia.org/wiki/Priming_(psychology)
Вопросы для обсуждения
- Оцените сильные и слабые стороны знаменитого исследования Либета.
- Предполагая, что внимание и сознание ортогональны, можете ли вы назвать примеры сознательных процессов, почти не требующих внимания, или бессознательных процессов, требующих большого внимания?
- Считаете ли вы, что некоторые из предварительных экспериментов также можно объяснить исключительно сознательными процессами?
- Как вы думаете, что может быть основной функцией сознания?
- Некоторые люди, в том числе ученые, испытывают сильное отвращение к идее, что человеческое поведение во многом управляется бессознательными процессами.Ты знаешь почему?
Атрибуты изображений
Рисунок 7.31: Mtaylor848, https://goo.gl/GhuC6L, CC BY-SA 3.0, https://goo.gl/eLCn2O
Рисунок 7.32: SMI Eye Tracking, https://goo.gl/xFMw5I, CC BY 2.0, https://goo.gl/BRvSA7
Рисунок 7.33: Эдвин Торрес, https://goo.gl/QvbdGx, CC BY 2.0, https://goo.gl/BRvSA7
Рисунок 7.34: Барт, https://goo.gl/ZMnGFr, CC BY-NC 2.0, https://goo.gl/VnKlK8
Каталожные номера
Барг, Дж.А., Чен М. и Берроуз Л. (1996). Автоматизм социального поведения: прямое влияние конструкции черты и активации стереотипа на действие. Журнал личности и социальной психологии , 71, 230–244.
Бос, М.В., Дейкстерхуис, А. и ван Баарен, Р.Б. (2008). О целезависимости бессознательного мышления. Журнал экспериментальной психологии , 44, 1114–20.
Кресуэлл, Д., Берсли, Дж. и Сатпут, А. (в печати). Нейронная реактивация связывает бессознательные мысли с эффективностью принятия решений. Социальная когнитивная и аффективная неврология .
Дивайн, П.Г. (1989). Стереотипы и предрассудки: их автоматические и контролируемые компоненты. Журнал личности и социальной психологии , 56, 5–18.
Дейкстерхуис, А., и Аартс, Х. (2010). Цели, внимание и (не)сознание. Ежегодный обзор психологии , 61, 467–490.
Дейкстерхуис, А., и Нордгрен, Л.Ф. (2006). Теория бессознательного мышления. Перспективы психологической науки , 1, 95–109.
Дейкстерхуис, А., и ван Книппенберг, А. (1998). Связь между восприятием и поведением, или как победить в игре Trivial Pursuit. Журнал личности и социальной психологии , 74, 865–877.
Фрейд, С. (1963). Общая психологическая теория . Нью-Йорк: Саймон и Шустер. (Оригинальная работа опубликована в 1915 г.)
Холланд, Р. В., Хендрикс, М., и Аартс, Х. (2005). Пахнет чистым спиртом: бессознательное влияние запаха на познание и поведение. Психологическая наука , 16, 689–693.
Кестлер, А. (1964). Акт создания . Лондон: Пингвин.
Kornhuber, HH, & Deecke, L. (1965). Hirnpotentialanderungen bei Wilkurbewegungen und passiv Bewegungen des Menschen: Berietschaftpotential und reaffente Potentiale. Архив Pflugers для Gesamte Psychologie , 284, 1–17.
Кунст-Уилсон, В., и Зайонц, Р. (1980). Аффективное различение раздражителей, которые невозможно распознать. Наука , 207, 557–558.
Латам, Г. П., и Пикколо, Р. Ф. (2012). Влияние контекстно-зависимых и неспецифических подсознательных целей на производительность сотрудников. Управление персоналом , 51, 535–548.
Либет, Б., (1985). Бессознательная мозговая инициатива и роль сознательной воли в произвольном действии. Науки о поведении и мозге , 8, 529–39.
Newell, B.R., & Shanks, D.R. (в печати). Бессознательное влияет на принятие решений: критический обзор. Науки о поведении и мозге .
Сун, К.С., Брасс, М., Хайнце, Х.Дж. и Хейнс, Дж.Д. (2008). Бессознательные детерминанты свободных решений в мозгу человека. Nature Neuroscience 11, 543–45.
Ватт, HJ (1905). Experimentelle Beitrage zur einer Theorie des Denkens. Archiv für die Geschichte der Psychologie , 4, 289–436.
Зайонц, РБ (1968). Поведенческие эффекты простого воздействия. Журнал личности и социальной психологии , 9, 1–27.
ван Гал, С., Ламме, В.А.Ф., Фаренфорт, Дж.Дж., и Риддеринхоф, К.Р. (2011). Механизмы диссоциации мозга, лежащие в основе сознательного и бессознательного контроля поведения. Журнал когнитивной неврологии 23(1) , 91–105.
Бессознательный разум – обзор
Типы произведений искусства
Работа, которая превосходит художника, и работа, которая не выходит за пределы художника, далее была описана Юнгом в следующей типологии. Он выделил два типа искусства: одно происходит от сознательного ума, а второе — от бессознательного ума.Первый тип искусства контролируемый, сознательный и сделанный с определенным намерением. Позже Юнг назвал этот тип литературы психологическим по своей природе. Психологический в данном случае относится к работе, основанной на сознании, такой как истории любви, семьи, преступности и общества. Эти произведения легко понять. Произведения этого типа, будь то литература или живопись, преднамеренны в том смысле, что художник точно знает, что он или она намеревается создать. Художник и творение едины; есть без сюрпризов.
Напротив, второй вид искусства бессознателен, неуправляем и поражает художника. Произведенное произведение приобретает собственную форму и структуру. В то время как первый тип литературы считается психологическим, второй тип мыслится как визионерский. (Визионерство не исключает психологического качества, скорее оно выходит за пределы личной психологии в надличностную сферу). Визионерские работы — это незнакомые, странные, гигантские и сверхчеловеческие. Эти работы говорят о глубинах человеческой психики и о начале нашего существования, держа идеи, которые превосходят изложенные слова или образы.Они являются символами чего-то неизвестного. Их окружает тьма. Визионерские работы — это первичный или архетипический опыт, а не личный опыт. Истоки творческого процесса — первичные переживания, но мифологические образы придают произведению форму. Изначальные образы, или архетипические образы, слишком темны (например, демоны, духи). Мифические фигуры привносят легкость во тьму, кажутся менее устрашающими или напряженными и, таким образом, привносят гармонию в образы способом, удобоваримым для нынешних времен.Эти работы чрезвычайно важны, потому что они берут начало в коллективном бессознательном и несут послание будущим поколениям. Положительное или отрицательное, сообщение, в конечном счете, имеет ценность. Художник, производящий работы второго типа, изумлен почти до неверия. В этом опыте художник чувствует, как будто кто-то другой создал произведение. Она или он должны позволить процессу происходить, но не под его или ее контролем. Художник — это средство, для которого творческий процесс выходит за пределы.Художник и творческий процесс разделены; всегда сюрпризы. Проводится дальнейшее различие между первым и вторым типом художников. Различие основывается на типе деятельности , изложенном художником. Первый тип творческой деятельности считается интровертным и сентиментальным.
Здесь Юнг заимствовал из работы Иоганна Шиллера его концептуализацию сентиментального и наивного. Intraverted относится к идее Юнга о том, что художник сознательно формирует и контролирует произведение искусства.С другой стороны, второй тип творческой деятельности экстравертирован и наивен. Экстравертный относится к идее, что художник позволяет работе контролировать его или ее. Другими словами, бессознательное художника берет верх.
Действие бессознательного считается творческим побуждением или импульсом, который может, в некотором смысле, овладеть человеком. Творческое побуждение возникает из психики и чрезвычайно мощно. Порой желание настолько сильно, что повседневная жизнь уходит на второй план, чтобы творить.Творческий порыв различен для всех людей и варьируется в зависимости от типа производимой работы. Способность понимать оба типа работы тоже разные. Первый тип работы является преднамеренным и понятным. Второй тип произведения выходит за пределы нашего понимания в той же степени, в какой это происходило в то время, когда художник находился в процессе его создания. Изображение, стихотворение или история могут быть поняты только с помощью интуиции и всегда имеют несколько значений. Однако в пределах одного произведения могут быть оба типа выражения.Далее, второй вид искусства производит символ или символы. Символ — это выражение идеи, которую еще нельзя обсудить или сформулировать другим, более ясным способом.
Вербальное выражение не существует. Работы, которые носят символический характер, трудны для понимания и смысл неясен. Они бросают вызов и стимулируют мысли и чувства зрителя или читателя. Напротив, первый тип творческой работы имеет тенденцию быть более привлекательным, потому что он завершен, по сравнению со вторым типом работы.Согласно Юнгу, символы создаются для культуры и духа. Они являются продуктом коллективного бессознательного. Они основаны на интуиции и никогда не планируются. Символы позволяют обществу и человеку направлять энергию из психики в ценные достижения, найденные в искусстве и науке, среди других дисциплин. Примеры символического или визионерского искусства можно найти в работах Пауля Клее, Василия Кандинского, Карло Карра и Пита Мондриана. Этих художников вели визионерские образы их внутреннего мира, которые были неописуемы.
Внутренний мир скрыт даже от самих художников. Эти художники вывели искусство на новый уровень, мистический и духовный, но не религиозный. Проявление духовных и мистических видений находили в картинах, коллажах и необычных фигурах из камня, дерева, металла и стекла. Прослеживание этих выдающихся художников доходит до времени языческих религий. Очень темная природа проникла и была вытеснена в бессознательную психику человечества.Отталкивание тьмы породило еще больше уродства и зла, проявляющихся в виде навязчивых идей, пристрастий и так далее. Произведения начала 20 века (например, Кандинский, Клее, Карра, Мондриан) привели к положительному возрождению первобытного духа в форме архетипических образов.
Часть бессознательного, где рождается искусство, была важна для Юнга. Он считал, что искусство, происходящее из личного бессознательного, было скорее симптомом проблемы или ситуации, чем символом, проявленным из коллективного бессознательного.И наоборот, искусство, великое искусство, созданное из коллективного бессознательного или с помощью архетипических образов, оказывает на зрителя огромное влияние. Наше собственное коллективное бессознательное взбудоражено формой и формой работы художника. Таким образом, искусство продолжает оживлять нашу связь с прошлым так, как это понимает современная культура. Юнг считал, что этот эффект раскрывает социальную значимость искусства и высоко ценит художника. Таким образом, творческий процесс — это способность художников проявлять архетипические образы из глубин своего коллективного бессознательного (что необходимо для осуществления процесса индивидуации).
Таким образом, создание искусства — это то, что Юнг назвал мистикой участия, которая является мистикой или завесой великого искусства. Это движение находится в сфере коллективного бессознательного. Нет необходимости просить художника объяснить его или ее работу (в основном потому, что великое искусство не поддается объяснению), а изучение ее или его жизни не имеет значения и не объясняет творения. Тем не менее, он написал следующее краткое изложение атрибутов художника.
Зигмунд Фрейд — Теория бессознательного
Последнее обновление: 15 ноября 2021 г.
Теория бессознательного, сформулированная Зигмундом Фрейдом, стала важной вехой в истории психологии. Этот странный и увлекательный подземный мир был генератором фантазий, провалов и неконтролируемых импульсов. Это позволило нам, наконец, по-другому взглянуть на психические расстройства. Их больше не будут рассматривать как соматические или церебральные заболевания, а как конкретные изменения психики.
В наши дни многие скептики смотрят на работы отца психоанализа с легкой иронией. Такие понятия, как «зависть к пенису» в развитии женской сексуальности, считаются устаревшими и нелепыми.И тоже всегда найдется кто-то, кто считает их наследие лженаукой. Они считают, что их теории не согласуются с выводами экспериментальной психологии.
«Бессознательное — это самый большой круг, который включает в себя наименьший круг сознательного. Все сознательное имеет предварительную ступень в бессознательном. в то время как бессознательное может остановиться на этом шаге и по-прежнему претендовать на полную ценность психической деятельности».
-Зигмунд Фрейд-
Тем не менее, для тех, кто поддерживает эти идеи, важно указать на ряд основных размышлений.Когда Зигмунд Фрейд впервые опубликовал свою работу о бессознательном, коллеги заклеймили его как «злодея». До этого момента психиатрия основывалась на органике железа или биологическом субстрате. Фрейд был первым, кто заговорил об эмоциональных травмах, душевных конфликтах и скрытых воспоминаниях разума.
Мы, несомненно, могли бы смотреть на его теории со скептицизмом. Но никто не может недооценивать его наследие, его вклад, его революционный подход к изучению разума.А также его подход к личности, к полю сновидений и к необходимости переформулировать психологию, объединив органическое поле со сценарием, в котором царят силы разума. Властвуют бессознательные и инстинктивные процессы. Наших, конечно.
Таким образом, наследие Фрейда не имеет срока годности. И никогда не будет. Настолько, что сегодня нейробиология следует некоторым идеям, постулированным в свое время отцом психоанализа.
Марк Солмс — известный нейропсихолог из Кейптаунского университета.Он напоминает нам, например, что сознательный разум способен обращать внимание на 6 или 7 вещей одновременно. Тем не менее, одновременно, наше бессознательное отвечает за сотни процессов. От чисто органических мыслей, управляемых нервной системой, до многих решений, принимаемых ежедневно.
Если мы отрицаем ценность и значимость бессознательного в нашей жизни, мы тем самым отрицаем большую часть того, чем мы являемся. Большая часть того, что лежит под этой маленькой верхушкой айсберга…
Любопытный случай Анны О
В 1880, году человек, позже известный как «пациент 0», пришел на консультацию к австрийскому психологу и физиологу Йозефу Брейеру. . Этот человек позволил Зигмунду Фрейду заложить основы психотерапии и начать изучать структуру психики и бессознательного.
«Бессознательное человека может реагировать на бессознательное другого человека, не проходя через его сознание».
-Зигмунд Фрейд-
Речь, конечно же, идет об «Анне О», псевдониме Берты Паппенгейм, пациентки с диагнозом «истерия». Ее клинический случай поставил Брера в тупик, заставив его обратиться за помощью к своему коллеге и другу Зигмунду Фрейду. Молодой девушке был 21 год, и с того момента, как она взяла на себя заботу о своем больном отце, она начала страдать от изменений. Они были столь же серьезными, сколь и странными. Ее поведение было настолько странным, что некоторые люди даже осмелились сказать, что она была одержимой.
«Истерические» симптомы Анны О.
- Правда в том, что сам случай не мог быть более своеобразным. Девушка страдала от эпизодов слепоты, глухоты, частичного паралича и глазного косоглазия. Самым ярким симптомом из всех было то, что она потеряла способность говорить или даже общаться на других языках, таких как английский или французский.
- Фрейд и Брейер интуитивно догадались, что ее дистресс выходит за рамки классической истерии. Был момент, когда Берта Паппенгейм перестала пить. Ее состояние было настолько тяжелым, что отец психоанализа прибегнул к гипнозу, чтобы вызвать у нее воспоминание. Она вспомнила, что няня напоила ее из той же емкости, что и ее собаку.После «разблокировки» этого бессознательного воспоминания юная леди снова смогла пить жидкости.
Отсюда сеансы шли по той же схеме – доведение до сознания травм прошлого. Актуальность случая Анны О (Берты Паппенгейм) была такова, что позволила Фрейду ввести новую революционную теорию в свои исследования истерии. Одна о человеческой психике, новая концепция, полностью изменившая основы разума.
Что такое бессознательное для Фрейда?
Между 1900 и 1905 годами Зигмунд Фрейд разработал топографическую модель разума, с помощью которой он описал его структурные и функциональные характеристики. Он использовал аналогию, с которой мы все хорошо знакомы, — аналогию с айсбергом.
- На поверхности находится сознательный разум , в котором происходят все наши мысли и на котором мы фокусируем свое внимание. Эти мысли помогают нашему развитию, используются немедленно и легкодоступны.
- Предсознательный ум накапливает все, что наша память может легко вспомнить.
- Третья и самая важная область — бессознательный разум .Оно обширно, широко, временами безгранично и всегда загадочно. Это та часть айсберга, которую мы не можем видеть и которая фактически занимает большую часть нашего разума.
Концепция бессознательного Фрейда не была новой идеей
Зигмунд Фрейд не был первым, кто использовал этот термин, эту идею. Неврологи, такие как Жан Мартен Шарко или Ипполит Бернгейм, уже говорили о бессознательном. Однако именно Фрейд сделал это понятие основой своих теорий, тем самым придав ему новый смысл:
- Бессознательный мир не выходит за пределы сферы сознательного.Это не абстрактная сущность, а вполне реальный, хаотичный, широкий и существенный пласт ума. Тот, к которому у нас нет доступа.
- Этот бессознательный мир открывается нам во многих отношениях. Через наши мечты, наши умственные ошибки и наши неудачные действия.
- Таким образом, бессознательное является для Фрейда внутренним и внешним. Внутренний, потому что он распространяется внутри нашего сознания, и внешний, потому что он влияет на наше поведение.
С другой стороны, в «Исследованиях об истерии» Фрейд представил концепцию диссоциации в ином и революционном ключе. Способ, который отличался от того, что использовали первые гипнотизеры, такие как Моро де Тур, Бернхейм или Шарко. До этого момента этот механизм разума заключался в том, что отдельные части разума, которые должны быть объединены, хранятся отдельно. К ним относятся восприятия, чувства, мысли и воспоминания. Это объяснялось исключительно соматическими причинами и заболеваниями головного мозга, связанными с истерией.
Фрейд рассматривал диссоциацию как защитный механизм. Это была стратегия разума, с помощью которой он мог отделять, скрывать и подавлять определенные эмоции и переживания в бессознательном, потому что сознательный разум просто не мог терпеть или принимать их.
Структурная модель разума
Мы знаем, что Фрейд не открыл бессознательное. Он не был первым исследователем, использовавшим этот термин, это правда. Однако в году он был первым, кто сделал это понятие конститутивной системой человеческого существа. Фрейд посвятил этой идее всю свою жизнь, вплоть до того, что заявил, что большинство наших психических процессов на самом деле бессознательны. Кроме того, сознательные процессы представляют собой не что иное, как изолированные или фрагментарные действия всего основного субстрата, который является скрытым телом айсберга.
Между 1920 и 1923 годами Фрейд сделал еще один шаг и немного переформулировал свою теорию психики. Затем он представил теорию, известную сегодня как структурная модель психических инстанций, которая включает классические сущности «Ид, Эго и Супер-Эго». Давайте поближе познакомимся с этими сущностями.
Структурная модель психики
- Id: Структура человеческой психики, которая находится на поверхности. Он первым появляется на протяжении всей нашей жизни и контролирует наше поведение в раннем детстве.Этот аспект ищет немедленного удовольствия. Руководствуется инстинктом, самыми примитивными измерениями нашей сущности. Он представляет желания, с которыми мы боремся ежедневно.
- Эго: Когда мы растем и достигаем возраста 3-4 лет, наше представление о реальности начинает развиваться. Здесь возникает наша потребность выжить в контексте, который нас окружает. Таким образом, с развитием нашего «Эго» появляется и новая потребность: потребность контролировать «Ид» в каждый момент времени. Или необходимость совершать действия для удовлетворения своих побуждений социально приемлемым и правильным образом.Точно так же, чтобы гарантировать, что наше поведение не будет наглым или слишком раскованным, мы начинаем использовать защитные механизмы.
- Суперэго: Это измерение возникает в результате социализации, давления со стороны наших родителей и схем нашего социального контекста. Все это передает нам поведенческие правила, ориентиры и ограничения. Эта психическая сущность имеет конечную цель, которая очень конкретна. Его цель — обеспечить соблюдение моральных правил. Это непростая задача.С одной стороны, у нас есть Ид, которое ненавидит мораль и желает удовлетворять ее порывы. А с другой стороны, у нас есть Эго, которое хочет только выжить, сохранить равновесие…
Суперэго противостоит обоим и заставляет нас чувствовать себя виноватыми, например, когда мы чего-то желаем, но не можем этого получить из-за установленных социальных норм.
Важность наших снов как пути к бессознательному
В превосходном фильме Альфреда Хичкока «Зачарованные» мы погружаемся в мир грез главного героя благодаря наводящим на размышления сценам, которые Сальвадор Дали создал для фильма.Правда в том, что мы редко видели этот бессознательный мир с таким совершенством. Эта вселенная скрытых травм, подавленных воспоминаний и скрытых эмоций.
«Толкование снов — это верный путь к познанию о бессознательной деятельности разума»
-Зигмунд Фрейд-
Существует способ пробудить часть этих травмирующих воспоминаний, запертых в самых глубоких уголках разума, — анализ сновидений. Фрейд считал, что постижение мира сновидений является истинным путем к бессознательному.Таким образом, мы можем победить наши защитные механизмы и добраться до всего того содержания, которое подавлено как искаженное, разрозненное и причудливое.
Мир бессознательного в наше время
Теория бессознательного Фрейда в свое время считалась достоверной. Позже его оценили как основу поведенческого анализа и понимания. В настоящее время он рассматривается как теоретический корпус, не свободный от технических ограничений, научных гарантий и эмпирических перспектив.
Сегодня мы знаем, что не все наше поведение, личность или поведение можно объяснить этой бессознательной вселенной. Тем не менее мы знаем, что существуют сотни и тысячи повседневных процессов, которые бессознательны. Это связано с простой умственной экономией, с необходимостью автоматизировать эвристику, позволяющую быстро принимать решения. Это, конечно, чревато увековечиванием некоторых несправедливых ярлыков.
Современная психология и нейронауки не уменьшают ценность бессознательного мира. На самом деле все наоборот. Это увлекательный мир, который имеет большое значение для понимания нашего поведения, повседневного выбора и личных предпочтений.
